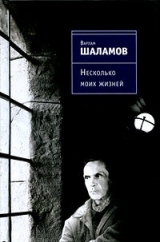
Текст книги "Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела"
Автор книги: Варлам Шаламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 80 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
На Джелгале зимой 45-го года ни Заславского, ни Кривицкого уже не было. Стало быть, Федоров рассчитался со своими помощниками честно. Но за это время явилось на Джелгале лицо, приезд которого был прямо катастрофой для меня. Новым начальником санчасти был доктор Ямпольский – старый мой знакомый по Спокойному. Никаких надежд на получение освобождения от работы у меня не было, я в санчасть не ходил.
Я попал тогда в бригаду 58-й статьи, где бригадиром был Ласточкин – сын крупного работника на КВЖД. Отца расстреляли в это время, а сын, он описан мною в очерке «Артист лопаты», был хуже, чем всякий блатарь. Никаких денег там не платили, хотя и выписывали. Все пропивал бригадир с нормировщиками и блатарями, и на первую попытку заикнуться о деньгах я получил удар по зубам и свалился с ног и подвергся публичному избиению.
Ласточкин был боксер. Его руку знали немало людей на Джелгале. Дневальным у него работал какой-то старый партийный работник, каждый день напивался и плясал перед Ласточкиным для его удовольствия какую-то одесскую пляску под сопровождение: «Я купила два корыта…»
В бригаде Ласточкина работал я недолго и попал в последнюю из моих колымских бригад, в бригаду Шпаковского. Шпаковский держался со всеми в высшей степени сдержанно. Не волновался по поводу невыработки, плохой работы, меньше слушал начальство, чем свое собственное сердце. Я уже совсем начал превращаться в колымского работягу, как вдруг на прииск пришла машина с репатриантами и было объявлено, что Джелгалу отдают репатриантам, а спецзону увозят в западное управление. Настала и моя очередь. Близ Сусумана, в сарае, у меня поднялась температура, я был доставлен в Малую зону Сусумана – транзитку Большой зоны – это барак работяг Сусумана. Малая зона – это огромный барак с четырехэтажными нарами, описанный мною в рассказе «Тайга золотая».
СусуманМалая зона Сусумана 1945 года – одно из моих больших сражений за жизнь.
Меня везли в спецзону, которая еще не была открыта. И задачей было задержаться на транзитке, пока не положат в больницу. Температура прошла, несколько ночей я отбивался от нарядчика, включавшего меня в разные списки к вербовщикам. Я выходил, отвечал, «обзывался».
– На дорожные!
– Не хочу на дорожные. Не могу работать с тачкой. Болен.
– Будешь метлы вязать?
– Сегодня – метлы вязать, а завтра тачку катать.
Всегда при этапах приезжает представитель той организации, которая принимает людей. Представитель обычно вычеркивал меня сам, но иногда приходилось напомнить ему об этом.
– А в сельхоз?
– И в сельхоз не хочу.
– А куда ты хочешь?
– В больницу.
В амбулаторию меня тоже водили, но врач не собирался мною заниматься. Я же в больнице узнал, что в километре от Малой зоны работает мой знакомый врач с Беличьей Андрей Максимович Пантюхов. Вся моя энергия сосредоточилась на том, чтобы известить Пантюхова о том, что я в Малой зоне. Если есть возможность, он, безусловно, поможет. Я дал фельдшеру, не помню его фамилии, записку для Пантюхова. Он сказал, что передал и что Пантюхов ничего не сказал. Я не поверил и попробовал дать записку регистратору больницы. Регистратор:
– Да, я сегодня туда иду, записку отнесу.
В тот же день, поздним вечером в бараке раздался страшный истошный крик:
– Шаламов! Шаламов! Где Шаламов?
Понимая, что это не нарядчик, я скатился с нар.
– Тебя вызывают к зубному.
– Я не записывался к зубному.
– Иди, тебе говорят.
Это был санитар зубного врача. Мы выбрались на улицу, через дорогу, в пяти шагах, была зубная амбулатория. Кто-то в белом полушубке ждал меня в коридоре. Это был Андрей Максимович Пантюхов. Мы обнялись… Я вкратце рассказал о своем положении. Фельдшер, конечно, не передал моей записки.
– Завтра я поговорю с Соколовым, начальником больницы, и вас положат к нам. Я – ординатор хирургического отделения.
Мы расстались, а на следующий день вечером меня вызвали вместе с другими тремя больными и повели пешком в больницу.
Андрея Максимовича я в больнице не застал. Принимал больных сам начальник больницы, доктор Николай Иванович Соколов. Мы не успели сговориться, какой же диагноз будет. Я решил ссылаться на аппендицит. Хирург внимательно осмотрел трех больных, одного за другим, – два были с грыжами, третий с трофической язвой обширной на голени. Настала моя очередь, и, не осматривая меня, доктор Соколов встал и вышел на улицу.
Нас принимал местный санитар. У меня не оказалось белья, и это в высшей степени затруднило прием. Но все-таки какую-то рваную пару завхоз мне выдал, и меня отвели в палату, такую же точно, как все палаты, в которых я лежал на Колыме. Тут же я заснул глубоким сном. К вечеру проснулся – у койки стоял обед и ужин, я все съел и опять заснул. Поздно вечером меня разбудил санитар.
– Тебя вызывает врач.
Я пошел. Андрей Максимович жил при отделении. Стояла каша, чай, сладкий чай, махорка лежала.
– Вы ешьте и рассказывайте.
Так я ходил каждый вечер к Андрею Максимовичу. В это как раз время он и рассказал мне свою жизнь. У него недавно умер фельдшер итальянец. Я стал работать санитаром, ставить градусники, ухаживать за больными.
Но Андрей Максимович договорился с Соколовым, что будет учить меня на фельдшера, держать на истории болезни. Дал мне учебники, их было очень немного, [нрзб] Кое-что рассказывал, но эти занятия почему-то были утомительными для Андрея Максимовича. Андрей Максимович рассказал про историю своего конфликта с Щербаковым[365]365
Щербаков – подполковник, нач. санотдела, отправил тяжело больного А. М. Пантюхова в Усть-Неру, чтобы разлучить его с лагерной женой доктором О. Н. Поповой.
[Закрыть], а раз сказал так:
– Все люди, с которыми вы встречались на Колыме, одетые в белые халаты, – не фельдшеры и не врачи по специальности.
Вам нужно обязательно научиться этому, в сущности, простому делу.
Я стал заниматься. Поэтому каждый раз, когда в больницу поступал какой-нибудь интересный больной, Андрей Максимович будил меня и заставлял смотреть и запоминать. Так однажды Андрей Максимович показал мне больного с газовой гангреной. Больной умирал.
На прииске рубили руки в это время, но саморубов не освобождали от работы – посылали топтать дорогу, а летом заставляли мыть золото одной рукой. Саморубы – это больше самострелы, капсюль в руку – и взрыв сносит ладонь. Очерк «Бизнесмен» рассказан мне доктором Лоскутовым[366]366
О праведнике, как называл Лоскутова Шаламов, хотелось бы рассказать подробнее.
Лоскутов Федор Ефимович (1897–1972) родился в дер. Липовке Рославльского уезда Смоленской губернии. Отец его умер, когда Ф. Е. было три года. Не желая быть обузой для семьи, Ф. Е. в 1910 г. уехал в Москву и мыл посуду в ресторане «Мартемьянович», потом был посыльным и сортировщиком на складе «Боярский двор» на Старой площади. Всегда старался учиться – на курсах для рабочих, у студентов (за уборку квартиры).
В 1916 г. был призван в армию, там направили его на курсы ротных фельдшеров.
В 1918 г. был мобилизован в Красную Армию. Служил фельдшером в разных частях, в том числе во Второй конной армии. «Брал Перекоп, гонялись за Махно», – как пишет он Шаламову. По ранению и контузии был демобилизован в 1920 г., в 1922 году поступил в медицинский институт, который и окончил успешно в 1927 году. Работал врачом-окулистом в Смоленской области.
В 1936 г. арестован и осужден по ст. 58–10 на три года. Обвинения были таковы: восхваление Троцкого, английской конституции и столыпинской системы хуторов.
В 1938 г. арестован повторно, тройкой ОСО осужден на 10 лет за «соучастие в контрреволюционной повстанческой организации».
В 1947 г. арестован и осужден в третий раз по ст. 58–10 и 58–11 на 10 лет и поражение в правах – на 5 лет.
Надо ли пояснять, что обвинения все были фантазией следователей. Видимо, служба под началом Ф. К. Миронова, командира Второй конной армии, убитого в 1921 г. в Бутырской тюрьме, была клеймом на всю жизнь, как литер КРТД для Шаламова.
Освободился по зачетам рабочих дней Ф. Е. в 1954, однако со ссылкой. Реабилитирован был в 1955, а по первому сроку – в 1956 году.
На Колыме он находился с апреля 1937 г. Работал на прииске «Партизан», там же, где и Шаламов, в 1937 году, затем на других ОЛПах, а с 1940 по 1953 – в Центральной больнице для заключенных сначала на 23 км колымской трассы, затем переведенной в пос. Дебин («Левый берег»). Здесь он и познакомился с Шаламовым, в 1946 г. направленным врачом А. М. Пантюховым на курсы фельдшеров.
Сохранились 19 писем Ф. Е. Лоскутова Шаламову за 1955–1968 гг. Шаламов хотел написать рассказ о Лоскутове, даже включил его название в сборник «Перчатка или КР-2»», но так и не написал.
Письма Лоскутова – это безыскусная повесть о добром, одаренном деревенском мальчике, ставшем врачом, чтобы исцелять людей от боли и горя. Он часто присылает Шаламову «темы» – рассказы из своей жизни и врачебной практики: «… Решающее влияние на мой психосклад оказала деревня с ее натуральной помощью ближнему… А если кто умрет, псалтырь ребята почитают.
В лагере были все несчастные, но среди несчастных были более человечные, более гуманные, родственные по духу, независимо от склада ума и образования, за них иногда шел «на плаху»…
«…Я не разделял больных на блатных, бытовиков и политических, которых в сущности и не было, кроме ярлыка, приклеенного МВД. Навара, как Вы знаете, я от них не имел, но убийства среди них приходилось иногда прекращать» (из письма от 4 янв. 1965 г.).
Лоскутов предотвратил покушение блатных на В. Т. Шаламова, который, будучи фельдшером приемного покоя, вел непримиримую войну с симулянтами-блатарями (см. рассказ «В приемном покое»). В рассказе Шаламова «Курсы» несколько страниц посвящено Ф. Е. Лоскутову.
[Закрыть], но я и сам знаю много подобных случаев. Когда же стали посылать на работу с культями руки – стали взрывать ноги. Это было еще проще, капсюль в валенок – и взрыв. Больной с газовой гангреной залежался на прииске. Не было машины довезти. В чертах лица больного я с трудом узнал одного из своих колымских врагов, помощника Королева, который избивал меня за плохую работу. Фамилия его была Шохин. Шохин умер на моих глазах.
Вскоре настал день, когда Андрей Максимович Пантюхов вызвал меня и сказал:
– Вот что, хорошо, пока мы вместе. Колымская судьба разлучает быстро. Ну, отдохнете вы месяца два, ну, поработаете, ну, нравимся друг другу. Но все это слишком непрочно. По-колымски непрочно. Есть возможность самым решительным образом изменить вашу судьбу. Есть запрос из Магадана на фельдшерские курсы годовые с программой, очень уплотненной. Если вы кончите такие курсы, это даст вам права на место под солнцем на все время вашей жизни на Колыме. Нам дают разрешение послать двух человек. Соколов согласен послать от больницы, или, вернее, от санчасти Сусумана – Соколов одновременно начальник санчасти, – согласен послать вас и еще одного человека. Решайте. Я вам советую не обращать внимания на меня, я справлюсь со своими делами сам, и не упустить этой возможности. На курсы принимают бытовиков и 58-й пункт 10, до десяти лет срока. У вас, кажется, именно 58-й пункт 10 со сроком 10 лет.
– Именно так.
– Тогда и думать нечего – ваше решение.
Через два-три дня на рассвете машина повезла в Магадан меня и Кундуша[367]367
Кундуш Вениамин А. – бывший чекист, был репрессирован, вместе с Шаламовым работал в Центральной больнице для заключенных (пос. Дебин). Упоминается в рассказах «Курсы», «Букинист».
[Закрыть] на фельдшерские курсы. Это было ранней весной 46-го года – февраль или март. Оттепель была.
Я приехал в Магадан, держал экзамен на <фельдшерские> курсы, окончил их. Держал экзамен, получил права и начал фельдшерскую работу в центральной больнице УСВИТЛа, на 23-м километре магаданской трассы. Рассказ об этом, документальный до предела, есть в моей записи «Курсы», а также «Вейсманист».
ПантюховПервое отделение, где заведующим был доктор Калембет, традиционно для Колымы пеллогрозно-дизентерийное, считалось инфекционным, состояло из нескольких палаток, то росло, то уменьшалось. Заведующим вторым терапевтическим отделением был молодой врач Андрей Максимович Пантюхов, колымчанин с 1936 года. В 1936 году сибиряк, томич Пантюхов был привезен на Колыму с тремя годами как член семьи видного военного троцкиста. Тут же совершил побег. Беглецы были захвачены оперативкой, и Пантюхов попал на знаменитую и тогда «Серпантинку», провел так свое следствие с рукоприкладством и был приговорен в тогдашнем центре Севера – Н. Хатыннахе к восьми годам дополнительного срока.
Пантюхов был допущен к врачебной работе и работал врачом в 1936 и 1937, и 1938 годах на приисках на Севере – В. Ат-Уряхе, Штурмовом.
С начала войны организовывается Беличья, и Пантюхов стал работать там заведующим отделением.
В это время Андрей Максимович встретился на Колыме с Ольгой Николаевной Поповой, своей соученицей по медицинскому институту. О. Н. Попова была начальницей Санотдела Севера, когда Пантюхов работал на Беличьей (Беличья всего в шести километрах от Ягодного), О. Н. Попова оказывает всяческую поддержку и помощь своему товарищу по учебе.
Эта связь не могла храниться долго в целости. Руки высшего начальства обеспечивали себе стукачей и осведомителей, быстро смогли вмешаться в судьбы Поповой и Пантюхова.
Главный действующим лицом, главным хранителем высшей нравственности был тот самый подполковник Щербаков, который на именинах у начальника больницы Виноградова оторвал голову живому петуху публично.
Щербаков, у которого <в> каждом лагере были свои б… из врачих, в чьих квартирах он пьянствовал и кутил – всякий раз выступая самым строгим хранителем нравственности.
Щербаковские осведомители работали на славу, и Щербаков перевел Попову (члена партии) в Магадан главным врачом больницы, Центральной больницы (на 23 км).
Пантюхов же был оставлен в Беличьей.
В это время Пантюхов заболел. Заболел ни много ни мало как туберкулезом в открытой форме с полостью в легком и прочее.
Все это происходило на моих глазах. Врачи Беличьей (Савоева) хотели отправить Пантюхова на материк – каждый год с Колымы увозили туберкулезных в лагеря Большой земли. Лечение туберкулеза на Колыме тяжело – там болото, топи, а не целебные горы – как расписывали в тридцатые годы, оказались враждебными для легочных больных – разрушительны.
Туберкулезный заключенный отправлялся на материк.
Это, конечно, право имел и Андрей Максимович Пантюхов больше, чем кто другой. Но начальник Санотдела Щербаков объявил все медицинские документы Пантюхова – анализы крови, мокроты, вдуваний – подделкой и по личному категорическому приказу начальника Санотдела Щербакова сняли врача Андрея Максимовича Пантюхова с парохода в Магадане и под конвоем увезли на Усть-Неру – на северный конец Колымской трассы.
На Усть-Нере состояние Пантюхова ухудшилось.
В этом поселке не было врача, который мог бы делать искусственный пневмоторакс, попросту говоря, вдувание. Для этой работы врачи проходят особые курсы.
Щербаков и речи не хотел вести, чтобы возвратить угробленного им человека хотя бы в Беличью, если не в Магадан.
Удалось добиться только того, что Пантюхова переведут в такую точку на Севере, где есть врач, делающий пневмоторакс – такой точкой был Сусуман, доктором – бывший зэка <Калинкин> работал.
Вот так-то Андрей Максимович очутился в Сусумане и работал там врачом-ординатором – в хирургическом отделении. Главным же врачом работал там договорник доктор Соколов.
Вот так я и встретился с Андреем Максимовичем в Сусумане во время моего этапирования из спецзоны Джелгала – где я был после моего побега.
Об этом времени написан мой рассказ «Малая зона», и «Тайга Золотая», и «Домино». С Андреем Максимовичем мы и играли в домино.
Я был в полной уверенности, что Андрей Максимович умер. Как вдруг в 1960 году Лесняк объявил, что Андрей Максимович жив и работает врачом в Павлодаре.
Андрей Максимович был у меня много раз. Живет он сейчас в Павлодаре. Женат. Туберкулез он победил, но, очевидно, средств таких, чтобы начисто вылечиться от туберкулеза еще нет. А. М. был в Москве летом на курсах повышения квалификации. Сохранил интерес к жизни, к событиям, к людям, к своей профессии.
Андрей Максимович Пантюхов и есть тот, благодаря которому я получил в 1946 году эту путевку в Магадан на фельдшерские курсы, успешно их окончил.
На Беличьей я познакомился с ним… хорошо во второй мой приезд, когда я лежал непосредственно у него в отделении.
Туберкулез одолевал его уже тогда, конечно. Каждый вечер Андрей Максимович гулял, гулял, гулял.
А потом известие о его заболевании, об отправке на материк, о смерти от туберкулеза. А потом все оказалось гораздо хуже, чем смерть или болезнь.
Или жизнь есть благо?
У меня есть личные письма Пантюхова, несколько печатных его работ.
Рассказы мои не понравились ему, читать он отказался на половине первого сборника: «Слишком страшно».
Я просил его рассказать поподробнее о «Серпантинке» – ведь как-никак он один из немногих людей, которые вышли оттуда живыми – но рассказ был бледен, сух.
[На 23-м километре]В кладовке, несмотря на страшенный мороз и мохнатые наросты инея на окнах, бутылях, пахло лизолом, карболкой – пахло вагоном, вокзалом. Мы легли в темноте на какие-то холодные банки, бутылки, ящики, обжигающие руки. Я зажег спичку бережно, пряча пламя ее в ладонях, чтоб не было видно огня снаружи, сквозь дверные щели. Я зажег спичку на секунду, чтобы рассмотреть любимое лицо. Глаза Стефы с огромными черными расширенными зрачками приблизились к моему лицу, и я потушил спичку. Я положил ее…
Белый пар шел от наших ртов, и сквозь дверные щели мы видели звездное небо. Стефа на минуту завернула рукав, и тыльной стороной ладони я погладил ее кожу царевны – пальцы мои были отморожены и давно потеряли чувствительность. Я гладил, целовал руки Стефы, и казалось, что на них надеты перчатки, кожаные перчатки с обрезанными пальчиками, губы у меня не были отмороженными, я целовал жесткую, царапающую кожу рук и тонкую горячую кожу кончика каждого пальца.
Я хотел еще раз зажечь спичку, но Стефа не велела испытывать лишний раз судьбу.
Я вышел первым…
Амосов и БеловаОсенью пятидесятого года меня вызвали к главврачу. Главврачом – заместителем начальника больницы Винокурова – был Амосов, новый для больницы человек, но старый колымчанин, бывший зэка.
– Пора тебе возвращаться в больницу, Шаламов.
– Ну что ж, гражданин начальник. Я буду рад снова принять хирургическое отделение.
– Нет, не в хирургическое отделение, нам нужен фельдшер в приемный покой, пойдешь фельдшером к Беловой. Она уезжает.
Белова была женой зам. начальника больницы по хозяйственной части старшего лейтенанта Марьямова. В больнице она училась на зубного врача, ничего не понимая ни в зубном деле, ни в медицине. Образование у Беловой было неполная средняя школа, но ставку зубного врача плюс ставку заведующей приемным покоем она получала исправно – при поддержке ее мужа старшего лейтенанта Марьямова – члена партии, разумеется. В больнице много было разговоров о ее шумных романах, но <мне>, что так, а что как – знать было вовсе неинтересно, да и ненужно. К Беловой так к Беловой.
Фельдшер приемного покоя, заключенный Морозов был переведен на мое место – в лес, а я переехал в приемный покой.
Для Беловой мое назначение было сюрпризом.
Я знал, что это интрига врага Беловой – но не боялся, сейчас так верным образом я добьюсь правды.
Центральная больница для заключенных – огромная больница на тысячу коек. Приемное отделение, где мне предстояло работать было <в> одиннадцать помещений: громадное трехэтажное Т-образное здание, из лучшего материкового кирпича, скреплено лучшим цементом – на Колыме ведь все завозное – было выстроено в 445 километрах от Магадана по самом берегу реки Колыма, у знаменитого моста, который соединял еще в берзинское время правый и левый берега реки. Поселок вырос тут и назван был Левым Берегом. Огромное здание расположено в самом центре Колымы, было выстроено для Колымполка, для воинской части, которая и должна была получить лучшее на Дальнем Севере здание. Но за Колымполком скрывалась дивизия, а позднее и армия, и было ясно, что таких помещений для воинских частей не хватит: левобережный дом был задуман как большая казарма – с хирургическим отделением, с дезкамерой, с гимнастическим залом, с клубом на пятьсот мест. Со сценой красноармейской самодеятельности. Электрический свет поступал от собственной электростанции на угле. А близ электростанции были дома комсостава – двухэтажные особняки, восемь зданий, тоже каменные, как солдатские казармы. Здание было построено на века. Коридоры были залиты цементом; цвет цемента менялся в разных крыльях здания. Батареи центрального отопления, канализационные трубы – это была здесь Колыма будущего. А мебель в клубе была вся резная – отдельные откидные кресла – как у взрослых, где-нибудь в Москве.
Увы, подходила война, и военные специалисты осмотрели это здание. Расположенное на открытом месте, в безлесных сопках, здание было легкой, далеко видимой целью бомбардировщика, прямо-таки привлекало внимание любого пилота, который поднялся бы в колымское небо. Не знаю, судили за вредительство кого-то из начальства – вполне возможно, что и судили. А возможно, что все возможные вредители были расстреляны к этому времени. Словом, наркомат обороны отказался от этого здания, нового здания и спешно вывел воинские части в землянки, в распадки, в расселины, в низины…
Помещение осталось свободным, и Магадан передал его больнице, Санотделу Правительство утвердило эту передачу, Колыма заполнялась заключенными, нужна была Центральная больница для зэка.
Колымполк ушел. Но он ушел по-русски, как уходит квартирант в Москве из квартиры – вывинчивая все лампочки, вывертывая трубы, снимая отопительные батареи, разбивая стекла.
Даже резные лебеди в клубе были сожжены – начальство топило электростанцию, может, день или, может, час.
Но было решено, что арестанты все превозмогут, и Санотдел принял эти мертвые корпуса. Около года длились восстановительные работы. Я приехал в эту больницу в январе 1947 года, сразу после окончания фельдшерских курсов. Курсы и были при этой больнице – теперь же переезжали. Больные были размещены на полу на третьем этаже, в углу, и врачи с блеском вели осмотры, лечение.
Арестантский труд – бесплатный труд, вдвойне бесплатный – всех больных заставили работать или держали выздоравливающих на «истории болезни». На Колыме очень трудно разобрать, кто здоров, а кто болен.
Уже в 1948 году было там два хирургических отделения – чистое и гнойное, два терапевтических, нервно-психиатрическое, женское отделение, два больших туберкулезных отделения, кожно-венерологическое, а одно крыло было отдано вольнонаемным больным.
Центральную больницу для заключенных всегда мучил вопрос: кого она обслуживает и как увязать режим, за которым особое наблюдение, с болезнью человека, был контингент и тюремный.
Я сам видел в личном деле одного из таких приговоренных в Москве, официально оформленном – к десятилетнему тюремному заключению в тюрьме Хинковой – это был прииск Колымы, где была устроена, говорят, подземная тюрьма.
Были троцкисты КРТД – за которыми при всех их перемещениях нужен был глаз, внимание и бдительность.
Эту лестницу заимствовал Гитлер у Сталина во времена Беломорканала.
Вольнонаемный состав Колымы, который попадал в вольное отделение, тоже в то время имел много ступеней.
Были договорники. Договорник партийный – элита, вольняшки. По идее, бывшие зэка – люди явно второго сорта, у которых всегда можно отнять права. Ссыльные, которые отмечаются ежемесячно.
Были целые прииски, куда были завезены люди с материка по вольному найму с семьями, работавшие в местах, где автоматчики не разрешают подъезжать ближе, чем за 30 километров. Это называлось «Контингент Д», и к колымским проблемам отношения он не имел.
Были заключенные, завезенные из Москвы на постоянную жизнь, в судьбу которых колымское начальство не имело право вмешиваться, так, в больнице нашей жили инженеры из Китая, геологи в ведомстве генерала Баранникова.
Здание Центральной больницы торчало в сопках как рыцарский замок и было опасно <стратегически> в век атомных бомб и реактивных самолетов.
В приемном покое этой больницы мне и надлежало поработать.
Больницу захлестывал поток воров, прибывающих со всей Колымы по врачебным путевкам на отдых.
«Суки» – второй воровской орден – делали несколько вылазок, попыток захватить вооруженной рукой помещение больницы, укрепить сучью власть, водрузить сучье знамя в центре Колымы – эти попытки кончились кровью. Убивали в больнице чуть не каждый день. Бегали блатные с ножами друг за другом, клали топоры под подушки. Никакие приказы, мольбы помочь тут не могли.
Я знал, конечно, о всех этих делах – как не знать, – убивали в больнице каждый день.
– Ну, что ж, – сказал я Амосову. – Ладно. Только мне надо одно: чтоб меня поддержали твердой рукой. А то второе мое колымское дело – я дал по морде Заславскому, а он написал, что я восхвалял Гитлера – меня судили, и я получил 10 лет. Не будет так?
– Не бойся. Иди к Беловой прямо с одной инструкцией – не исполнять ни одного ее распоряжения.
Амосов был неплохой мужик, старый колымчанин, сам отработал в забое положенный годовой срок. Специалист – ни врач, ни ученый, не был избавлен от этой трудовой карьеры, которой Ежов придавал величайшее политическое значение. Все катали тачки, хирурги и экономисты, бухгалтеры и психиатры, физики и метафизики, подпольщики с дореволюционным стажем и комсомольцы, все и счетоводы – как Калембет называл интеллигентов. Первыми из этой карьеры вышли бухгалтеры – было разрешение считать раньше, чем лечить и строить.
Амосов тоже год катал тачку и хорошо запомнил роль блатарей в избиении пятьдесят восьмой статьи, когда блатари палками выбивали план из троцкистов и фашистов.
Амосов кончил срок, работал на административной работе. Главврач большой больницы. Но он был отравлен Колымой. Он пил и пил каждый день, пока не падал с ног. Человек железного здоровья. Утром он умывался и, чуть покачиваясь и отдуваясь, двигался в кабинет. Ровно в 9 часов он начинал прием.
Амосов женился даже на какой-то молодой договорнице, которую звал и сам и все работники больницы Аней. Однажды мне случилось быть на вольном поселке ночью. В квартире Амосова – он жил на втором этаже – горел свет, и Амосов стоял на балконе. Рядом стояла в одеяле и ночной рубашке его жена, его Аня.
– Прыгай, блядь! – кричад Амосов на жену, указывая с балкона. – Прыгай!
Но Аня вернулась в комнату, и главврач задернул занавеску.
Потом Амосов работал и жил в Магадане – в пятьдесят первом году я встретил его на улице, когда пытался уехать из Магадана на материк.
А потом – я еще был на Колыме, в Адыгалахе, в дорожном управлении – Амосов умер, от инфаркта.
Я познакомился с Беловой.
– Ты здесь работать не будешь!
– Ну не буду, так не буду. А так от меня требует главный врач, поэтому мы тут кое-что переставим.
Белова исчезла и не ходила в приемный покой дня два. На третий день меня вызвал Амосов.
– Вот я тебе прочту рапорт Беловой.
Начальнику Центральной больницы М. А. Винокурову заведующей приемным покоем B.C. Беловой. Рапорт.
В приемный покой на должность фельдшера назначен заключенный Шаламов неоднократно осужденный за контрреволюционные преступления, как мне удалось выяснить в спецчасти, з/к Шаламов был осужден в 1929, 1937, в 1943 году, является кадровым троцкистом и врагом народа. Я не могу работать в окружении таких махровых контрреволюционеров и преступников, как Шаламов.
С работой в приемном покое справляюсь. В этом назначении я вижу руку немецкой разведки, которая внедряет троцкистских агентов в нашу больницу.
К тому же Шаламов груб и вчера дважды довел меня до истерики. Моих распоряжений он не выполняет.
Прошу немедленно решить этот важный государственный вопрос.
В. С. Белова.
А какое мнение начальника больницы?
– Вот, – и Амосов протянул мне рапорт Беловой, где Винокуров написал поперек листа своим уверенным почерком опытного колымского администратора, которому встречались и не такие проблемы:
«Тов. Амосову. Приучите своих подчиненных по таким вопросам обращаться лично к вам. М. Винокуров».
– А почему ты груб? Почему она пишет: груб так, что у нее было два истерических припадка. Матом ты ее, что ли?
– Ну, что вы? Каким матом? Пальто просто не подал.
– Так подай! Подай пальто! – Амосов выскочил из-за стола. – Подай даме пальто. Ведь тут двойная субординация: она начальник – ты подчиненный. Она женщина – ты мужчина. Двойная субординация.
– Даже тройная, – сказал я. – Она – вольная. Я – заключенный.
– Совершенно верно. Тройная субординация. Чего тут думать! Подай пальто. Так подай, подай ей пальто. Клянусь тебе, больше недели Белова здесь не проработает. А за неделю она успеет поднять все колымские архивы – и левобережный и магаданский, да еще московский подымет, до Москвы доберется. Подай, подай этой даме пальто.
– Не обещаю, гражданин начальник, – сказал я.
– А почему она пишет, что ты не выполняешь ее распоряжений.
– Так ведь вы сами сказали: единственная инструкция – не выполнять ее распоряжений.
– Да ведь я фигурально.
– Да и я – фигурально.
– Так в чем дело?
А дело было в том, что все восьмь санитаров приемного покоя, чувствуя новый курс, не выполняли распоряжений Валентины Семеновны. Санитары, правда, не говорят, что я приказал им так делать, а подходили ко мне и спрашивали:
– Валентина Семеновна сказала, что надо сделать – то-то. Делать?
В этом вопросе была и утонченная месть арестанта-раба, и самый обыкновенный расчет – не ошибиться бы, вдруг завтра меня выкинут из приемного покоя, на штрафной прииск загонят, если я выполню приказания бывшего, но юридически еще существующего начальника. Я всегда отвечал: «Да, делать так, как сказала Валентина Семеновна, и не спрашивать меня больше об этом». Но вопросы – и ее любимец Гриша Рогоз спрашивал, и ненавидимый ею Гриневич, спрашивал и работяга Ильиных, и лодырь Савиных – все спрашивали после приказаний Валентины Семеновны у меня – слушать, выполнять ли им распоряжения.
В конце концов неделя – дело небольшое, и настал час, пришла суббота – банный день. В приемном покое мылась семья Беловой – ее дети и муж, много часов подряд, хотя у нас не было парилки. Перед субботой Валентина Семеновна подчеркнуто любезно обратилась ко мне: разрешу ли я ей мыться в приемном покое.
Я тотчас же принял это обращение всерьез, собрал всех санитаров.
– Эй – Гриша, Петя! Ваня! Миша! Валентина Семеновна будет мыться здесь. Так чтобы все было так, как раньше. Отвечаете мне головой.
А в следующую субботу Валентина Семеновна уже мылась со всей своей семьей в поселке, в бане для вольнонаемных.
Через неделю Белова уехала на прииск, где работала начальницей санчасти, и даже больные с этого прииска на Левый берег поступали. В одном из эпикризов был диагноз: «Холецистит левой почки и подпись: Начальник санчасти врач В. Белова».








