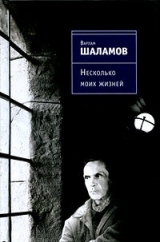
Текст книги "Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела"
Автор книги: Варлам Шаламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 80 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
Ведь такая программа не то что убила поэзию, почувствовалось, где поэтом совершен [нрзб]. Не талант требуется, только прогрессивные взгляды и нравственное достоинство – и все.
Эта вредная позиция заморочила голову и Пастернаку [нрзб]. Путь Пастернака к опрощению стиха потрясает.
Вот уж кто наступил на горло собственной песне. И зачем?
«Записки из Мертвого дома» не пользовались популярностью – не книга, говорил Онже. И он же восхищался «Селом Степанчиковым» и многократно рассказывал эту повесть в часы «тисканья романов».
С кем куришь?
Враг – единственная защита.
Книга открывалась сама на смятых и загнутых страницах – на 137 странице открывалась книга моей жизни.
«Один из моих товарищей по ссылке, как я слышал, стал в разгар революции комиссаром Севера, известным своей жестокостью и кровожадностью. Я с ним почти не имел общения, но он производил впечатление добродетельного фанатика…»
Что это? История? Психология? Нет, это начало книги моей жизни[562]562
Приведенный отрывок относится к Михаилу Сергеевичу Кедрову (1878–1941), деятельность которого по «предотвращению мятежа» резко отрицательно описана Шаламовым в его повести о детстве и юности «Четвертая Вологда».
[Закрыть].
Двадцатые годы были временем, когда в явь, в живых примерах были показаны все многочисленные варианты, тенденции, которые скрывала революция.
ед. хр. 135, оп. 2
Школьные тетради с записями бесед с А. И. Солженицыным.
1963 г.
30 мая после получения письма дал телеграмму и стал ждать 2-го в воскресенье приезда.
2 июня. Солженицын. Рассказ «Для пользы дела».
– Я считаю вас моей совестью и прошу посмотреть, не сделал ли я чего-нибудь помимо воли, что может быть истолковано как малодушие, приспособленчество.
Пьеса «Олень и Шалашовка» задержана по моей инициативе. Театр (Ефремов) настаивал, чтоб дал в театр читать, чтобы понемногу готовить, но я отказался наотрез. Я написал две пьесы («Олень и Шалашовка» и «Свеча на ветру»), роман, киносценарий «Восстание в лагере»[563]563
А. И. Солженицын. Киносценарий «Знают истину танки».
[Закрыть].
Получил огромное количество писем. Написал пятьсот ответов. Вот два – одно какого-то вохровца, ругательное за «Ивана Денисовича», другое горячее, в защиту. Были письма от з/к, которые писали, что начальство лагеря не выдает «Роман-газету». Вмешательство через Верховный суд.
В Верховном суде несколько месяцев назад я выступал. Это – единственное исключение (да еще вечер в рязанской школе в прошлом году). Верховный суд включил меня в какое-то общество по наблюдению за жизнью в лагерях, но я отказался.
История с журналом «Пари-Матч». Там «Международная книга» заключила договор с коммунистическим издательством на «И<вана> Д<енисовича>».
Солженицын <в> «Пари-Матч» напечатал куски с проволокой колючей.
Предисловие к французскому изданию написал Пьер Дэкс. Когда издательство фр<анцузское> протестовало по поводу поведения «Пари-Матч», журнал написал мне письмо, где обращает мое внимание, что автор предисловия к «ИД» Пьер Дэкс – тот самый корреспондент «Юманите» в Москве, который когда-то, лет пятнадцать-семнадцать назад выступал свидетелем на процессе Кравченко[564]564
Кравченко Виктор Андреевич работал в США в комиссии по приему военного оборудования для СССР, в апреле 1944 скрылся и получил право проживания в США. Написал книгу «Я выбираю свободу». В 1947 эта книга вышла во Франции, а в «Леттр франсез», еженедельнике, органе французской компартии, появилось сенсационное разоблачение «Как был сфабрикован Кравченко» со ссылкой на некоего агента ФБР.
Кравченко подал в суд за клевету. Суд состоялся в 1949 г. и, хотя на стороне ответчиков был цвет интеллигенции – Жолио-Кюри, Вл. Познер, епископ Кентерберийский X. Джонсон, писатель Пьер Декс и др., Кравченко выиграл дело.
Пьер Декс, писатель, узник Маутхаузена, участник Сопротивления, впоследствии изменил свои взгляды, написал предисловие «Обман и опьянение» ко второму изданию книги Кравченко во Франции (1980), а также – предисловие к произведению А. И. Солженицына.
Подробнее см. Б. Носик. «Этот странный парижский процесс», М., 1991.
[Закрыть] и под присягой показал, что в СССР нет лагерей. Атеперь пишет предисловие к повести о лагере («И.Д.»).
Вторая пьеса («Свеча на ветру») будет читана в Малом театре.
А. Солженицын. 26 июля 1963 года. Приехал из Ленинграда, где месяц работал в архивах над новым своим романом. Сейчас – в Рязань, в велосипедную поездку (Ясная Поляна и дальше вдоль рек), вместе с Натальей Алексеевной[565]565
Решетовская Наталья Алексеевна – первая жена А. И. Солженицына. Умерла в 2003 г., похоронена в Рязани.
[Закрыть]. Бодр, полон планов. «Работаю по двенадцать часов в день». «Для пользы дела» идет в седьмом номере «Нового мира». Были исправления незначительные, но неприятные. За границей об «Иване Денисовиче» писали много, английские статьи (до 40) читал со словарем. Разных позиций, самых разных. И то, что это «одна политика» (перевод «Ивана Денисовича» был посредственный, тональность исчезла), и то, что это «начало правды», «большой творческий успех». Весь мир переводил, кроме ГДР, где Ульбрихт запретил публикацию.
«Новый мир». Твардовский расположен. Члены редакции остались к Солженицыну безразличны, как писатели.
Об отказе театра от пьесы («Олень и Шалашовка») писали все газеты Запада. Китай. Перспектива.
«Хотел писать о лагере, но после Ваших рассказов думаю, что не надо. Ведь опыт мой, четырех по существу лет (четыре года благополучной жизни)».
Сообщил (я) свою точку зрения на то, что писатель не должен слишком хорошо знать материал.
Разговор о Чехове.
Я: Чехов всю жизнь хотел и не мог, не умел написать роман. «Скучная история», «Моя жизнь», «Рассказ неизвестного человека» – все это попытки написать роман. Это потому, что Чехов умел писать только не отрываясь, а без отрыва можно написать только рассказ, а не роман.
Солженицын: причина, мне кажется, лежит глубже. В Чехове не было устремления ввысь, что обязательно для романиста – Достоевский, Толстой.
Разговор о Чехове на этом кончился, и я только после вспомнил, что Боборыкин, Шеллер – Михайлов[566]566
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921) – писатель, автор популярных романов «Дельцы», «Китай-город», «Василий Теркин» и др.
Шеллер (пс. Михайлов) Александр Константинович (1838–1900) – писатель, автор популярных романов «Гнилые болота», «Жизнь Щукова, его родных и знакомых» и др.
[Закрыть] легко писали огромные романы без всякого взлета ввысь.
Солженицын: стихи, которые я привозил печатать («Невеселая повесть в стихах») – это доведенные до «кондиции» выборки из большой поэмы, там есть хорошие, как мне кажется, места.
Приглашал на сентябрь в Рязань для отдыха.
Написал три пьесы, роман, киносценарий.
ед. хр. 136, оп. 2
Записи в тетрадях и на отдельных листах, пронумерованных автором с пометой «С» или прямым упоминанием А. И. Солженицына.
(1960-е – I пол. 1970-х гг.)
– Для Америки, – быстро и наставительно говорил мой новый знакомый[567]567
Шаламов познакомился с А. И. Солженицыным в редакции «Нового мира» в 1962. Считая, что повесть «Один день Ивана Денисовича» может поднять лагерную тему в литературе, просил показать А. Твардовскому свои стихи и рассказы, лежавшие без движения в редакции. Однако Солженицын передал Твардовскому через секретаря без всяких комментариев только стихи Шаламова.
[Закрыть], – герой должен быть религиозным. Там даже законы есть насчет (этого), поэтому ни один книгоиздатель американский не возьмет ни одного переводного рассказа, где герой – атеист, или просто скептик, или сомневающийся.
– А Джефферсон, автор Декларации?
– Ну, когда это было. А сейчас я просмотрел бегло несколько ваших рассказов. Нет нигде, чтобы герой был верующим. Поэтому, – мягко шелестел голос, – в Америку посылать этого не надо, но не только. Вот я хотел показать в «Новом мире» ваши «Очерки преступного мира». Там сказано – что взрыв преступности был связан с разгромом кулачества у нас в стране – Александр Трифонович не любит слова «кулак». Поэтому я все, все, что напоминает о кулаках, вычеркнул из ваших рукописей, Варлам Тихонович, для пользы дела.
Небольшие пальчики моего нового знакомого быстро перебирали машинописные страницы.
– Я даже удивлен, как это вы… И не верить в Бога!
– У меня <нет> потребности в такой гипотезе, как у Вольтера.
– Ну, после Вольтера была Вторая мировая война.
– Тем более.
– Да дело даже не в Боге. Писатель должен говорить языком большой христианской культуры, все равно – эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе.
Колыма была сталинским лагерем уничтожения, все ее особенности я испытал сам. Я никогда не мог представить, что может в двадцатом столетии (появиться) художник, который (может) собрать воспоминания в личных целях.
Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным?
Прежде всего потому, что я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына.
– При ваших стремлениях пророческого рода денег-то брать нельзя, это вам надо знать заранее.
– Я немного взял…
Вот буквальный ответ, позорный.
Я хотел рассказать старый анекдот о невинной девушке, ребенок которой так мало пищал, что даже не мог считаться ребенком. Можно считать, что его не было.
В этом вопросе нет много и мало, это – качественная реакция. И совести нашей, как адепта Бога [нрзб].
Но передо мной сияло привлекательное круглое лицо.
– Я буду вас просить – деньги, конечно, эти деньги идут не из-за границы [нрзб].
Я не встречался с Солженицыным после Солотчи.
Символ «прогрессивного человечества» – внутрипарламентской оппозиции, которую хочет возглавить Солженицын – это трояк[568]568
В 60-е годы были приняты пожертвования в пользу опальных, но Шаламов не принимал приношения, желая сохранить свою независимость, не связывая ее какими-либо моральными обязательствами. Ведь даже и в лагере он отказался от помощи семьи (посылок). После всего, что он вынес, он хотел независимости.
[Закрыть], носитель той <миссии> в борьбе с советской властью. Если этот трояк и не приведет к немедленному восстанию на всей территории СССР, то дает ему право спрашивать:
А почему у писателя Н. герой не верит в Бога? Я давал трояк, и вдруг… Деньги назад!
Чем дешевле был «прием», тем больший он имел успех. Вот в чем трагедия нашей жизни. Это стремление к заурядности, как реакция на войну (все равно – выигранную или проигранную).
В одно из своих [нрзб] чтений в заключение Солженицын коснулся и моих рассказов.
– Колымские рассказы… Да, читал[569]569
Вряд ли А. Солженицын внимательно читал рассказы Шаламова, видимо, только «бегло просмотрел». В своих воспоминаниях («Новый мир», 1999, № 4) он искаженно интерпретирует рассказ «Надгробное слово» – совершенно, видимо, не зная его содержания.
[Закрыть]. Шаламов считает меня лакировщиком. А я думаю, что правда на половине дороги между мной и Шаламовым.
Я считаю Солженицына не лакировщиком, а человеком, который не достоин прикоснуться к такому вопросу, как Колыма.
На чем держится такой авантюрист?
На переводе!
На полной невозможности оценить за границами родного языка, те тонкости художественной ткани (Гоголь, Зощенко) – навсегда потерянной для зарубежных читателей.
Толстой и Достоевский стали известны за границей только потому, что нашли переводчиков хороших. О стихах и говорить нечего. Поэзия непереводима.
Для заграничного издателя, принимающего новый роман нового светила, важно нечто вовсе примитивное…
Гениальность Чехова только тогда получила признание за рубежом, когда нашли переводчика достойного.
Тайна Солженицына заключается в том, что это – безнадежный стихотворный графоман с соответствующим психическим складом этой страшной болезни, создавший огромное количество непригодной стихотворной продукции, которую никогда и нигде нельзя предъявить, напечатать. Вся его проза от «Ивана Денисовича» до «Матрениного двора» была только тысячной частью в море стихотворного хлама.
Его друзья, представители «прогрессивного человечества», от имени которого он выступал, когда я сообщал им свое горькое разочарование в его способностях, сказав: «В одном пальце Пастернака больше таланта, чем во всех романах, пьесах, киносценариях, рассказах и повестях, и стихах Солженицына», – ответили мне так: «Как? Разве у него есть стихи?» <…>
А сам Солженицын, при свойственной графомании амбиции и вере в собственную звезду, наверно, считает совершенно искренне – как всякий графоман, что через пять, десять, тридцать, сто лет наступит время, когда его стихи под каким-то тысячным лучом прочтут справа налево и сверху вниз и откроется их тайна. Ведь они так легко писались, так легко шли с пера, подождем еще тысячу лет.
Это заметила и Анна Ахматова, которой в частной аудиенции было предъявлено новое светило.
Поскольку для поэта честность в этом отношении <выше> всего, неподобающее суждение о поэзии <Солженицына> Ахматова занесла в дневник.
– Ну что же, – спросил я Солженицына в Солотче, – показывали вы все это Твардовскому, вашему шефу?
Твардовский, каким бы архаическим пером ни пользовался, – поэт и согрешить тут не может.
– Показывал.
– Ну, что он сказал?
– Что этого пока показывать не надо <…>
Главный закон, который я <исповедую> и который всем шестидесятисемилетним опытом <подтвержден>, – «не учи ближнего своего».
О работе пророка я тогда же вам говорил, что «деньги тут брать нельзя – ни в какой форме, ни сегодня, ни завтра».
Солженицын десять лет проработал в наших архивах. Всем было объявлено, что он работает над важной темой: Антоновским мятежом[570]570
Антоновский мятеж – восстание крестьян Тамбовской и отчасти Воронежской губернии в 1920–1921 под руководством А. С. Антонова, заключенного в царское время в Шлиссельбург. Восстание было жестоко подавлено частями Красной армии, ВЧК, ВОХР и ЧОН под общим руководством М. Н. Тухачевского. См. рассказ Шаламова «Эхо в горах».
[Закрыть].
Мне кажется, что главных заказчиков Солженицына не удовлетворила фигура главного героя Антонова. Как-никак, кулак-то кулак, но и бывший народоволец, бывший шлиссельбуржец.
Безопаснее было отступить в стоходские болота и там выуживать поэтическую истину. Но истины в «Августе 1914» не оказалось.
Невозможно и предположить, чтобы продукцию такого качества, как «Август 1914» мог в нынешнем или прошлом веке доставить в редакцию любого журнала мира – и роман примут к печати. За два века такого слабого произведения не было, наверное, в мировой литературе.
Правда, на этих двухстах с чем-то страницах лежит знакомый, истинно солженицынский штамп: «Часть 1-я».
Дескать, все исправлю во второй части. Все, что пишет С<олженицын>, по своей литературной природе совершенно реакционно.
Общая тетрадь зеленого цвета. На обложке надпись: «I Солженицын» (47 л.)[571]571
Письмо печатается в сокращении.
[Закрыть]
Г<осподин> Солженицын,
я охотно принимаю Вашу похоронную шутку насчет моей смерти. С важным чувством и с гордостью считаю себя первой жертвой холодной войны, павшей от Вашей руки.
Если уж для выстрела по мне потребовался такой артиллерист, как Вы, – жалею боевых артиллеристов.
Но ссылка на «Литературную газету» не может <быть> удовлетворительной и дать смерть. Дают ее стихи или проза.
Я действительно умер для Вас и Ваших друзей, но не тогда, когда «Литгазета» опубликовала мое письмо[572]572
По поводу письма В. Шаламова в «ЛГ» 15.02.72 с протестом против зарубежных публикаций его произведений в политических целях без согласия автора, в разрозненном виде и произвольной композиции Солженицын в своей книге «Бодался теленок с дубом» (опубл. 1975) высказался весьма резко: «Варлам Шаламов умер». Не отправленное письмо Шаламова является ответом на эту жестокую реплику бывшего «брата», адресованную больному и бесправному человеку. При этом сам А.С. выступал с отречениями от публикации за рубежом своих произведений («ЛГ», 1968, № 20).
[Закрыть], а гораздо раньше – в сентябре 1966 г.
(В Солотче Шаламов гостил у Солженицына осенью 1963 г.)
И умер для Вас я не в Москве, а в Солотче, где гостил у Вас и, впрочем, всего два дня, я бежал в Москву тогда от Вас, сославшись на внезапную болезнь.
По возвращении в Москву я немедленно выкинул из квартиры Ваших друзей и секреты <…>
Что меня поразило в Вас – Вы писали так жадно, как будто век не ели и [нрзб] было похоже разве что на глотание в Москве кофе. <…> По Вашей просьбе я прочел за три ночи <…> тысячи стихов и другую прозу <…>.
Ваше чрезмерное увлечение словарем Даля принял просто за шутку, ибо Даль – это Даль, а не боль <…>.
Я подумал, что писатели [нрзб] разные, но объяснил Вам о методах своей работы.
– Вы знаете, как надо писать. Я нахожу человека и описываю его, и все.
Этот ответ просто вне искусства <…>
Поэзия – вся в языке, вся непереводима.
Прозу-то нельзя перевести.
Оказывается, главная цель приглашения меня в Солотчу не просто работать, не скрасить мой отдых, а «узнать Ваш секрет».
Дело в том, что, кроме «превосходных романов, отличных повестей, <со> стихами – плохо».
Вы <их> написали невообразимое количество, просто горы. Вот эти-то стихи мне и довелось почитать в Солотче еще две ночи, пока на третье утро я не сошел с ума от это графоманского бреда, голодный добрался до вокзала и уехал в Москву. <…> Там не было стихов.
Тут я должен сделать небольшое отступление, чтобы Вы поняли, о чем я говорю.
Поэзия – это особый мир, находящийся дальше от художественной прозы, чем, например, <статья по> истории.
Проза – это одно, поэзия – это совсем другое. Эти центры и <в> мозгу располагаются в разных местах. Стихи рождаются по другим законам – не тогда и не там, где проза <…> В поэме Вашей не было стихов. <…> Конечно, давать свои вещи в руки профана я не захотел <…>
Я сказал Вам, что за границу я не дам ничего – это не мои пути [нрзб], какой я есть, каким пробыл в лагере.
Я пробыл там четырнадцать лет, потом Солженицыну… [нрзб]
Колыма была сталинским лагерем уничтожения, и все ее особенности я испытал сам <…>
Я никогда не мог представить, что после XX съезда партии <появится> человек, который <собирает> воспоминания в личных целях. <…>
Главная заповедь, которую я блюду, в которой жизни всех 67 лет опыт – «не учи ближнего своего».
О работе пророка я тогда же Вам говорил, что «денег тут брать нельзя» – ни в какой форме, ни в подарок, ни за <слово>. <…>
Я считаю себя обязанным не Богу, а совести и не нарушу своего слова, несмотря на особые выстрелы пиротехнического характера. <…>
Я не историк, свои сборники почитаю ответом. Я не умер, для меня честнее <…> рассказы, стихотворения.
Я буду художником. <…> Мне дорога форма вещи, содержание, понятое через форму. <…> Вы никогда ничего не получите. <…>
И еще одна претензия есть к Вам, как представителю «прогрессивного человечества», от имени которого Вы так денно и нощно кричите о религии громко: «Я – верю в Бога! Я – религиозный человек!»
Это просто бессовестно. Как-нибудь тише все это надо Вам <…>
Я, разумеется, Вас не учу, мне кажется, что Вы так громко кричите о религии, что от этого будет <внимание> – Вам и выйдет у Вас заработанный результат.
Кстати – это еще не все в жизни. <…>
Теперь о Боге.
За все 67 лет моей жизни я не обольщался этой <идеей>. Не пришлось. Поэтому я плюю на все советы <этого плана>[573]573
Шаламов имеет в виду советы ввести верующего героя «Колымских рассказов» (см. начало ед. хр. 136).
[Закрыть] <…>
Я знаю точно, что Пастернак был жертвой холодной войны, Вы – ее орудием. <…>
На это письмо я не жду ответа <…>
«Вы – моя совесть»[574]574
См. запись Шаламова 30 мая 1963 (ед. хр. 135).
[Закрыть]. Разумеется, я все это считаю бредом, я не могу быть ничьей совестью, кроме своей, и то – не всегда, а быть совестью Солженицына… <…>
1974
Переписка
Переписка с Пастернаком Б. Л.
В.Т. Шаламов – Б.Л. ПастернакуПРИМЕЧАНИЯ
Переписка В.Т. Шаламова с Б.Л. Пастернаком началась в 1952 г. В 1951 году он освободился из лагеря, однако выехать на Большую землю ему не удалось. Он работал фельдшером в маленьком поселке Якутии, близ аэропорта Оймякон. Кругом была тайга, снега, мороз, лагерные бараки. Писать прозу или стихи было занятием подозрительным. Однако он отправил две тетрадки своих стихов высшему поэтическому авторитету – Б.Л. Пастернаку: их захватила с собой уезжавшая в отпуск врач Елена Александровна Мамучашвили. Жена Шаламова Галина Игнатьевна Гудзь с помощью Наталии Александровны Кастальской и В.П. Малеевой, знакомой Пастернака, передала эти тетради Пастернаку. Впоследствии некоторые из этих стихов в переработанном виде вошли в «Колымские тетради» – сборник стихов Шаламова 1937–1956 гг.
Переписка охватывает, пожалуй, самые драматические годы жизни поэтов: Пастернак работает над романом «Доктор Живаго» и переживает бурю в связи с его публикацией за рубежом, Шаламов буквально воскресает из мертвых, со страстью пишет дни и ночи, пишет стихи и рассказы, словно беря реванш за долгие годы бесправия и молчания.
Переписка прервалась из-за ссоры Шаламова с О.В. Ивинской, которая имела большое влияние на Пастернака, но об этом – в переписке Шаламова и О. Ивинской.
Борис Леонидович.
Примите эти две книжки[575]575
Воспоминания Е.А. Мамучашвили «В больнице для заключенных» см. «Шаламовский сборник», вып. 2, Вологда, 1997.
[Закрыть], которые никогда не будут напечатаны и изданы. Это лишь скромное свидетельство моего бесконечного уважения и любви к поэту, стихами которого я жил в течение двадцати лет.
В. Шаламов
22.11–1952.
Адрес мой, если захотите ответить: Хабаровский край, поселок Дебин, Центральная больница – Шаламов Варлам Тихонович.
Еще лучше написать через мою жену: Москва, 34, Чистый пер., 8, кв. 7. Галина Игнатьевна Гудзь.
Арбат 6–32–50
Б.Л. Пастернак – В.Т. Шаламову9 июля 1952
Дорогой Варлам Тихонович!
В середине июня Ваша жена передала мне две Ваши книжки и записку. Я тогда же по собственному побуждению пообещал ей, что напишу Вам. Это очень трудно сделать.
Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью Вашей судьбы и перед свежестью Ваших задатков (острой наблюдательностью, даром музыкальности, восприимчивостью к осязательной, материальной стороне слова), доказательства которых во множестве рассыпаны в Ваших книжках. И я просто не знаю, как мне говорить о Ваших недостатках, потому что это не изъяны Вашей личной природы, а в них виноваты примеры, которым Вы следовали и считали творчески авторитетными, виноваты влияния и в первую голову – мое.
И, для того чтобы Вам стало яснее дальнейшее (а совсем не из поглощенности собой), я скажу несколько слов о себе.
Если бы мне можно было сейчас переиздаться, я бы воспользовался этой возможностью для того, чтобы отобрать очень, очень немногое из своих ранних книг и в попутном предисловии показать несостоятельность остающегося в них и предать его забвению.
Я пришел в литературу со своими запросами живости и яркости, отчасти сказавшимися в первой редакции книги «Поверх барьеров» (1917г.). Но и она претерпела уже некоторые искажения. Я был на Урале, а издатель, плативший этим дань футуризму, приветствовал опечатки и типографские погрешности как положительный вклад в издание и выпустил книгу, не послав мне корректуры.
Какие-то свежие ноты были в нескольких стихотворениях книги «Сестра моя жизнь». Но уже «Темы и Вариации» были компромиссом, шагом против творческой совести: такой книги не существует. Ее не было в замыслах, в намерении. Ее составили отходы из «Сестры моей жизни», отброшенный брак, не вошедший в названную книгу при ее составлении.
Дальше дело пошло еще хуже. Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период для Маяковского, еще более убийственный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, напр. Андрею Белому могло казаться, что он останется художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что он думает, сохранив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась та чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами. В разбор всей этой, и моей собственной, ерунды, я вхожу только потому, что потом буду говорить о Ваших тетрадках.
Из своего я признаю только лучшее из раннего (Февраль, достать чернил и плакать… Был утренник, сводило челюсти) и самое позднее, начиная со стихотворения «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского[576]576
Анненский Иннокентий Федорович (1855–1909) – поэт, критик, переводчик, его творчество было связующим звеном между символизмом и акмеизмом.
[Закрыть] и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом с общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше.
Но, повторяю, только Вы сами и мое уважение к Вам заставляют меня касаться материй, незаслуживающих упоминаний, потому что даже обладая даром Блока или Гете и кого бы то ни было, нельзя останавливаться на писании стихов (как нельзя не прийти к выводу, сделав ведущие к нему посылки), но от всех этих бесчисленных неудач и недомолвок, прощенных близкими и поддержанных дурным примером, надо рвануться вперед и шагнуть к какому-то миру, который служит объединяющей мыслью всем этим мелким попыткам; надо что-то сделать в жизни; надо написать философию искусства, новую и по-новому реальную, а не мнимую и кажущуюся; надо написать повесть о жизни, заключающую какую-то новость о ней, действительную, как открытие и завоевание; надо построить дом, которому все эти плохо написанные стихи могли бы послужить плохо притесанными оконными рамами; надо после этих стихов, как после неисчислимо многих шагов пешком, оказаться на совсем другом конце жизни, чем до них.
Не думайте, что я сужу и осуждаю себя и Вас и столь многих в этом роде с официальных нынешних позиций. Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы не согласясь с ней, тем уже и быть человеком. Но его расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна, даже если она случайна и является следствием нескольких, в отдельности, ложно направленных толчков.
Видите, какого труда и потери времени Вы мне стоите. А Вы будете огорчаться, обижаться и чего доброго еще строго критиковать это длинное и проклятое письмо на такие кропотливые и невылазные темы, которое я пишу начисто и которого не буду переписывать.
Итак, что я хочу всего настоятельнее и прежде всего сказать Вам? Пусть все написанное послужит Вам ступенью к дальнейшему совершенствованию. Я говорю о Вашем внутреннем совершенствовании, о совершенствовании главной Вашей, наиболее Вашей, мысли в жизни, о совершенствовании какого-то, Вам ведомого (это Ваш секрет) излюбленного поворота воображения или сосредоточения сил, почти предопределенного и в котором Вы считаете свое предназначение. Не о совершенствовании стихописания (избави боже), потому что никакие стихи, и написанные гораздо лучше, не самоцель и, сами по себе яйца выеденного не стоят, – это Вы сами знаете, это знает проявленная Вами даровитость.
В заключение все же немного о Ваших стихах. Я, по-моему, уже достаточно расправился с самим собою и не буду осложнять разбора Ваших грехов постоянным сравнением со своими.
1) Удивительно как я мог участвовать в общем разврате неполной, неточной, ассонирующей рифмы. Сейчас таким образом рифмованные стихи не кажутся мне стихами. Лишь в случае гениального по силе и ослепительного по сжатости содержания я, может быть, не заметил бы этой вихляющей, не держащейся на ногах и творчески порочной формы.
2) Ваша сильная сторона – «Волшебный мир всеобщих соответствий», строчки и строфы с образно хорошо воплощенными черточками природы и жизни: Перчаток скрюченный комок. – И безголовое пальто со стула руки опустив. – Гребенка прыгает в углу, катаясь лодкой на полу. – В колючих листьях огуречных. – И запах пригоревшей каши напоминает шоколад. – Тяжелый лебедь шлепается в лужу. – Хотели б ветки сбросить тяжесть, какая им не по плечам. – Огонь перелетает птицей, как ветром сорванный орел. – Мне не забыть рябых озер, – Пузатых парусов. – Гравюру мороза в окне! – Ползет как кошка по карнизу – Изодранная в кровь заря. – В подсвечниках сирень… Волнистым льдом, оплывшим стеарином Беспомощного горного ключа. – Но разглядев мою подругу, Переглянулись зеркала. – И ногти лиственниц натерты изумрудом. Я мясом с птицами делился[577]577
Цитируемые Б. Пастернаком строки стихов Шаламова большей частью остались в записях или существенно переработаны автором.
Шаламов, очень строго ценивший свои стихи, говорил об этих тетрадях: «Стихов там еще не было, но они появились там же, на Колыме, «Камея», например». Шаламов пишет в комментариях: «Стихотворение «Живого сердца голос властный…» написано в 1950 году на ручье Дусканья, энергично переделывалось мной в 1954 году, но, как всегда, из переделки ничего не вышло» (Собр. соч., т. 3, М., 1998, с. 459).
[Закрыть]. – Деревьям ветви заплести.
3) Ваша слабая сторона, отрицательное начало, подтачивающее все Ваши удачи, все счастливые Ваши подступы и живые вступления к теме, это Ваши частые, почти постоянные переходы от фигур и метафор, основанных на действительно существующих ощущениях, к игре разнозначительными оттенками слова, к голой словесности, к откровенному каламбуру. Неужели и в этом виноват только я? Неужели Вы не замечаете разрушительного, обесценивающего действия этого элемента, подрывающего, подтачивающего все Ваши добрые достижения тем вернее, что почти всегда Вы начинаете Ваши длинные, зачастую растянутые стихи с обрисовки действительно виденного или пережитого, а когда этот неподдельный запас истощится (тут бы и кончить стихотворение), приписываете к нему многословное и натянутое каламбурное дополнение, производящее впечатление рассудочной неподлинности. Или, может быть, я чего-то не понимаю! Я ведь и «романтическую иронию» не очень-то жалую. Сейчас я приведу Вам примеры определенно отрицательные, чтобы Вы поняли мою мысль. Но иногда, когда эта игра не так оголенно упирается в общеупотребительные выражения и поговорки, т. е. когда она не сведена так явно и сознательно только к речевому острословию, а сверх фразы, заключает в себе и что-то иное, эта фигура не только приемлема, но бывает часто и хороша, чему тоже будут примеры.
а) Вот эти (на мой взгляд) срывы, (после хороших частей, строф и страниц) – Бродя в изорванных лаптях, Ты лыко ставила мне в строку. – Толок речную воду в ступе, В уступах каменных толок. – И зайцы в том краю не смели б показаться, куда-нибудь на юг, Гнала бы их как зайцев. – Он фунта лиха знает цену. И за ценой не постоит. – Снег чувствует себя как ветеран войны на чтенье Воспоминаний для ребят. – И он нас здесь интересует, как прошлогодний снег. – Вся белая от страха, Нитка чуть жива. – А в строчке: «Река поэзии впадает в детство» налет этого приема топит и обесцвечивает живую и ценную мысль.
в) Вот примеры, где по видимости такой же прием[578]578
Шаламов к фольклорным формам, мифам, пословицам, поговоркам относился особо: для него они были закодированной информацией высокой плотности, вечными моделями отношения человека и мира, человека к человеку. Что-то близкое этому суждению было в мыслях П.А. Флоренского, с трудами которого Шаламов был хорошо знаком («Столп и утверждение истины. От православной теодицеи».). Упоминаются стихи «Я жив не единым хлебом…» (Собр. соч., т. 3, М.,1998, стр. 265), «Бог был еще ребенком и украдкой…» (там же, стр. 102), «Картограф», там же, стр. 318 и др.
[Закрыть], но наполненный истинным содержанием или вовлеченный в поток настоящего поэтического движения и им разогнанный, производит совсем иное впечатление. Хорошо, удачно, допустимо: – Земля поставлена на карту и перестала быть землей. – Мы живы не только хлебом и утром на холодке кусочек сухого неба размачиваем в реке (очень хорошо). – Рукой отломим слезы, Такой уж тут мороз. – И кровь не бьет и кровь не льет – До свадьбы заживет. – И надоевшее таежное творение, небрежно снегом закидав (хорошо), Ушел варить лимонное варенье и т. д.
4) Жалко, что эта умственная напряженность мешает Вам ввериться задаткам лирической цельности, которая Вам свойственна и прорывается отдельными строфами: Им тоже, может статься, Хотелось бы годок не знать радиостанций и автодорог. – Где юности твоей условие, Восторженные города, Что пьют подряд твое здоровье, Всегда, всегда… – И в снежной синей пене Тонули бы подряд Олени и тюлени, Долины и моря. – Я писал о чем попало, Но свою имел я цель. В стекла била, завывала, И куражилась метель[579]579
Пастернак отмечает не лучшие стихи Шаламова, возможно, он поручил кому-либо «подобрать примеры». В «Колымские тетради» не включены: «Где юности твоей условья…», «Свадьба колдуна». С изменениями включены стихи: «Реквием» («Сестре Маше»), «Жил был» («Платье короля»), «Пред нами русская телега…», «Еду»(«Поездка») и др.
[Закрыть].
Но этой легкости и стройности надо подчинять не отдельные четверостишия, а целые стихотворения.
Из них мне понравились многие: «Мне грустно тебе называть имена», «В нем едет Катя Трубецкая», «У облака высокопарный вид», «Поездка» (только нехорошо, где… Ты взглядом узких карих глаз Показывала вверх, т. е. нехорош этот надуманный зенит и нехорошо то, что он ее оставляет). «Гусеница», «Приманка», «Платье короля», «Свадьба колдуна» (отчасти), начало «Кареты прошлого» в «Космическом» все об Уране, «Ты верно снова замужем», «Сестре Маше», «Вечерний холодок». Но почти ни одно из них, несмотря на серьезность содержания стихотворения «Сестре Маше» и тонкость и вдохновенность многих других, не понравилось мне целиком, безоговорочно.
Итак, чтобы подвести итог этим разговорам о стихах, вот мое общее по ним заключение, мое мнение. Вы слишком много чувствуете и понимаете от природы и пережили слишком чувствительные удары, чтобы можно было замкнуться в одни суждения о Ваших данных, о Вашей одаренности. С другой стороны, слишком немолодо и немилостиво наше время, чтобы можно было прилагать к сделанному только эти облегченные мерила.
Пока Вы не расстанетесь совершенно с ложною неполною рифмовкой, неряшливостью рифм, ведущей к неряшливости языка и неустойчивости, неопределенности целого, я, в строгом смысле, отказываюсь признать Ваши записи стихами, а пока Вы не научитесь отличать писанное с натуры (все равно с внешней или внутренней) от надуманного, я Ваш поэтический мир, художническую Вашу природу не могу признать поэзией. Все это я говорю «в строгом смысле», но в творчестве никакого смысла, кроме строгого и не существует. И зачем мне щадить Вас? Вы не бездарны и с жизнью связаны очень тесною связью высокой художественной восприимчивости, явствующей из Ваших строк. Если бы даже двадцать Пастернаков, Маяковских и Цветаевых творили беззаконие, расшатывая свои собственные устои и расковывая враждебные им силы дилетантизма, все равно эта Ваша связь с жизнью, а не их пример, давно должен был подсказать Вам, что Вы себя и Ваши опыты должны подчинять дисциплине более даже суровой, чем школа жизни, такая строгая в наши дни.
Но довольно о стихах. Я бы о них не писал, и я не писал бы Вам, если бы мне не верилось, что атмосфера в будущем, может быть, уже недалеком, смягчится, что наваждение безвыходности развеется и снято будет с общего склада современных судеб, что у Вас будет простор и выбор, когда Вам понадобится более вольный и менее стесненный взгляд. И вот с этой целью, чтобы отвести Ваш взор, слишком прикованный к стихам (все равно своим и чужим), прикованный слишком колдовско, мелко и слепо, я и написал Вам это все. Будьте здоровы. Не сердитесь на меня. Я верю в Ваше будущее.








