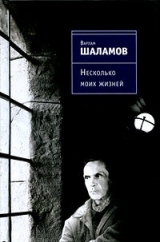
Текст книги "Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела"
Автор книги: Варлам Шаламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 80 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
Со мной поочередно ложились на этот трон любви звезды венских борделей, могущие сдвинуть ход мировой истории, особы вроде Маты Хари. Ложились звезды подпольного экрана, которым давалась возможность явиться из небытия на мировую сцену в какие-нибудь пятнадцать минут без ущерба для их анкеты и несмотря на их анкеты.
Какие-то незнакомые мне санитарки скидывали в передней халаты, чтобы во всеоружии, во всетелии явиться на этот эксперимент.
И даже медицинские сестры, не имевшие квалификации в этом несложном деле, пытались возместить рвением недостаток опыта.
Тогда хозяйка сделала знак – всем убраться и заперла за всеми дверь на ключ.
При полном свете, подключив даже боковое освещение ее многочисленных торшеров, она подошла ко мне и принялась за продолжение эксгумации.
Мое разраставшееся, возвращенное в новую кожу вялое мужское тело, которое изнутри расправляло и увеличивало каждую свою складку, каждую свою клетку.
Кожа моя была вся новая, и это было ей известно. Сосцы ее как ножи, как плуги, пропарывали нежную кожу <тела> вторично, десятерично, родившуюся на свет в свои тридцать пять лет.
Сосцы – жесткая кожа ее смуглого, почти зеленого тела наносила раны моей новой земной оболочке, оболочка была слишком нежна. И кровь потекла на ее кожу и жесткий козий язык слизывал мою кровь.
Поставив меня против себя и прижимаясь ко мне своим горячим телом дикой горной кобылицы, она пыталась вызвать божью искру, двигая самою себя вдоль моего нового тела, но ничего не вышло. Искра не зажигалась. Тогда мы легли на ее двуспальную кровать, я внизу, она сверху, и ее сосцы пропахали мое тело с головы до ног, и она вылила на меня свое обжигающее козлиное семя, стараясь окропить именно ту часть, которая нуждалась в окроплении.
И, раскачиваясь ритмично и прижимаясь к моему уху – тоже обновленно розовому, как человеческое счастье, она прохрипела своим гортанным голосом, так знакомым по всем его резким командам, перекрывавшим даже метель колымскую. И это были первые слова, которые я услышал от своего создателя, вернее, создательницы, тело к телу, глаз к глазу, ухо в ухо.
– Ты жил с Асей Гудзь?
– Нет.
– Ну зачем говоришь неправду? Может, ты не понимаешь. Ты, – она искала слов в своем нерусском, – ты обладал Асей как женщиной?
– Нет.
– Зачем же она тебя так ищет?
– Я женат на ее сестре.
– Ну, сестра – это пустяк. Все живут с сестрами жены. Это – быт. Или, как это у вас, закон природы.
Она засмеялась гортанным смехом.
– Ну, я, пожалуй, попробую все сначала.
И я опять закачался, помогая ее движениям, охвативши ее мелкой косматой, торчащей шерстью <заросшие> жесткие безмолочные груди, пытаясь выдавить, извлечь не из ее грудей, а из себя что-нибудь важное для человечества.
Но ничего не получилось.
На следующий раз вся процедура началась сначала, в конце этого леченья мои половые <органы> выплюнули какую-то слизь, прямо в косматые ляжки моей новой знакомой.
Она поймала их губами, поцеловала и тут же велела вести на выписку: койко-день есть койко-день.
На следующий <день> перед осмотром в присутствии облавной комиссии самого высшего ранга, разыскивавшей всех уклоняющихся от полезного <труда>, знакомые пальцы раздели меня, знакомые мне ее прикосновения в тех же самых местах и в присутствии высокой комиссии, подталкиваемые пальцами главврача, мои мускулы проделали те же движения, что и ночью.
– Этот больной, – сказал председатель комиссии, – напоминает более здорового, чем больного. По своей реакции, разумеется.
– Он хорошо поправился. Мы восстанавливаем его. [нрзб], – твердым своим хриплым козьим голосом сказала главврач, – поставим в вашем списке птичку.
Комиссия уехала, а меня тут же увели на квартиру главврача, дневальный и посетители были удалены. Щелкнул замок выходной, и знакомые жесткие руки раздели меня снова на том же самом ложе, и мы проделали наш путь любви, путь эксгумации в третий и последний раз. На этот раз фонтан изливался, а жесткие козьи губы ловили эти капли орошения.
Потом женщина проколола мою тонкую кожу на груди своим жестким соском, прорезала кожу на память, поставила метку, слизала мою соленую кровь жадным маленьким язычком и вытолкнула меня на улицу.
Пошатываясь, я добрался до барака для подсобников. Документы облавы были уже готовы, машина дернула два-три <раза>, шатнулась, как человек, выбираясь из трясины, и двинулась в неизвестность.
Начальник ОЛПа вызвал по вертушке конвоира и меня отвели в больницу на мою лагерную койку.
Едва накинув халат, Анна Иванова вышла меня проводить – она жила в отдельной квартире, похлопала по щеке своей косматой рукой.
Конечно, я не мог забыть это тело, воскресившее меня к жизни. Какой бы эта жизнь ни была.
Еще раз мы встретились с ней в конце 1946 года, когда я окончил фельдшерские курсы, приехал работать в Центральную больницу на Левый берег, пос. Дебин.
Всего недели две прошло после моего приезда, как меня вызвал курьер начальника, прямо выкрикивавший мою фамилию. Он привел меня не к уполномоченному – куда еще могли меня вызывать, а дал за меня расписку на вахте, вывел из больницы и повел через ручей в вольный поселок – метрах в трехстах от больницы, где я никогда не был. Ни о чем меня не спрашивая, он довел меня до какой-то вольной двери, какой-то вольной квартиры на одном из трех этажей и позвонил.
Кто-то сейчас же открыл…
Сам начальник нашего ОЛПа:
– Здравствуйте, проходите… Вас ждет одна дама.
Дама была Анна Ивановна, посетившая Левый берег проездом, ночевавшая у своей подруги, выпускницы МГУ, нашего главного врача, Рейзер – жены начальника ОЛПа.
Анна Ивановна не привыкла терять время даром, и мы легли с ней в соседней комнате при полном свете и проделали те же процедуры, что и три года назад на Беличьей.
Анна Ивановна поздравила с <избавлением> от общих <работ>. Хриплый голос шептал в мое ухо, что она очень рада, что я – фельдшер, что жизнь моя теперь спасена. У нее самой тоже все благополучно. Она вышла замуж за Лисняка. Все ее враги посрамлены. Бухгалтер-доносчик схватил сифилис. Начальник Управления переведен с понижением на какой-то захудалый прииск.
Опять ее сосцы пропахали мое тело, на этот раз кровь уже не выступила. Кожа окрепла, и ей нечего было вылизать соленого, кроме пота.
СпокойныйВ моем характере нет услужливости. Поэтому я не мог стать хорошим санитаром, хотя возможность к этому была. И, понимая, что ненависть моя сильнее меня, я и не пытался сделать карьеру санитара. Работа фельдшера, да еще фельдшера с курсов – государственных, с дипломом, хотя бы и лагерным, – это другое дело, это было по мне. Но тут я был вовлечен в водоворот интриг, склок, провокаций, личных счетов до последнего часа моего пребывания на Колыме.
Как я попал на Спокойный, на открытие прииска, где мне было всего хуже? И когда?
Из комендантского ОЛПа, с Ягодного, когда лейтенант Соловьев меня вызвал и сказал:
– Вот, Шаламов в этом списке, отправляют плотников на новый прииск.
Я вышел из толпы.
– Я не плотник, гражданин начальник.
– А, ты здесь. Ты и не едешь как плотник, ты едешь как штрафник.
– Штрафник? Какой же я штрафник, гражданин начальник?
– Ну, брось трепаться. Я не забыл, как ты от меня бежал в Беличьей.
А такой случай действительно был. Он описан мною в рассказе «Облава» – о том, как я выскользнул из цепи конвоиров и ушел в тайгу, дождался, чтобы этап ушел, вернулся, рассчитывая, что если я нужен, то меня дошлют. Но было не нужно, и я прожил еще несколько месяцев в больнице.
Так и случилось. А потом я наткнулся на улице на машину Соловьева и в тот же вечер был отправлен с конвоем в Ягодный на комендантский пункт.
Приехали на берег, началась переправа. По тропе шли через Колыму по льду. Но начался ветер, пришлось вернуться и заночевать в сарае, где не было ни одной палки дров, где все деревянное было сожжено, в том числе и стены сарая. [Нрзб]. Вот без дров все плотники и начальство сели вместе пережидать метель. Вечером дошли до Спокойного и разошлись каждый на свою работу. Я познакомился тут с начальником ОЛПа Емельяновым и начальником прииска Сараховым.
Здесь валили лес и собирали дом тут же из сырых лиственниц, ибо Сарахов как опытный колымчанин уверял, что деревянный дом на Колыме можно согреть только людьми – поэтому все бригады из заключенных сразу же и селили в мерзлые бараки, ставили железную печь, топили. Страшная это была ночевка. Мокрые бушлаты, белый пар, белый пар от холода.
Начальником санчасти был там доктор Ямпольский, вольнонаемный, бывший зэка, только что кончивший срок. Доктор Ямпольский сделал мне много зла, поэтому я напишу о нем поподробнее. Начальником санчасти может быть и не врач – это административная должность. Бывший работник органов, Ямпольский целых пять лет, весь свой срок, сумел продержаться, исполняя обязанности фельдшера, на участке приисковом, работал с врачами, которые, впрочем, ничему его не учили. А может быть, и учили. Может быть, и менее пяти лет проработал он фельдшером. По ухваткам его было видно, что он ничего не знает. Когда освободился, он начал работать начальником санчасти. Хороший оклад, положение.
О медицинской отчетности он представление имел. Я его застал на Спокойном в этой роли. Он принимал больницу, в аптеке была только марганцовка – для наружного и внутреннего лечения. Я смотрел эту аптечку, с которой он работал: йод, марганцовка.
У него была мысль вот какая. От каждого врача он что-то получил и с каждой сменой должности все увеличивал свои знания.
Вот у него в больнице я встретился с Рябоконем – махновцем, описанным мною в рассказе о страшной смерти какого-то эстонца Яниса, которого купали в ванне, опухшее тело погружали в огромную бочку с теплой водой. Янис умер, и Рябоконь, кажется, умер.
Я убирал палаты, но не был симпатичен Ямпольскому. Скоро случилось так, что для больницы отвели новый участок, завезли туда бревна, и доктор Ямпольский по колымской традиции вкладывал туда и свою личную силу, и силу своих санитаров в порядке субботников. Ямпольский объявил, что с завтрашнего дня мы будем оба трудиться на постройке своей больницы. Он, Ямпольский, выйдет с топором и пилой. Но подходящего напарника во мне он не нашел – просто из-за крайней моей слабости и ненависти к лагерному труду. Ямпольский был поражен в самое сердце.
На следующий же день я был отчислен из санчасти, потерял свое счастье, безумный, и уже весело бежал в рядах какой-то бригады. Но это еще не была бригада доходяг.
Мы были переведены на участок, где строительным техником – такое бывает здесь – был мой старый знакомый по 69-й камере Бутырской тюрьмы техник Леша Чеканов. Леша Чеканов ехал сорок пять дней от Москвы до Владивостока в одном вагоне со мной, только на пароходе и на Колыме наши пути разошлись. Будучи уже кое-чему наученным по временам 38-го года и приисковым встречам старых знакомых в тяжелых условиях, я ничего и не ожидал от этой встречи. Но Леша Чеканов был явно напуган моим появлением на его участке. Чуть ли не с третьего дня он начал высоким голосом орать, что вот этих, которые всех сгубили и… Эти крики скоро обернулись битьем.
Я попросил нарядчика перевести меня на другую работу и был переведен в бригаду Королева. Бригадир Королев – вольняшка, красавец, бригадир из блатарей, из бывших блатарей, бил меня ежедневно, не требуя никакой работы, не ставя на работу, просто бил и бил. Потом уставал и бросал, и переходил к другому делу. Так было много дней, и часть зубов выбита тогда лично именно Королевым.
На вечер меня записали по рапорту того же Королева в ледяной карцер прииска Спокойный. Этот ледяной карцер остался в наследство от командировки дорожников, что-то получивших от прииска и обещавших принимать на ночлег его штрафников. Изолятор Спокойного был еще не построен. Мы же его и строили. Ледяной карцер был карцером, вырубленным в скале, в вечной мерзлоте, стены его были деревянные, самые обыкновенные лиственничные бревна. Посередине стояла обыкновенная печь, на которую давали два килограмма дров на сутки по карцерной норме, а также кружку воды и суп через день. Но больше нескольких часов никто этого карцера не выдерживал ни зимой, ни летом. Я простоял в этом карцере несколько часов с вечерней поверки до утреннего развода, не имея возможности и повернуться: кругом был лед и на полу тоже лед. Говорили, что все, кто прошел через этот карцер, получили воспаление легких. Я – не получил. После карцера следовали избиения все тем же Королевым. Однажды на работе я попросил своего напарника Гусева ударить меня ломом по руке, чтобы сломать руку. Но Гусев отказался категорически. Я пытался сделать это сам, но не мог. Набил синяк и все.
Уже чуть ли не через год, когда я сидел в Ягоднинском изоляторе после побега и ходил на работу на бурение ямок, шурфов каких-то, кто-то из проходившей партии арестантов закричал диким и веселым голосом:
– Шаламов, Шаламов, слушай, тебе интересно. Я Королева-то зарубил! Зарубил! Топором! В столовой насмерть!
Я и сейчас не знаю, кто это кричал, но Королев действительно был зарублен в столовой той же зимой.
Внезапно Ямпольский получил письмо от Савоевой, где она просила отправить меня в Беличью как больного. Письмо совершенно личное, передано врачу в руки. Ямпольский не нашел ничего сделать лучшего, как познакомить с содержанием этого письма Емельянова – начальника ОЛПа. Емельянов вызвал меня, не забыл…
– Тут Ямпольский письмо получил какое-то насчет тебя.
– Не знаю, гражданин начальник.
– Ну, ладно, иди, отправим.
Емельянов не разобрался в деле, и я не попал в ловушку, расставленную Ямпольским.
Прошло еще несколько дней, было лето, обжигающее лето. Вдруг меня вызвали и привезли, но не в Беличью, а на инвалидный ОЛП при Северном управлении. Там восполнялись силы людей, своеобразная транзитка Колымы. Шли сутками и кто поскольку. Всех отправляли на витаминные командировки, а то и в места посерьезнее. Прибывали машины с людьми, но больше увозили. Комиссовали круглые сутки. Я лег в первую же ночь по незнанию на верхние нары в инвалидной транзитке. Там было такое количество клопов, что, как я ни устал, я должен был смахивать со щек несколько раз клопов, уже въевшихся в щеки и в несколько слоев, потом вышел на улицу, счистил с себя клопов и попытался заснуть прямо на улице, на холоде. Ночью на Колыме, как бы ни жарок был день, – холодно. Положив доску, можно было спать. На земле – опасно, простудишь легкие. Наутро комиссии не было, и я умолил доктора Эфу, фельдшера из заключенных, передать в Беличью, что я, Шаламов, на инвалидной транзитке.
Эфа:
– Да, я буду в Беличьей через час, вот и передам, пожалуйста.
Через несколько часов пришла машина, приехал Эфа и Лесняк за мной, но взять меня было не так просто, нужно было решение комиссии, акт. Пришлось ждать еще сутки этого акта, и с этим я был выписан и передан Лесняку. Я приехал на Беличью. Нина Владимировна Савоева встретила меня очень хорошо и сказала, что она договорилась с начальством, Соловьева давно в Ягодном нет, что я буду работать официально культоргом – читать газеты, объяснять.
Это был уже 45-й год. Конец войны я встретил на Спокойном. Туда сведения дошли лишь дней через пять – курьер с депешей опоздал из-за разлива Колымы. Атомную бомбу и конец войны с Японией я встретил в должности культорга больницы Беличья.
Конец БеличьейЭто, пожалуй, было самое счастливое мое колымское время, самое безмятежное. Увы, смертная игра опять должна была начаться. У Нины Владимировны и Лесняка были свои друзья, свои враги – новые и старые, свои сражения, свои поражения и победы, своя война. Я был одним из очень многих, кому Савоева и Лесняк помогли из заключенных в те годы. Нину Владимировну всегда окружала толпа людей, которых она ставила на какие-то работы. Давно уехал на материк ее земляк и покровитель, начальник СГПУ[364]364
СГПУ – Северное горно-промышленное управление.
[Закрыть] полковник Гагкаев. К колымскому начальству Савоева как-то не пристала, брак с Лесняком, из-за которого она была исключена из партии, исключил ее из узкого круга людей власти. Когда Лесняк кончил срок, она вышла за него замуж, но это не вернуло ее в круг колымского начальства, в круг старого колымского начальства, получавшего взятки, оклады, да еще торговавшего махоркой и чаем через своих дневальных. Нина Владимировна попробовала наладить жизнь по схеме высших начал и потерпела полное поражение. Вошла в круг лиц неудобных, которых обходят по службе, следят за каждым их шагом. Внезапно Савоева получила назначение начальником санчасти прииска и была вынуждена уехать, оставить больницу. Этими же днями кончился срок у Лесняка, и он уехал вслед за ней. Новая начальница, фамилии ее я не помню, звали ее кличкой «Камбала», из-за того, что один глаз у нее был искусственный, в первый же день работы выгнала меня из культоргов и приказала сесть рубить капусту, что я делал до вечера. А вечером был отправлен, вернее, отведен нарядчиком в Ягодный на комендантский ОЛП. Больше в Беличью я никогда в жизни не возвращался. К вечеру этого дня я был отправлен на ключ Алмазный, на командировку по заготовке для Ягодного высоковольтных столбов. Ягодный и ключ Алмазный находятся на разных берегах Колымы.
На ключе Алмазном не было конвоя. Давно сделано мною наблюдение, что больше всего произвола в лагере там, где нет конвоя, нет и режима. Конвой в лагере – это прежде всего защита арестантских прав. Даже, если начальник хороший, все равно в бесконвойном состоянии хуже, чем в конвойном. Больше произвола там, где нет конвоя. На ключе Алмазном в бараке жило человек 20 лесорубов, ходили они на работу по выборке и рубке сосновых стволов, пригодных для высоковольтных столбов. Нормы тут выполнимые, но почему-то никто с ними не справлялся.
Кормили два раза в день. Лесорубы жаловались на повара, и десятник поставил поваром меня. Нельзя более придумать издевательства. Притом десятник сказал, что и взял меня на работу, имея в виду, что я работал в Беличьей. Я согласился. Я никогда не стряпал и не мог ничего придумать путного. Работа моя поварская началась с того, что десятник взял себе банку мясных консервов. Всего примерно на 30 человек в день выдавали две банки. И сказал, что пусть я справляюсь. Я понял и тут же отказался от этой блатной работы. Увидев по моей готовке, что я в самом деле первый раз берусь за поварское дело, десятник снял меня на общие работы – дело мне хорошо знакомое, но ни я, ни он и не рассчитывали, что я могу выполнить норму лесоруба. Вот какого уж он поставил повара, я не знаю, наверное, старого взяли обратно, и я стал работать в лесу. На этой командировке «Ключ Алмазный» заключенных не били. Тогда было увлечение немедленным учетом. На «Ключе Алмазном» дело было поставлено так, что каждый вечер объявляли, кто из заключенных не выполнил нормы, – не выполнившим вовсе не выдавали хлеба на следующий день по цифрам прошлого дня. Я таких чудес не видел ни разу и твердо решил не жить на этой командировке ни одного слишком голодного дня.
Скоро этот день пришел. Тем самым утром, когда мне не дали хлеба, я взял блатные ботинки, которые у меня были в вещах, и отдал сапожнику участка – сапожник, между прочим, был вольнонаемный, бывший зэка. Ботинки эти я отдал сапожнику за пайку хлеба семисотку и щепотку махорки на несколько папирос. Взял я с собой спички, газетную бумагу и вышел на дорогу в лес. Через километр я отвернул прямо в тайгу, обошел поселок сбоку, в километре примерно, и пошел пешком в Ягодный. План у меня был такой: дойти не подстреленным до ОЛПа, а там – что будет. Я не пошел по дороге, а прямо тайгой пошел до речки Колымы. Колыма уже встала, я выбрал узкое место, перекат, где можно перейти, но не было места ниже метра. Стало быть, перейти – шагать в воду. Я просто подвязал веревками бурки под коленями. Все это обдумано было мною и раньше. Свойство колымских рек – в большой мороз не промокает обувь и одежда – мне было хорошо известно. Я прямо шагнул в воду, прошел глубоких несколько метров до суши и, выйдя на берег, отряхнул сосульки рукавицей – намерзшие сосульки на бурках. Переход через Колыму был закончен, я не пошел на переезд, где была будка сторожа, где была зимняя и летняя переправа. От реки Колымы я прошел еще несколько километров по тайге, когда рассудил, что двигаться надо открыто. В большой мороз я дошел до барака, где жили больничные лесорубы во главе с одним санитаром, Степаном Ждановым, которого я хорошо знал по Беличьей, и он меня знал. Степан, не спрашивая меня ни слова, дал мне поесть супу, дал хлеба немного, табаку, а главное, я выспался на теплой печи.
Утром я ушел еще раньше работяг, а за ночь, попросив у Степана бумаги, написал большое заявление на имя начальника ОЛПа Козычева, какие порядки на «Ключе Алмазном». Положил в карман, застегнулся и зашагал в Ягодный. По дороге я зашел в Беличью, там повар в больнице был Федя, успел налить мне целый котелок еды, но посоветовал не есть в больнице, и я понял, что меня уже ищут. Я съел весь котелок, съел весь хлеб, какой был, сидя в кювете, на трассе, и вошел в Ягодный. Уже сильно стемнело, пока я добрался до ОЛПа. Начальник ОЛПа Козычев сам сидел на вахте. Он принял мое заявление и велел отвести меня в изолятор. Изолятор, так хорошо мне знакомый, сейчас пустовал. Сидел какой-то блатарь, ждал машину для отправки в спецзону – он сидел за убийство и ограбление на трассе, как я узнал позже. Не в арестантских правилах спрашивать «Ты за что сидишь?» и прочее.
Утром меня вызвал следователь, допросил, но чисто анкетно, без вопросов и ответов, и сказал, что он вызовет меня и начнет новое дело за побег. Я не отбыл еще и двух лет от своего нового срока и не очень волновался по поводу прибавок и добавок и прочих арестантских дел.
Но новое дело не было начато. Следователь рассудил, что начинать новое дело – громоздко, волынка большая. Резолюция была административной: направить для отбывания срока в спецзону Джелгала. Так я удивительным образом вернулся на тот же самый прииск, где меня судили, на Джелгалу.








