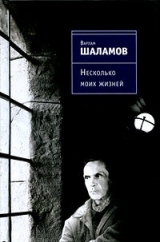
Текст книги "Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела"
Автор книги: Варлам Шаламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 80 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
Кукрыниксы[159]159
Кукрыниксы – творческий коллектив графиков и живописцев: Куприянов Михаил Васильевич (1903–1991), Крылов Порфирий Никитич (1902–1990), Соколов Николай Александрович (1903–2000).
[Закрыть] удачно иллюстрировали Архангельского.
У Архангельского был туберкулез. Стрептомицина тогда еще не было, и он, с год побыв в подмосковных санаториях, умер тридцати с чем-то лет.
Сегодняшняя молодежь вовсе не знает имени Якова Рыкачева[160]160
Рыкачев Яков Семенович (1893–1976) – прозаик.
[Закрыть]. А ведь он еще жив. Рыкачев был умным и тонким писателем, автором романа «Возвышение и падение Андрея Полозова» и очень интересного очерка «Похороны».
Был Гарри, Алексей Николаевич Гарри[161]161
Гарри Алексей Николаевич (1902–1960) – прозаик, наиболее значителен цикл рассказов «Огонь. Эпопея Котовского» (1934). В 1938 репрессирован, реабилитирован через 16 лет.
[Закрыть], известный очеркист, бывший адъютант Котовского во время Гражданской войны. Гарри знал чуть ли не полмира, говорил на десяти языках. В двадцатые годы писал очерки в газетах, написал вместе с журналистом Павловым[162]162
Павлов Николай Николаевич – журналист.
[Закрыть] брошюру «Как писать в газету».
Виктор Шкловский тоже выпустил брошюру подобного рода, очень толковую: «Техника писательского ремесла».
В тридцатых годах Гарри вел литературный кружок на Электрозаводе, был в тридцать восьмом арестован, отбыл десять лет на севере, вернулся в Москву, печатался, выпустил книжку о Котовском, повесть «Последний караван». Года два назад Гарри умер.
В середине двадцатых годов выдвинулся молодой писатель Н. Смирнов[163]163
Смирнов Николай Григорьевич (1890–1933) – прозаик, наиболее известен его «Дневник шпиона» (1929).
[Закрыть]. Он выпустил увлекательную книгу, роман «Дневник шпиона» (1929). Знание дела, обнаруженное Смирновым, привело его неожиданно на Лубянку, где он в течение двух месяцев показывал – каким материалами он пользовался для своего «Дневника шпиона»; Смирнов владел английским языком, достал несколько мемуарных английских книг (в том числе воспоминания Сиднея Рейли, известного в Москве по заговору Локкарта), читал английские газеты. Когда все разъяснилось, Смирнова освободили.
«Дневник шпиона» пользовался шумным успехом, но больших художественных достоинств не имел. Впрочем, Смирнов был безусловно талантливее писателя Николая Шпанова[164]164
Шпанов Николай Николаевич (1896–1961) – автор очерков, рассказов, повестей приключенческого и детективного жанра.
[Закрыть].
Поэт северянинского толка Лев Никулин[165]165
Никулин Лев Вениаминович (1891–1967) – прозаик, автор романов «Никаких случайностей» (1924), «Тайна сейфа» (1925), «Адъютанты господа бога» (1927).
[Закрыть] выпустил толстую книжку «Адъютанты господа бога». Это был роман на ту же «модную» тему о «последних днях самодержавия». Я не остановил бы внимания на этой книжке, если бы не особые обстоятельства. Через много лет мне пришлось познакомиться с неким Осипенко[166]166
Знакомство В. Т. Шаламова с Осипенко описано в антиромане «Вишера» (глава «Осипенко»).
[Закрыть] – бывшим секретарем митрополита Питирима, покровителя Распутина. Петербургский митрополит Питирим и ввел Распутина в царское окружение. Молодой Осипенко играл там не последнюю роль, во всяком случае, видел очень много. На все мои просьбы хоть что-нибудь рассказать о Распутине, Осипенко отвечал категорическим нервным отказом. В разговоре я случайно упомянул о книге Никулина:
– Вот с этой проклятой книги все и началось, – с чувством произнес Осипенко.
Выяснилось, что Осипенко самым хладнокровным образом работал в Ленинградской милиции делопроизводителем, твердо надеясь на «перемены». Так прошло несколько лет. Вышли «Адъютанты господа бога», где Осипенко был одним из главных героев. Его разоблачили, судили и сослали на пять лет. Это был самый первый случай активного вторжения писателя в жизнь, какой я наблюдал. Никулин и до сих пор не знает об этой истории. Он работал по архивам, по чужим воспоминаниям.
Вышла «Неделя» Либединского[167]167
Либединский Юрий Николаевич (1898–1959) – прозаик, его повесть «Неделя» (1922) пронизана романтикой революции.
[Закрыть] – первая советская повесть – и заняла прочное место в читательском сердце. К сожалению, дальнейшие повести Либединского: «Комиссары», «Рождение героя», «Завтра» были слабее «Недели».
Жаров выступал с Безыменским и Уткиным, со Светловым[168]168
Светлов Михаил Аркадьевич (1903–1964) – поэт, драматург. Его стихи воспевали романтику Гражданской войны, комсомольской юности («Гренада», «Рабфаковка», «Песня о Каховке» и др.).
[Закрыть], Голодным[169]169
Голодный (наст. фам. Энштейн Михаил Семенович) (1903–1949?) – поэт, автор баллад, песен о героике Гражданской войны («Песня о Щорсе», «Партизан Железняк» и др).
[Закрыть] и Ясным[170]170
Ясный А. (наст. фам. Яновский Александр Маркович) (1903–1945) – поэт, учился на литературном отделении МГУ 1928–1931. Сборники стихов «Каменья» (1923), «Шаг», «Ухабы» (1925), «Ветер в лицо» (1931) и др.
[Закрыть]. Эта была, так сказать, рапповская прослойка в поэзии.
Лучшим из них был Безыменский. Его «О Шапке» знали все. В поэмах «Шапка» была тем же, чем «Неделя» Либединского в прозе.
Высокий голос Безыменского гремел со всех трибун.
Пользовался популярностью и Уткин, несмотря на промахи с «Перекопом», о котором писал Маяковский, и ряд погрешностей идейного плана в стихах о солдате:
Пришел и сказал: – Как видишь, я цел.
«Поэму о рыжем Мотэле» читал Уткин везде. Это была популярнейшая тогда поэма.
Сатирик Арго написал эпиграмму:
Он был простой ешиботник,
Но вот загремел ураган,
И он уже ответственный работник
С портфель и с наган.
И Мотэле живет в Грандотеле
С окнами на закат,
И если за что-нибудь борется Мотэле,
Так это за русского языка.
Язык-то Уткин знал отлично.
Горький двадцатых годов – это Горький Сорренто, ведущий большую переписку с советскими писателями и вообще с советскими людьми. В Нижнем Новгороде, в Сормове был инженер Алексеев, с которым велась особенно оживленная переписка. Время от времени в газетах того периода публиковались письма – работниц и рабочих – Горькому и ответы Горького на них, где он объяснял, почему он живет за границей: лечится, пишет…
Начинающие писатели паковали рукописи и посылали их в Сорренто Горькому. Горький все читал и на все отвечал самым сочувственным образом, только в случаях крайнего графоманства отвечал осудительно.
Его толкование таланта как труда – недостаточно четкое и неверное – родило множество претенциозных бездарностей. Бездарные люди ссылались на горьковский авторитет и заваливали редакции журналов рукописями и угрожающими оскорбительными письмами.
«Горький – отец самотека», – говорили в одной из редакций.
Мне кажется, что Горький действовал из самых лучших побуждений – желая разбудить «дремлющие силы», открыть дорогу всем, кто может писать.
Что касается таланта и труда, то мне больше нравится известная формула Шолом-Алейхема[171]171
Шолом-Алейхем (наст. фам. Рабинович Шолом Нахумович) (1859–1916) – еврейский писатель, писал на иврите, идише и русском языке. С 1914 г. жил в США. Выступал за реалистическую народную литературу, художественный анализ социальных проблем современности.
[Закрыть]: «Талант – это такая штука, что если уж он есть, то есть, а если уж его нет – то нет».
Суть дела, мне кажется, в том, что труд есть потребность таланта.
Всякий талант – не только качество, а (и обязательно!) количество. Талант работает очень много.
Горькому очень верили. Его советы задержали на много лет развитие такого крупнейшего самобытного таланта, как Андрей Платонов[172]172
Платонов Андрей Платонович (1899–1951) – писатель. В его своеобразной по стилю прозе мир предстает как трагическая целостность человеческого и природного бытия: повесть «Елифанские шлюзы» (1927), «Город Градов» и др.
[Закрыть].
Платонов почти все написанное посылал Горькому. Горький отсоветовал ему печатать два романа, десятки рассказов…
Горький двадцатых годов – это автор книг «Детство», «Мои университеты», «В людях», романа «Дело Артамоновых», воспоминаний о Ленине, о Толстом. Все это издавалось, читалось, но никто не знал, вернется ли Горький в Советский Союз.
Оценка его творчества в целом была иной, чем в тридцатые годы, иной, чем сейчас.
Вацлав Боровский, крупный литературовед-марксист, в своих дореволюционных статьях о Горьком не считал его писателем рабочего класса (он считал его живописцем люмпен-пролетариата и купечества, в некоторой степени бытописателем интеллигенции, а «Мать» считал художественно слабым произведением).
С такими же, примерно, оценками выступал и Луначарский в первой половине двадцатых годов. Каясь в своих собственных «богостроительских» грехах, Луначарский не упускал возможности заметить, что в этих грехах повинен и Горький.
Зимой 1926/27 года в Коммунистической аудитории Университета при баснословном стечении народа – студенчества и пришедших «с улицы» – Воронский сражался с Авербахом. После доклада Авербаха, довольно мучительного (у него был какой-то дефект речи, хотя голос был звонкий, отличный), выступил Воронский.
Снял зимнее пальто, положил его на кафедру. Стал излагать свою позицию.
– Вы подумайте, что они пишут, эти молодые товарищи. – Читает: «Пролетарская литература уже сейчас насчитывает многие имена – Гладкова, Березовского, Горького» – извините, извините, Горького вы сюда не причисляйте…
В журнале «Большевик» была напечатана статья Теодоровича[173]173
Теодорович Иван Адольфович (1875–1937) – критик, публицист, общественный деятель, в 1905 г. принимал участие в издании газ. «Пролетарий» в Женеве, имеет труды по истории революционного движения. Необоснованно репрессирован.
[Закрыть] «Классовые корни творчества Горького», где говорилось то же самое, что и у Луначарского, Воровского и Воронского.
Статья Теодоровича была напечатана в 1928 году. Вскоре точка зрения была изменена. В двадцатых годах за Горького, как представителя пролетарской литературы без всяких оговорок, выступали только рапповцы.
Горький приехал. Толпа у Белорусского вокзала. Плачущий высокий человек с черной шляпой в руках – вот все, что я видел тогда.
В лефовских кругах приезд Горького был встречен недовольным ворчаньем – как-никак «Письмо» после приезда Горького перестало быть козырем.
Шкловский написал фельетон (напечатанный в «Новом ЛЕФе»), где, признавая достоинства Горького как талантливого мемуариста – «Детство», «В людях», «Мои университеты», видел в художественных произведениях многочисленные недостатки. Так, Шкловский, обвиняя Горького в бедности изобразительных средств, подсчитал – сколько раз на протяжении романа «Дело Артамоновых» Петр Артамонов берется за ухо.
В те времена в «Известиях» подвалами печатались главы из нового романа Горького «Жизнь Клима Самгина». Шкловский писал: вот в газетах целую неделю из подвала в подвал ловят сома и никак поймать не могут. А за это время произошли важные события, жизнь идет, а в «Известиях» ловят сома из номера в номер.
Это было время сближения Шкловского с Третьяковым, апологетом «литературы факта».
Приезд Горького оживил литературную жизнь. Сам он поехал по Союзу знакомиться с новой жизнью.
Тогда все ждали прихода Пушкина. Считалось, что освобожденная духовная энергия народа немедленно родит Пушкина или Рафаэля. Сжигать Рафаэля и сбрасывать Пушкина с парохода современности в двадцатых годах уже не собирались, а жадно и всерьез ждали прихода гения, с надеждой вглядываясь в каждую новую фигуру на литературном горизонте. Пушкин не появлялся. Этому находили объяснения: дескать, «время трудновато для пера», и современные Пушкины работают в экономике, в политике, что Белинский нашего времени не писал бы критических статей о литературе, а, подобно Воровскому, был бы дипломатом.
Наш Гоголь
наш Гейне,
наш Гете,
наш Пушкин, —
сидят,
изучая
политику
цен…
<Н. Асеев. «Москвичи»>
Считалось, что Пушкин сидит еще на школьной скамье (осваивая Дальтон-план[174]174
Дальтон-план – бригадная система обучения, разработанная Е. Паркгерот в г. Дальтоне (США).
[Закрыть]).
Но время шло, а Пушкина все не было.
Стали понимать, что у искусства особые законы, что вопрос о Пушкине вовсе не так прост. Стали понимать, что нравственный облик человека меняется крайне медленно, медленнее, чем климат земли. В этом обстоятельстве – главный ответ на вопрос, почему Шекспир до сих пор волнует людей. Время показало, что так называемая цивилизация – очень хрупкая штука, что человек в своем нравственном развитии вряд ли прогрессирует в наше время. Культ личности внес такое растление в души людей, породил такое количество подлецов, предателей и трусов, что говорить об улучшении человеческой породы – легкомысленно. А ведь улучшение человеческой породы – главная задача искусства, философии, политических учений.
Но в двадцатые годы на вопрос: где же Пушкин? – все отвечали: «Наш Пушкин – на школьной скамье!»
Лишь несколько лет назад вспыхнули «Двенадцать» Блока. Поэму везде читали. С рисунками Анненкова[175]175
Анненков Юрий Павлович (1889–1974) – график и живописец, автор острохарактерных портретов писателей, художников, политических деятелей. Иллюстрировал «Двенадцать» А. Блока, с 1924 г. – за границей.
[Закрыть] она расходилась по стране вслед за «Коммунистической Марсельезой» Демьяна Бедного[176]176
Бедный Демьян (наст. фам. Придворов Ефим Алексеевич) (1883–1945) – поэт, автор популярных стихотворений, песен, поэм.
[Закрыть].
Но в 1921 году Блок умер. Дневники его последнего года жизни: нетвердые, тонкие буквы, нарисованные слабой, дрожащей рукой.
Блок много писал в последний год жизни – новые главы «Возмездия» и другие стихи – и не понимал, что он уже перестал быть поэтом. Стихи были беспомощны.
Еще выступали поэты «Кузницы», и Гладков[177]177
Гладков Федор Васильевич (1883–1958) – прозаик, автор романа «Цемент» (1925) и др.
[Закрыть] не казался еще стариком.
Михаил Герасимов[178]178
Герасимов Михаил Прокофьевич (1889–1939) – поэт, автор сб. стихов «Завод весенний», «Железные цветы» (1919), «К соревнованию» (1930) и др. Необоснованно репрессирован.
[Закрыть], высокий, черный, угловатый, в красноармейской шинели с яркими петлицами фасона Гражданской войны, в зеленой поношенной гимнастерке, в старых военных штанах, листал громадными пальцами новенькую, пахнущую типографской краской, только что вышедшую книжечку собственных стихов, с волнением или трудом отыскивая желаемое, отставив черную ладонь, в которой еле умещалась книжечка, – читал. Невыразительно.
Его приятель, облысевший Владимир Кириллов[179]179
Кириллов Владимир Тимофеевич (1890–1943) – поэт, деятель Пролеткульта и «Кузницы», автор сб. стихов «Железный Мессия» (1921), «Огни Октября» (1930) и др. Необоснованно репрессирован.
[Закрыть], читал нараспев своих «Матросов». Букву «с» Кириллов выговаривал, как «ф».
Герои, фкитальцы морей альбатрофы…
Дефекты речи нас не смущали. Лишь бы поэты были живыми существами. Хотя Герасимов и Кириллов и тогда не казались нам поэтами.
Вышла книжка Крученых[180]180
Крученых Александр (наст. имя Алексей Елисеевич) (1886–1968) – поэт, теоретик футуризма. Автор книг «Сдвигология русского стиха» (1922), «Гибель Есенина», «Черная тайна Есенина», «Лики Есенина: от херувима до хулигана» (1926) и др.
[Закрыть] «500 новых острот и каламбуров Пушкина» – продолжение его знаменитой «Сдвигологии».
Вышла книжка-мистификация «Персидские мотивы» Сергея Есенина. Есенин никогда в Персии не был и написал ее в Баку, что по тем временам выглядело почти заграницей.
Встречено это было одобрительно, читалось хорошо. Вспоминали Мериме[181]181
Мериме Проспер (1803–1870) – французский писатель, автор литературной мистификации на сюжеты балканского фольклора «Гузла» (1827).
[Закрыть] с «Песнями Западных славян».
Но слава «Москвы кабацкой» перекрывала все.
Ранний московский вечер, зимний, теплый. Крупные редкие хлопья снега падают отвесно, медленно. Газетчики голосят на Триумфальной: «Газета «Вечерняя Москва»! Новая квартирная плата! Самоубийца поэт Есенин!»
Так и не пришлось мне услышать, увидеть Есенина – красочную фигуру первой половины двадцатых годов.
Но все, что было после, помню: коричневый гроб, приехавший из Ленинграда. Толпа людей на Страстной площади. Коричневый гроб трижды обносят вокруг памятника Пушкину, и похоронная процессия плывет на Ваганьково.
Самоубийство поэта наполнило новым смыслом, живой кровью многие, многие строки его стихов. То, что казалось позой, на поверку оказалось трагедией. Плохая «отделка» многих стихов отступала в сторону перед живой правдой, живой кровью.
Есенин был имажинистом. Вождем этой группы был Вадим Шершеневич[182]182
Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893–1942) – поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, написал книгу, подводящую итог деятельности имажинистов «Итак, итог» (1926).
[Закрыть], сын знаменитого профессора права Г. Шершеневича.
Вадим Шершеневич, хорошо понимая и зная значение всякого рода «манифестов», высосал, можно сказать, из пальца свой «имажинизм». Есенин был в его группе. Есенин – любимый ученик и воспитанник Николая Клюева[183]183
Клюев Николай Алексеевич (1887–1937) – поэт крестьянской патриархальности, «избяной Руси», автор сб. стихов «Песен перезвон» (1912), «Медный кит», «Песнослов» (1919), «Изба и поле» (1928) и др. Необоснованно репрессирован.
[Закрыть], который, казалось бы, меньше всего склонен к декларациям такого рода. Застольная дружба привела его в объятия Шершеневича. Впрочем, Шершеневич войдет в историю литературы не только благодаря Есенину.
Его сборник стихов «Лошадь как лошадь» попал в ветеринарный отдел книжного магазина. Ленин смеялся над этим случаем.
Случаи такие – не редкость. Подобную судьбу испытывали и «Гидроцентраль» – Шагинян[184]184
Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982) – прозаик, автор повести «Мисс Мэнд» (1923–1925), «Гидроцентраль» (1930–1931).
[Закрыть], и «Как закалялась сталь» – Островского[185]185
Островский Николай Алексеевич (1904–1936) – прозаик, автор книги «Как закалялась сталь» (1932–1934).
[Закрыть]. Некоторые стихи Шершеневича из этого сборника твердила тогда вся литературная и не литературная Москва.
А мне бы только любви немножечко
И десятка два папирос…
Любители т. н. «корневой» рифмы могли бы у Шершеневича почерпнуть многое для себя. Он опробовал и более смелое:
Полночь молчать. Хрипеть минуты.
Вдрызг пьяная тоска визжать…
– во всем стихотворении были только неопределенные формы глаголов.
Вскоре Шершеневич выпустил книжку с давно ожидаемым названием «Итак, итог» и укрепился как автор текстов к опереттам.
А. Мариенгоф написал неплохую книгу о Есенине «Роман без вранья». Во всяком случае, она принималась лучше, надежнее, с большим доверием, чем фейерверк брошюр, напечатанных в издательстве автора на грязной оберточной бумаге, сочинений явно халтурного характера, принадлежащих перу Алексея Крученых: «Гибель Есенина», «Лики Есенина: от херувима до хулигана».
Была еще и третья, название которой я забыл. Продавалась она с рук на улицах, как сейчас кустари продают вязаные «авоськи» или деревянные «плечики» для пиджаков. При приближении милиции продавец прятал в карманы брошюрки («Черная тайна Есенина»).
Недавно мне в руки попали стихотворения молодого «новатора» Г. Сапгира[186]186
Сапгир Генрих Вениаминович (1928–1999) – поэт, сценарист, представитель экспериментального направления в русской поэзии, оформившегося в постмодернизм.
[Закрыть]. Это были странички, заполненные точками, и среди точек попадали два-три слова, составляющие, по мнению автора, сокровенный смысл стихов:
…Взрыв… жив
и т. п.
Увы, эти использования точек довел до совершенства в двадцатых годах Алексей Николаевич Чичерин[187]187
Чичерин Алексей Николаевич (1889–1960) – поэт, участник конструктивистского сборника «Мена вех» (1924), член группы «ничевоков».
[Закрыть], грамотный и хитрый ничевок, выступавший на концертах, безмолвно скрещивая руки и делая трагическое лицо. «Опус» назывался «Поэма конца». Все эти ничевоки, фразари выступали на эстрадах и даже не без успеха у публики.
Известным писателем в двадцатые годы был Пантелеймон Романов[188]188
Романов Пантелеймон Сергеевич (1884–1938) – прозаик. Его произведения 20-х годов «Без черемухи», «Яблоневый цвет», «Черные лепешки», «Актриса» исследуют нравы общества, в т. ч. проблемы пола.
[Закрыть]. Его рассказ «Без черемухи» вызвал шумную дискуссию. «Без черемухи» стало нарицательным словом. Романов обличал уродство быта молодежи – «афинские ночи», любовь «без черемухи».
В это же время Сергей Малашкин[189]189
Малашкин Сергей Иванович (1888–1988) – прозаик, поэт. Повесть «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь» посвящена проблеме нравственного растления личности.
[Закрыть] написал рассказ «Луна с правой стороны» на ту же тему.
«Собачий переулок» Льва Гумилевского[190]190
Гумилевский Лев Иванович (1890–1976) – прозаик. Его повесть «Собачий переулок» послужила поводом к дискуссии о проблемах морали.
[Закрыть], «В Проточном переулке» Ильи Эренбурга, «Отступник» Владимира Лидина[191]191
Лидин (наст. фам. Гомберг) Владимир Германович (1894–1979) – прозаик. Его роман «Отступник» – история студента, убившего и ограбившего профессора (в традиции Ф. М. Достоевского).
[Закрыть], «Коммуна Map-Мила» Сергея Григорьева[192]192
Григорьев (наст. фам. Григорьев-Патрашкин) Сергей Тимофеевич (1875–1953) – автор исторических романов и повестей, рассказов для детей, в т. ч. «Коммуна Мар-Мила» (1926).
[Закрыть] – все трактовали ту же, примерно, тему.
Позднее «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева[193]193
Огнев Н. (наст. фам. Розанов Михаил Григорьевич) (1888–1938). Большой успех имела его повесть «Дневник Кости Рябцева» (1926–1927).
[Закрыть] дал более правильное решение тех же самых вопросов. «Дневник» имел шумный читательский успех, успех у критики.
В дискуссиях Романов не выступал, а Сергей Малашкин был очень плохим оратором, терялся на эстраде. Поэтому, разгромленный в пух и прах тем же самым Вячеславом Полонским, Малашкин, я помню, кричал что-то бессвязное, махал руками.
Романов пытался зарисовать, «отразить» действительность, но не пытался понять жизнь. Он дал много беглых картинок быта времени Гражданской войны и НЭПа, всякий раз лаконично, и нельзя сказать, чтобы неверно и неталантливо. Он не претендовал на обобщение, на типизацию. А понимал далеко не все. Его роман «Русь» – плохой, скучный роман.
При НЭПе росли как грибы и частные издательства: «Время»[194]194
«Время» – издательство 3. И. Гржебина, существовало в 1919–1923, общее руководство осуществлялось М. Горьким, издавались избранные сочинения русских классиков и современная литература.
[Закрыть], «Прометей»[195]195
«Прометей» – русское издательство демократического направления, существовало в 1907–1916, издавались книги по философии, русской истории, истории литературы.
[Закрыть]. В большинстве это были коммерческие предприятия. Издавали они переводные романы – Пьера Бенуа, Поля Морана, У. Локка, Честертона, Марселя Арлена, Виктора Маргерита[196]196
Бенуа Пьер (1886–1962), Моран Поль (1888–1976), Арлен Марсель (1899–1986), братья Виктор (1866–1942) и Поль Маргерит (1860–1918) – французские писатели; Локк Уильям Джон (1863–1930), Честертон Гилберт Кит (1874–1936) – английские писатели.
[Закрыть]. Сначала без предисловий, а потом стали давать коротенькие статейки, разъясняющие творческие позиции автора.
К этому времени с большим шумом вышел рекомендованный из-за границы Горьким трехтомный роман Каллиникова[197]197
Калинников Иосиф Федорович (1890–1934) – поэт, прозаик, автор романа «Мощи» (1925–1927).
[Закрыть] «Мощи». Обилие сугубо натуралистических сцен сделало роману успех. Это тот самый роман, о котором писал Маяковский в «Письме к Горькому»:
Кстати – это вы открыли «Мощи»
Этого… Каллиникова…
Выступал на диспутах и доктор Орлов-Скоморовский[198]198
Орлов-Скоморовский Федор Мартынович (1889 – ?), в 1914 окончил медицинский факультет Дерптского университета, участвовал в первой мировой войне, затем занимался частной медицинской практикой. Изданы его книжки «Голгофа ребенка», «Аборт» (1921), «Ложь отцов», «Любовь платоническая» (1922) и др.
[Закрыть], выпускавший одну за другой автобиографические повести. «Голгофа ребенка» – называлась повесть о детстве. В последующих книгах в весьма натуралистическом плане сообщалось, как автор заразился сифилисом и как это не только не сломило его дух, но подвинуло на литературные занятия.
С уважением произносилось имя Николая Клюева – одаренного поэта, волевого человека, оставившего след в истории русской поэзии двадцатого века. Пропитанная религиозными молитвами, церковным словарем, поэзия Клюева была очень эмоциональная. Есенин начинал как эпигон Клюева. Да и не один Есенин. Даже сейчас клюевские интонации встречаются в стихах, например, Виктора Бокова[199]199
Боков Виктор Федорович (р. 1914) – поэт, прозаик, широко использует в своих произведениях поэтические возможности русского фольклора.
[Закрыть]. Революцию Клюев встретил оригинальным сборником «Медный кит», выпустил двухтомник своих стихов «Песнослов» в начале двадцатых годов.
Клюев играл заметную роль в литературных кругах. Человек умный, цепкий, он ввел в литературу немало больших поэтических имен: Есенина, Клычкова, Прокофьева[200]200
Прокофьев Александр Алексеевич (1900–1971) – поэт природы и людей русского Севера: «Песня о Ладоге» (1927).
[Закрыть], Павла Васильева[201]201
Васильев Павел Николаевич (1910–1937) – поэт, очеркист. Автор «Песни о гибели казачьего войска» (1928–1932), поэмы «Соляной бунт», пронизанных скорбью о трагической участи казачества. Необоснованно репрессирован.
[Закрыть]. Талант Клюева был крупный, своеобразный. Во второй половине двадцатых годов он уже был где-то в ссылке, ходил в крестьянском армяке, с иконой на груди.
Своеобразной фигурой тех лет был Борис Зубакин[202]202
Зубакин Борис Михайлович (1894–1938) – археолог, поэт-импровизатор.
[Закрыть], поэт-импровизатор. Это – настоящий живой импровизатор, выступавший изредка в тогдашнем Доме Печати. Хотя его стихи нельзя было назвать настоящими стихами – все же способности импровизатора у него были. Впоследствии, в те же двадцатые годы Зубакин куда-то исчез. Оказалось, что он пробовал воскресить ни много ни мало как масонский орден розенкрейцеров (случись дело через десять лет – в 37 году, – я бы объяснил эти рассказы по-другому). Члены ордена были какие-то художники, радиотехники и сестра Марины Ивановны Цветаевой Анастасия – та самая, которой посвятил Пастернак свою «Высокую болезнь».
Зубакин занимался гипнотизмом, передачей мыслей на расстоянии и, находясь в тюрьме, привел, говорят, в трепет всех «блатных» своими опытами.
Больше я о нем не слыхал ничего.
Тарас Костров[203]203
Костров Тарас (наст. фам. Мартыновский Александр Сергеевич) (1901–1930) – журналист, организатор «Комсомольской правды», гл. редактор журн. «Молодая гвардия» (1928–1929).
[Закрыть], редактор «Комсомольской правды», был живым героем, как бы сошедшим со страниц революционного романа. Он не только вырос в революционной семье – он даже родился в тюрьме. Изобретательный газетчик, талантливый публицист, хорошо образованный человек – он внес в «Комсомольскую правду» задор, горячность, любовь к делу. Сотрудникам «КП» в то время клали на стол пять газет ежедневно – из них две «провинциальные» из наиболее крупных, три – московские и ленинградские. На чтение этих газет отводился час. Каждый работник, действуя красным и синим карандашом, должен был оценить материал текущего номера простым подчеркиванием, всякими «нотабене». Внимание должно было касаться и оформления газеты. Потом Костров собирал эти газеты и просматривал. Так он учил газетному вниманию, а для себя – видел рост сотрудника. Бывали дни, когда Костров садился за стол секретаря, заведующего любым отделом, литправщика и работал целый день на этой «должности» – показывая, как надо работать. Семен Нариньяни[204]204
Нариньяни Семен Давидович (1908–1974) – журналист, сатирик, работал в «Комсомольской правде» с 1925, с 1952 – чл. редколлегии газ. «Правда».
[Закрыть] да и Юрий Жуков[205]205
Жуков Юрий Александрович (1908–1991) – журналист, общественный деятель. Работал в газ. «Комсомольская правда», был соб. кор. «Правды» в Париже. С 1957 – председатель комитета по культурным связям с зарубежными странами, с 1967 – политобозреватель «Правды» в США, затем работал в Советском комитете защиты мира (см. Жуков Ю. «Избранные произведения». М. Мысль. 1988. т. I – II).
[Закрыть] могут и подробней об этом рассказать.
Имя свое Костров выбрал еще в юности: Тарасом Костровым зовут одного из героев «Андрея Кожухова» – известного романа знаменитого народовольца Степняка-Кравчинского[206]206
Степняк-Кравчинский (наст. фам. Кравчинский) Сергей Михайлович (1851–1895) – народник, писатель, автор романа «Андрей Кожухов», очерков «Подпольная Россия», «Россия под властью царей».
[Закрыть].
Костров умер от скарлатины тридцати лет.
Костров охотно печатал Маяковского. В «Правде» Маяковский печатался редко, считал такую удачу «нечаянной радостью» для себя. И вовсе был туда не вхож. Что и немудрено, ибо Мария Ильинична, конечно, знала об отношении Ленина к Маяковскому.
Но в «Комсомольской правде» Маяковский был свой человек. Костров печатал там Асеева, Кирсанова, Уткина, Жарова. Напечатал впервые поэта, чьи стихи прозвучали тогда очень свежо и молодо, – Николая Ушакова[207]207
Ушаков Николай Николаевич (1899–1973) – поэт, первый сб. стихов «Весна Республики» (1927), второй – «30 стихотворений» (1931).
[Закрыть].
Николай Николаевич Ушаков и сам, наверное, не знает, как многочисленны его поклонники. Ушаков обещал очень много в первых своих стихах. И удивительна его судьба. Лефовцы числили его своим, усиленно печатали в «Новом ЛЕФе», пока там хозяйничал Маяковский, и знаменитые «Зеленые» напечатаны именно там.
Сельвинский произвел Ушакова в основатели тактового стиха. И Бухарин в докладе на I Съезде писателей поставил Ушакова вместе с Пастернаком.
Человек скромный, Ушаков был несколько растерян, был больше смущен, чем рад. Себя он знал. Второй его сборник «30 стихотворений» остался лучшей его книгой.
В 1926 году неожиданно умер Дмитрий Фурманов[208]208
Фурманов Дмитрий Андреевич (1891–1926) – прозаик, публицист, партийный деятель. Автор романов «Чапаев» (1923), «Мятеж» (1925).
[Закрыть] – писатель, на которого возлагались очень большие надежды. Начало его литературной деятельности – «Чапаев» и «Мятеж».
Фурманов был бывший анархист, видная фигура первых дней революции. Анархические идеи он оставил, вступил в партию большевиков, был комиссаром у Чапаева. Анархистов в те годы в Москве было не так много. На Тверской, напротив кино «Арс» (теперь Театр им. Станиславского), был клуб анархистов, дом, над которым еще в 1921 году развевалось черное знамя. Сам Кропоткин жил и умер в Дмитрове (в 1921 году). Музей имени Кропоткина – в том доме, где он родился и вырос, – существовал до 30-х годов.
В середине двадцатых годов клуб анархистов был закрыт, и многие его деятели перекочевали в столовую с необыкновенным названием-вывеской, выполненной на кубистский манер: «Все-изобретальня всечеловечества».
Членами этого кооператива (их кормили в столовой со скидкой) могли быть только изобретатели. Писатели, политические вожди приравнивались к изобретателям. Заводским «Бризом» здесь и не пахло. Члены кооператива были заняты высокими материями: «Как осчастливить человечество», «Проект тоннеля через Ла-Манш» и в этом роде.
Случилось так, что один наш знакомый, некто Ривин, был членом этого клуба. Он изобрел метод «сочетательный диалог» – экономный и универсальный способ изучения наук. Способ этот заключался в том, что чуть грамотного человека заставляли зазубрить бином Ньютона и рассказать товарищу. А тот рассказывал в ответ квадратные уравнения. Так в своеобразной «кадрили» пары кружились до тех пор, пока не проходили всей программы. Потом бегло все приводилось в порядок, и курс был закончен. Таким же способом Ривин поступал и с литературой, и с историей, и с физикой. Никаких преподавателей не было, были только карточки, заполненные Ривиным собственной рукой.
В газетах того времени часто встречались объявления Ривина: «Высшее образование – за год! Каждый сам себе университет».
Летом 1926 года я готовился в университет, бросил работу и в занятиях Ривина видел способ все хорошо повторить. Но там дело шло вовсе не о повторении, и видя, что я знаком со школьной программой, Ривин во мне разочаровался, но мы сохранили хорошие отношения.
Вот он-то и водил меня в столовую «Всеизобретальня всечеловечества». Особой дешевизны в блюдах не было, впрочем. На стенах «всеизобретальни» висели кубистские картины (сегодня бы их назвали абстрактивистскими). Вдоль потолка были растянуты плакаты необыкновенного содержания, вроде – «Человек – онанирующее животное» и т. п.
Ривин, член партии, вел свой «сочетательный диалог» в кружке при ЦК партии.
Чудак он был большой, низкорослый, лобастый, с большой лысиной, черноволосый, в вельветовой потертой куртке, с блестящими черными глазами.
В читальне МК на Большой Дмитровке, где вход был свободный, а в библиотеке давали все эмигрантские газеты – и «Социалистический вестник», и «Руль», – приятель, вместе со мной готовившийся в вуз, встретил Ривина. Ривин оказался его соседом. Приятель мой спросил Ривина без всякого подвоха, желая воспользоваться им как словарем:
– Скажите, что такое «валовая продукция»?
– Вот приходите на сочетательный диалог в Козицкий, я там вам и скажу.
Анархистом был и Иуда Гроссман-Рощин[209]209
Гроссман-Рощин Иуда Соломонович (1883–1934) – критик, член РАПП, анархист, в 1919 находился при штабе Махно.
[Закрыть]. Огромного роста, страстный спорщик, вечный дискутант всех литературных собраний того времени, Иуда был литературный критик. Чуть не в каждом номере «На литпосту» появлялись его статьи на литературные темы.
Иуда Гроссман-Рощин был видным рапповским оратором. В годы Гражданской войны Иуда вместе с другими вождями русского анархизма – Бароном[210]210
Барон (наст. фам. Боровой Алексей Алексеевич) (1875–1935) – один из лидеров анархистов-индивидуалистов в 1905–1907, впоследствии примкнул к Московской федерации анархистских групп.
[Закрыть], Аршиновым[211]211
Аршинов Петр Андреевич (1887–1937?) – член РСДРП(б), в 1906 сблизился с анархистами, участвовал в террористических актах, после 1917 – один из основателей Московской федерации анархистских групп, в 1919–1921 – ближайший сподвижник Нестора Махно. Эмигрировал. Возвратился в СССР в 1935 г. Необоснованно репрессирован.
[Закрыть] – был в штабе Махно[212]212
Махно (Михно, Михненко) Нестор Иванович (1888–1934) – с 1906 член кружка молодежи Украинской группы анархистов-коммунистов, участвовал в актах экспроприации и террора, приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой. В 1917 стал диктатором Гуляй-Польского района. В 1918 участвовал в Московской конференции анархистов, потребовавшей борьбы с гетманщиной и австро-немецкими войсками. В 1919 заключил военное соглашение с командованием Красной Армии, в 1920 нарушил его и в 1921 его части были разбиты Красной Армией.
[Закрыть], давая батьке советы по строительству анархистского общества.
Иуде было далеко за пятьдесят. Седой, рыжеволосый, в железных очках, которые он иногда снимал и протирал, и большие близорукие голубые глаза Иуды мог видеть каждый.
Литературоведению Иуда Гроссман-Рощин оставил термин «организованная путаница». Смысл в этом термине был.
Вышла «Конармия» Бабеля[213]213
Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940) – прозаик, драматург, публицист. Большой успех имела книга его рассказов «Конармия» (1923–1925). Необоснованно репрессирован.
[Закрыть]. Встречена она была восторженно. Буденный резко выступил в печати о тени, которую, якобы, набросил Бабель на конармейцев, но буденновский демарш не имел успеха. Было ясно, что художественное произведение есть прежде всего художественное произведение.
Еще ранее «Одесские рассказы» были напечатаны в журнале «Летопись», как и некоторые рассказы из «Конармии», «Библиотечка «Огонек», та самая, что существует и сейчас и работавшая тогда куда более оперативно, выпустила «Одесские рассказы».
Слова: «Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить с кем-нибудь стопку водки, об своих конях и ничего больше», – были у всех на устах. МХАТ II-й поставил чудесную пьесу Бабеля «Закат» – о семье одесского биндюжника Менделя Крика, о современном короле Лире – пьесу трагедийного звучания. Вахтанговский театр готовил еще одну пьесу Бабеля «Мария». Героини этой пьесы Марии не было среди действующих лиц, но вся пьеса рассказывала о ней, создавала ее образ. Похожий опыт проделал когда-то Гауптман[214]214
Гауптман Герхарт (1862–1946) – немецкий писатель. Автор пьес символического и социально-критического плана. Пьеса «Флориан Гейер» (1896).
[Закрыть] в пьесе «Флориан Гейер», но там Гейер показывался хоть на одну минуту. В «Марии» этот принцип был выдержан полностью.
Для кино Бабель написал сценарий «Еврейское счастье» о Биробиджане. Был поставлен одноименный фильм, где главную роль играл Михоэлс[215]215
Михоэлс (наст. фам. Вовси) Соломон Михайлович (1890–1948) – актер, режиссер, педагог. С 1929 – художественный руководитель Московского государственного еврейского театра.
Погиб при невыясненных обстоятельствах.
[Закрыть] – актер Еврейского театра одна из самых привлекательных фигур мира искусства двадцатых годов. Грановский[216]216
В 1918 состоялось открытие театра-студии «Габима», которой некоторое время руководил Евг. Вахтангов, поставивший спектакль «Гадибук» (1922).
В 1919 в Петрограде была организована Грановским Алексеем Михайловичем (1890–1937) еврейская театральная студия, которая впоследствии стала основой Московского еврейского театра (1921).
А. Грановский в 1928 остался за границей во время гастролей.
[Закрыть] был художественным руководителем этого театра, игравшего на Малой Бронной. «Гадибук» смотрели, наверное, все москвичи, знающие и не знающие еврейский язык.
Сам Бабель выступал на литературных вечерах с чтением своих рассказов редко.
В двадцатые годы еще читали свои произведения с эстрады. Эти выступления отжили свой век. Сейчас невозможно представить себе какую-нибудь «Среду» Телешева[217]217
Телешев Николай Дмитриевич (1837–1957) – писатель, в 1899 организовал литературный кружок «Среда», написал мемуары «Записки писателя» (1953).
[Закрыть], где автор читал вслух длиннейший роман или пьесу, а все слушали бы его внимательно. А ведь было такое время.
Радио, патефонные пластинки, телевизор заменили личное общение прозаиков с читательским миром. Но в двадцатые годы рассказы еще читались. Разумеется, не повести, а рассказы. Зощенко[218]218
Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958) – прозаик, драматург, переводчик.
[Закрыть], Пантелеймон Романов – словом, все, у кого рассказы были покороче.
Художественную прозу большого плана: Мопассана, Чехова – читал в те годы замечательный чтец Александр Закушняк[219]219
Закушняк Александр Яковлевич (1879–1930) – артист эстрады, чтец и драматический актер. Создатель жанра «вечеров рассказа». Репертуар его был обширен: от Мопассана до Бабеля.
[Закрыть]. Соревнуясь с ним, выступал Эммануил Каминка[220]220
Каминка Эммануил Исакович (1902–1972) – артист эстрады, выступал с чтением рассказов, фельетонов, юморесок.
[Закрыть].
Вместе с Бабелем в московских писательских компаниях появлялся часто военный – командир кавалерийского корпуса Дмитрий Шмидт[221]221
Шмидт Дмитрий упоминается в числе «троцкистов-конников» Червонного казачества (В. Шенталинский. «Рабы свободы». М., Парус, 1995, с. 52) Связь с ними инкриминировали И. Бабелю: «Они – дали мне много сюжетов».
Упом. также: Лев Троцкий «Сталин»: «В 1927 г. во время исключения оппозиции красный генерал Шмидт, прибывший в Москву с Украины, при встрече со Сталиным в Кремле наскочил на него с издевательствами и даже сделал вид, что хочет вынуть из ножен свою кривую саблю, чтобы отрезать генеральному секретарю уши – Сталин, который выслушал все, храня хладнокровие, но бледный и со стиснутыми губами, выслушав, как его называют негодяем, вспомнил, несомненно, десять лет спустя об этой «террористической угрозе». Дмитрий Шмидт исчез, обвиненный в терроризме. Бармину рассказал этот факт Виктор Серж». М., 1990, т. 2, с. 275.
[Закрыть]. Он тоже был фигурой яркой, и жаль, если память о нем исчезнет. Дмитрий Шмидт был необыкновенно одаренный рассказчик. Рассказ Бабеля «Жизнеописание Павлюченки» посвящен Д. А. Шмидту. Говорили, что «Письмо» и «Соль» из «Конармии» рассказаны именно Шмидтом. Позднее Шмидт было хорошо знаком с Алексеем Каплером[222]222
Каплер Алексей Яковлевич (1904–1979 ) – киносценорист и драматург.
[Закрыть], нынешним кинодраматургом, и даже подписал вместе с Каплером напечатанный в журнале сценарий «Станция Хролин». Впрочем, в следующем номере журнала было опубликовано письмо Шмидта, письмо-заявление, что он, Шмидт, никогда не писал никаких сценариев, никаких рассказов и вся авторская ответственность и авторское право на «Станцию Хролин» принадлежат Алексею Каплеру.
Дмитрий Шмидт был расстрелян в 1937 году, а в 1956 – реабилитирован.
Каплер мог бы рассказать о Шмидте многое.
Короткие фразы Бабеля, его неожиданные сравнения – «пожар, как воскресенье», «девушки, похожие на ботфорты» – имели большой читательский успех, вызвали много подражаний.
<О Дмитрии Шмидте рассказал Бармину[223]223
Бармин А. Г. – полпред СССР в Греции, отказался вернуться в СССР.
Серж Виктор писатель – сотрудник «Литературного современника» (Мюнхен).
[Закрыть] Виктор Серж>.
Дос-Пассос[224]224
Дос-Пассос Джон (1896–1970) – американский писатель, в 20–30-е годы экспериментировал в области прозы, включая в ткань романа новеллы, газетную хронику, лирический дневник. Роман «Манхеттен» (1925, рус. перевод 1927).
[Закрыть] запомнился мне тем, что он отказался от посещения Большого театра, Эрмитажа и ездил только в рабочие клубы (в Клуб им. Кухмистерова и другие), и в Ленинграде – по памятным ленинским местам.
Смело ездил в московских трамваях, а езда в московских трамваях того времени требовала крепкого здоровья, хладнокровия и вестибулярного аппарата повышенного сопротивления. Запомнилось мне, что у Дос-Пассоса были рваные носки, но это ему даже шло. В Камерном театре поставили его пьесу «Вершины счастья».
Конечно, короткая фраза была своего рода реакцией на засилье интонаций, заполнивших тогдашнюю прозу, интонаций, которые и сейчас живут в моей памяти как «модная» проза двадцатых годов.
Об этой прозе оставили нам запись Ильф и Петров в «Двенадцати стульях»:
«Понюхал старик Ромуальдыч свои портянки» и т. д.
Отведением глагола в начало фразы пользовался и Гладков[225]225
Гладков Федор Васильевич (1883–1958) – писатель, автор произведения «Цемент» (1925).
[Закрыть]. Гладков был писателем дореволюционным. Вместе с Березовским[226]226
Березовский Феоктист Алексеевич (1877–1952) – прозаик, член группы «Кузница», его роман «Бабьи тропы» (1928), повесть «Перепутья» (1928) посвящены теме Гражданской войны в Сибири.
[Закрыть], с Бахметьевым[227]227
Бахметьев Владимир Матвеевич (1877–1952) – прозаик, член группы «Кузница», наиболее известен роман «Преступление Мартына» (1928), вызвавший дискуссию о пролетарской морали.
[Закрыть] был он в «Кузнице», организации, которая вошла в РАПП с самого начала.
Вышел «Цемент». Успех книги был очень велик.
Протестующие голоса Маяковского с приятелями:
Продают «Цемент»
со всех лотков,
Вы такую книгу, что ли, цените?
Нет нигде цемента,
а Гладков
Написал благодарственный молебен о цементе…
– потонули в гуле одобрений.








