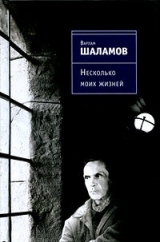
Текст книги "Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела"
Автор книги: Варлам Шаламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 80 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
Глубоко огорченный, ушел я из Вахтанговского театра.
Славин был тоже из «Юго-Западной школы». Первая его повесть «Наследник» написана была блестяще, задумана и решена очень интересно. Его герой – наследник чеховского «Иванова». Как сын Иванова поступил бы во время революции? На чьей стороне были бы его симпатии? Кому служили его дела? Фамилии героев «Наследника» – чеховские: князь Шабельский, купчиха Бабакина.
Некоторая книжность, литературность «Наследника» не мешала видеть в Славине большого писателя, вступающего в литературу. Но после «Наследника» Славин ушел в кино, работал долго как кинодраматург, стал квалифицированным кинодраматургом.
Был напечатан неплохой его рассказ «Женщина» – построенный на тех же принципах, что и «Наследник», – там действуют Чарли Чаплин, Эгон Эрвин Киш[295]295
Киш Эгон Эрвин в 1937–1938 сражался в составе Интернациональной бригады в Испании, в 1940–1946 в антифашистской эмиграции. Автор острых политических репортажей. См. пр. 67.
[Закрыть].
Театры один за другим брали новые рубежи. Первым был театр МГСПС, руководимый Любимовым-Ланским[296]296
Любимов-Ланской Евсей Осипович (1883–1943) – режиссер и актер, с 1923 – в театре МГСПС (впоследствии Театр им. Моссовета). В 1925–1940 художественный руководитель театра.
[Закрыть]. Он поставил «Шторм» Билль-Белоцерковского[297]297
Билль-Белоцерковский (наст. фам. Билль) Владимир Наумович (1884/1885–1970) – драматург. Пьеса «Шторм» (1925) была поставлена в театре МГСПС.
[Закрыть]. Это был первый спектакль о современности на сцене «настоящего» театра. Спектакль был принят горячо и бурно – жизнь заговорила со сценических подмостков громким, полнозвучным голосом. Спектакль много лет оставался в репертуаре театра. Пьеса обошла провинцию с триумфом. Реализм Председателя Укома, братишки, профессора был бесспорен. Такими эти герои и были в жизни.
Прошло много лет. В 1960 году Билль-Белоцерковского пригласили написать сценарий для фильма. Драматург написал, повторив характеры пьесы без изменений. Фильм провалился. Рецензенты твердили в один голос, что такого безграмотного председателя Укома быть не могло, что братишка не реален, профессор надуман. Вкусы и точка зрения изменились. А Билль-Белоцерковский старался честно повторить старый спектакль, для своего времени в высшей степени правдивый в каждой фразе, в каждой ситуации.
Рубежом Художественного театра был «Бронепоезд 14–69» Всеволода Иванова. Потом был «Хлеб» Киршона[298]298
Киршон Владимир Михайлович (1902–1938, сконч. в заключении) – драматург, один из руководителей РАПП. Пьеса «Хлеб» (1930) была поставлена во МХАТ
[Закрыть], афиногеновский «Страх»[299]299
Афиногенов Александр Николаевич (1904–1941) – драматург, один из руководителей РАПП. Пьеса «Страх» (1931) подверглась идеологической критике.
[Закрыть]. Это были пьесы посредственные.
Первой пьесой, поставленной Малым театром, была «Любовь Яровая» Тренева. Драматург очень много работал с театром. Успех постановки был большой.
Остужев[300]300
Остужев (наст. фам. Пожаров) Александр Алексеевич (1874–1953) – актер, с 1898 – в Малом театре. В 1910 оглох, но остался на сцене.
[Закрыть] ставил «Уриэля Акосту». Удивительна судьба Остужева. Глухой, он не только заставил себя заняться любимой профессией, но стал в ней величиной нешуточной. В двадцатые годы он еще не был народным артистом Советского Союза, но имя его было уже хорошо известно.
Другой пример того, что страсть все преодолевает, – актерская судьба Абдулова[301]301
Абдулов Осип Наумович (1900–1953) – актер, режиссер. На сцене с 1918 г., с 1943 – в Театре им. Моссовета.
[Закрыть]. Абдулов – без ноги. Вместо одной ноги – протез. Актер без ноги. Нонсенс. Абдулов не только стал видным актером Театра Завадского[302]302
Завадский Юрий Александрович (1894–1977) – режиссер, актер. С 1915 – актер студии Евг. Вахтангова, затем МХАТ, с 1940 – режиссер и художественный руководитель Театра им. Моссовета.
[Закрыть], он снимался в кино во многих фильмах, с успехом сыграл самые разнообразные роли. Мы хорошо помним генерала Бургойла из «Ученика дьявола» Б. Шоу. Впрочем, тогдашний чемпион мира по авиационным перелетам американский летчик Вилли Пост был одноглазым, потерял глаз еще до того, как сел за руль самолета.
Помню похороны Ермоловой, толпу у памятника Островскому близ Малого театра, старика Южина без шапки, в расстегнутой шубе – вспышки белого пара около его рта, – я стоял далеко, слов нельзя было разобрать.
Смирнов-Сокольский[303]303
Смирнов-Сокольский (наст. фам. Смирнов) Николай Павлович (1898–1962) – актер, библиофил, автор эстрадно-сатирических фельетонов.
[Закрыть], молодой, с белым бантом на вельветовой толстовке, читал в саду Эрмитаж свои фельетоны. Останется ли в искусстве Смирнов-Сокольский? Как книжник-любитель? Не знаю. Наверняка останется как человек, купивший дневник Бунина.
. . . . . . . . . . . . . . . .
В студенческом общежитии, в нашей комнате освободилась койка, которую занимал студент консерватории по классу виолончели. Виолончель в комнате звучала как автомобильная сирена низких тонов. Нам виолончелист мешал заниматься, и мы были рады, когда он получил место в консерваторском общежитии.
Новый сосед был татарин, маленький, стройный, гибкий, плохо владевший русским языком. По вечерам, когда все пять жителей комнаты брались за книги и конспекты и громко говорить было запрещено, новый жилец раскладывал на койке тетрадки и, размахивая руками, что-то шептал. Это был Муса Залилов, будущий Джалиль[304]304
Джалиль Муса Мустафиевич (1906–1944) – татарский поэт, в 1942 был ранен и взят в плен. В тюрьме написал цикл стихов «Моабитская тетрадь», свидетельство его таланта и верности Родине.
[Закрыть]. К нему скоро все привыкли, часто просили читать стихи, русские, конечно. Залилов охотно читал Пушкина, только ошибался в ударениях, в произношении:
Сижу за решэткой, в темнице сирой…
– Пушкин! Хорошо! А вот, слушайте! – Залилов прочел стихотворение, глаза его заблестели.
– Это твое, Муса?
– Да.
Какие кому суждены испытания, в двадцатые годы сказать было нельзя.
Вместе со своим другом прошагал я не одну ночь «по московским изогнутым улицам», пытаясь понять время и найти свое место в нем. Нам хотелось не только читать стихи. Нам хотелось действовать, жить.
Москва, ноябрь 1962.
Москва 20–30-х годов
ПРИМЕЧАНИЯ
Воспоминания В. Т. Шаламова впервые публиковались в ж. «Знамя», 1993, № 4 в сокращенном виде. Полностью публикуются впервые.
Подлинники рукописей хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства. Ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 94.
Седьмого ноября 1924 года я увидел впервые Троцкого на военном параде к 7-летию Октября. Низкорослый, широколобый Троцкий стоял в красноармейской форме в самом углу, невысоко, блестел только что отлакированный деревянный мавзолей. Я прошел в одной из колонн, пристроившись прямо на тротуаре где-то на Тверской, близ Иверской. Иверская действовала вовсю, восковые свечи горели, старухи в черном, мужчины в монашеских одеждах отбивали бесконечные поклоны.
Рядом дышала обжорка Охотного ряда. Тысячи тонн живого мяса, птицы были вывалены прямо на булыжный проспект Охотного. Над магазином «Пух-перо» вздымались белые тучи.
Всего года через два я буду жить тут в Большом Черкасском, рядом с этой самой обжоркой, которая, впрочем, скоро закроется навеки, и выстроят гостиницу «Москва».
Рядом с Троцким стояли какие-то военные, дальше кожаная куртка Бухарина, Преображенский[305]305
Преображенский Евгений Алексеевич (1886–1937), чл. РСДРП с 1903, чл. ВЦИК и кандидат в чл. ЦК (с 1917), работал в газ. «Правда», один из теоретиков РСДРП (б), 1920–1928 – находился в рядах «троцкистской оппозиции», исключен из партии в 1927, в 1931 – восстановлен, в 1933 – исключен, в 1936 арестован, расстрелян в 1937.
[Закрыть], Ярославский, Каменев[306]306
Каменев (наст. фам. Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936), чл. РСДРП с 1901. В 1914 направлен в Петербург как представитель ЦК для руководства газ. «Правда», возглавил Русское бюро ЦК. Член ВЦИК, избранного I Всероссийским съездом Советов. В дальнейшем вместе со Сталиным и Зиновьевым составил «тройку», противостоящую Троцкому. Возглавлял вместе с Г. Е. Зиновьевым «новую оппозицию» – группировку в партии, сформировавшуюся внутри ВКП(б) в 1925 г. Основой ее платформы был тезис о невозможности построения социализма в СССР до победы мировой пролетарской революции.
Критикуя внутрипартийные отношения, они заявляли, что ЦК стоит перед опасностью термидорианского перерождения.
На XIV съезде ВКП(б) оппозиция потерпела поражение. В 1926 г. вступил в союз с Л. Троцким. Неоднократно исключался и восстанавливался в партии. Арестован в декабре 1934, в 1936 – расстрелян.
[Закрыть], еще чьи-то знакомые мне по портретам лица. Парад длился недолго.
Вскоре Троцкий был снят, стал работать в концесскоме, а должность наркомвоенмора принял Фрунзе.
Тот же час родилась частушка, частушка фольклорного типа, та самая, которая извечно сопутствует историческим событиям и переменам, велики или малы они – все равно.
Разве можно горелкою Бунзена
Заменить стосвечовый Вольфрам.
Вместо Троцкого ставят Фрунзе,
Это просто срам.
Это <вероятно> первая частушка литературного творчества оппозиции – весьма, как известно, обильного.
Фрунзе проработал недолго. В 1925 году он умер на операционном столе от наркоза. Не хотел операции, противился ей, согласился после больших уговоров. Все обстоятельства операции Фрунзе рассказаны Пильняком в «Повести непогашенной луны». За хранение повести в 30-е годы расстреливали.
Неправда, что эмиграция, контрреволюция ждала перемен со смертью Ленина. Ленин ведь не работал давно – весь 23-й и половину 22-го года. Целый год он не владел языком, в Горки последний год ездили только его ближайшие друзья. Кто ездил к Ленину в Горки в этот последний год его жизни – об этом рассказала Крупская в одном из интервью. Это Воронский, Крестинский[307]307
Крестинский Николай Николаевич (1883–1938), в революционном движении с 1901, в 1905 примкнул к большевикам, сотрудничал в социал-демократических изданиях, неоднократно арестовывался.
С декабря 1917 – член коллегии Наркомата финансов, гл. комиссар Народного банка, с 1918 одновременно – комиссар юстиции. С авг. 1918 – нарком финансов РСФСР, в 1920–1921 поддерживал Л. Д. Троцкого. В 1921–1930 полпред РСФСР и СССР в Германии. С 1930 – зам. наркома иностранных дел, член ЦИК СССР. В 1937 арестован и в 1938 – расстрелян.
[Закрыть] и Преображенский. Преображенского Ленин встретил случайно, сочла нужным подчеркнуть Крупская. Но и Воронский, и Крестинский ездили в Горки именно как личные друзья.
Конец 24-го года буквально кипел, дышал воздухом каких-то великих предчувствий, и все поняли, что НЭП никого не смутит и не остановит.
Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год. Каждый считал своим долгом выступить еще раз в публичном сражении за будущее, которое мечталось столетиями в ссылках и на каторге.
КурукинВ теоретическом вихре тех лет клубилась пыль самых различных теорий, каждая испытывалась на прочность, вековечные догмы подвергались живой проверке.
Все фурьеристы, все ламаркисты учили о благодетельном, не только оздоровляющем, но переделывающем душу человека влиянии среды. Это принципиальное положение из догм приводило к высшей степени парадокса – «рабочему станку».
Тогдашняя теория относилась к таким переделкам души и сердца самым серьезным образом, и к документу о рабочем стаже нигде не относились с недоверием. Кандидат, сочувствующий – это все вполне реальные, а главное, вполне официальные, признаваемые властью категории.
Вернуть к станку! Послать в цех! – такие решения принимались даже в Коминтерне, ибо дышать воздухом завода считалось немалым делом. На нашем сплоченном кандидатском заводе работал ряд сыновей домовладельцев, нэпманов именно ради документа, ради спасительной справки. Я же работал там не только из-за справки, а именно желая ощутить то драгоценное, новое, в которое так верили и звали. Я пришел туда не как сейсмограф, не для мимикрии, а искренне желая почувствовать этот ветер, обвевающий тело и меняющий душу. К 26-му году я понял, что вязну в мелочах, в пустяках, что у меня другая, в сущности, дорога.
Для того чтобы получить этот стаж, вдохнуть этот рабочий воздух, я и поступил в 1924 году на кожевенный завод в Кунцеве – дубильщиком. Но это был не тот «Москож № 6», как назывался тогда троекуровский, стоящий поныне, а маленький завод Озерского комитета крестьянской взаимопомощи. Это было предприятие нэпмана Кочеткова, который сам был оставлен в роли техрука на своем же заводе на ставке.
Народу было человек 30 всего – рабочих и служащих, даже при той малой механизации все шло вручную, завод был карлик. Но документ он давал, как любая кузница пролетарских кадров. Оглядываясь сейчас назад и вспоминая работяг этого завода, я вижу, что все это были или бывшие нэпманы, или кустари, или дети кустарей. Только несколько человек, по два-три в каждом цехе, составляли рабочий костяк и ничего от будущего хорошего не ждали. Само управление заводом помещалось в Кимрах, завод делал подошвы, а больше ничего. Подошвы и приводные ремни. Если кимрский хозяин-крестьянин сам переделывал себя, организовывал общество, производственную артель, то переделывал с помощью таких бывших частников, какие были на нашем заводе. На заводе было много грубости, споров. Эти споры обострялись от хронического безделья – не было сырья, бойня не давала продукции такому крошечному, да еще подозрительному социально заводу. Бойню нужно было пробивать взятками, что и делали весьма энергично.
По колдоговору утвержденному в Москве, рабочему было запрещено заниматься какой-либо другой работой, сиди и кури, даже двор подмести нельзя.
Заработки у меня там были небольшие, но весьма твердые по тем золоточервонным временам.
До завода я работал в том же Кунцеве ликвидатором неграмотности, учил взрослых, санитарок в больнице два раза в неделю за восемь рублей в месяц.
Декрет о ликвидации неграмотности к 10-летию Октября, к 1927 году, – самый самодеятельный декрет советской власти. Еще в 1971 году в сберкассе существует целая полка карточек – сберегательных книжек неграмотных. Перепись просто обходит этот вопрос. С неграмотностью действительно боролись, самодеятельно и добровольно, и платные учителя, как я, но результатов это не могло дать за десять лет и не только потому, что Новогородская губерния или Чердынский уезд – не Москва, а из-за гораздо более коварного обстоятельства – так называемых рецидивов неграмотности.
Случилось так, что автором проекта Декрета о ликвидации неграмотности был мой будущий тесть по первой жене Игнатий Корнильевич Гудзь – сотрудник Крупской по Наркомпросу В 30-е годы мы более хладнокровно оценивали успех этого декрета, не то что декрет имел лозунговый характер, и в этом случае фантастический срок был вполне оправдан, а просто и этот декрет – след той же романтической догматики, которая владела всеми умами.
«Завтра – мировая революция» – в этом были убеждены все. На фоне этого срок десятилетнего плана борьбы с неграмотностью вовсе не казался преувеличением. Во всяком случае, я работал по ликвидации неграмотности со всем энтузиазмом и верой.
Я проработал на этом заводе до зимы 1926 года. Даже во время безработицы нам не разрешали уезжать в Москву – мы должны были высидеть часы на месте. Оплата таких простоев была полностью. Восьмирублевая ставка ликвидатора неграмотности сменилась ставкой чернорабочего на заводе – 21 рубль в месяц. Когда я перешел в цех, то как дубильщик получал 45 рублей, а попозже как отделочник и 63 – по девятому разряду тарифной сетки. Никакой сдельщины не было тогда. Работали строго восемь часов. 45 рублей зарплаты дубильщика дали мне возможность посылать домой, и покупать одежду, и платить за стол. Я питался в артели, старой рабочей артели. Наш один дубильщик [Мартынов] держал эту харчевню.
Стоило это питание три рубля в месяц – обед и ужин, оба блюда мясные, или завтрак и обед. Печенка, требуха или самая дешевая говядина, картошка и черный хлеб, нарезанный горкой. Ели классической русской артелью – по четыре человека на выдолбленный окоренок – деревянный тазик с подсеченным, подпиленным дном. Ложки у всех свои. Окоренок наливали полный, дымящийся паром-наваром, все это наливала хозяйка, стоя тут же, из бака черпаком. Каждый черпал ложкой и хлебал жидкое – мясо было на дне, а картошка горячая ждала, укрытая в стороне, чтоб [нрзб] превратиться во второе блюдо.
Ритм хлебова регулировался старостой, старшим из этих четырех человек. В нашей четверке таким был Емельянов – старый кожевник, седой отделочник. В нужный момент он восстанавливал ритмичность, то есть справедливость. Емельянов кидал команду: не части! – отталкивал молодые рты, не привыкшие к дисциплине желудка. Потом стучал деревянной ложкой о деревянный таз, окоренок, и командовал: «Со всем!» Это значило: таскай с мясом – выгребай всю требуху, печенку и сердце с деревянного дна. Темп еды чуть-чуть убыстрялся. Затем окоренок убирали, и на стол вываливалась горячая картошка с растительным маслом. Вот и все меню нашего артельного стола. Но и то при такой простоте жалоб были миллионы – то не ту купили требуху, то картошка сыровата. После был чай, но чай-кипяток уже прямо от предприятия, казенный, входящий в колдоговор. Сторож Курукин втаскивал бак с кипятком.
Сторож Иван Петрович Курукин был тоже искатель социального равенства, как и весь этот завод. Курукин был москвич природный, у него была большая семья, пять человек детей, мал мала меньше. Завод давал сторожу квартиру, и это держало Курукина на грошовой ставке на нашем заводе.
Человек он был энергичный, живой, поворотливый, очень толковый, и я удивлялся, зачем Ивану Петровичу эта работа, – он сам мог быть директором завода. Разумеется, я ни о чем не спрашивал Курукина.
Посуду у нас мыли по очереди, и, когда настал мой день, я с полотенцем в руках принялся перетирать стаканы. Курукин смотрел с порога на мои движения с полным презрением к моей неумелости.
– Дай-ка сюда.
Курукин вырвал у меня из рук и стакан, и полотенце.
– Смотри.
Курукин повернул раза два полотенцем внутри стакана, и стакан засиял, как хрусталь. Я без особого, впрочем, смущения похвалил Ивана Петровича за хватку.
– Всякое дело требует знания, приспособления, – сказал Курукин. – Бревно распилить, не умея, нельзя, замучаешь себя и партнера. А насчет стакана скажу тебе – я 20 лет стаканы в шантане мыл, отсюда и хватка.
Вскоре он переехал от нас, нашел какую-то квартиру в Москве. Я узнал, что Курукин профессиональный официант, человек из ресторана, скопивший деньги на свое дело и погибший в волнах НЭПа, пытаясь это собственное дело открыть. Было это в 1924 году, а в 1934 я со своей молодой женой залетел в ночной «поплавок» у Москворецкого моста. Пока мы с женой оглядывались, выбирая столик поближе к воде, к нам подошел какой-то человек в белом – вот садитесь ко мне, за те столики, и мы сели, а человек в белом подошел принимать заказ.
– Иван Петрович!
– Шаламов!
Это был наш сторож с Кунцевского завода Иван Петрович Курукин. Мы обнялись, поцеловались.
– Я угощаю!
– Я.
Мне пришлось заплатить за этот заказ, а Курукин рассказал свою жизнь, что заработки все меньше и меньше, что за одну должность официанта он заплатил, кому надо, целую тысячу рублей, что не было удачи, большого заработка ни в один, пожалуй, год с тех времен. Скопить тоже много не пришлось – семья большая. Мы пожелали друг другу удачи, и уже в сером московском рассвете я расстался с Иваном Петровичем навсегда.
Курсы подготовки в ВУЗТетка, у которой я жил в Кунцеве, не вошла в мою жизнь ни единым словом совета, желания, требования. Мне просто было дано место в ее двухкомнатной казенной квартире при больнице, где тетка работала много лет. Тетка – вологжанка, уехавшая на бестужевские курсы. Но курсы эти не устроились, и она получила сестринское медицинское образование. У нее были и какие-то прогрессивные знакомства. Но к 24-му году всех ее друзей войны и революция разметали по всему свету, и тетка одиноко держалась если не за прогрессивные принципы и взгляды, то за опытность, квалификацию медицинской сестры, которой, впрочем, все осточертело – и медицина, и жизнь.
Молодежь у нее собиралась, но обычного гитарного рода, не более. На какой-либо совет тетка не отваживалась. Все мои решения, мой план жизни был выработан мною самим без единого советчика во время движения поезда Кунцево – Москва. Я понимал, что опаздываю, что завод не дает мне ничего, кроме физической усталости, что пропуск, разрыв между образованием становится все больше, все меньше надежд на исправление.
Надо было еще помнить, что само по себе среднее образование, полученное в Вологде, да еще во время Гражданской войны, дальтон-плана и посылок АРА[308]308
Ара – Американская администрация помощи (1919–1923), руководимая Г. Гувером, создана для помощи европейским странам, пострадавшим в I мировой войне. В 1921 деятельность Ара была разрешена в РСФСР.
[Закрыть] – не настоящее образование.
Я с трепетом как-то заглянул в алгебру Киселева. Бином Ньютона, теория множеств вызвали у меня холодный пот на спине. Тем не менее идти назад было поздно, решение принято. Мне надо было бросить завод, изменить жизнь резко, добраться до книг – старых моих друзей.
В январе 1926 года я бросил завод, получил на руки около 200 рублей и перешел в Москву к старшей сестре, где и прописался на Садовой-Кудринской, Нужна была только крыша, но именно московская крыша. Тогда не было паспортов, и профсоюзный билет был документом, заменяющим все другие удостоверения личности. По профсоюзному билету меня и прописывали. Но у сестры можно было спать, но ведь не сидеть до утра, тем более что она жила с мужем неладно.
В библиотеку я записался в Ленинскую – Румянцевскую, кроме того гораздо удобнее оказалась читальня МОСПС в Доме Союзов. Вот в этой библиотеке, в ее читальном зале, я и провел весь 26-й год. День в день. Модестов – известный русский статистик – заведовал тогда этой читальней. Там был и домашний абонемент. Видя такое мое прилежание, он дал разрешение давать мне книги домой из спецфонда. Это был не то что спецфонд, а просто полки, где ставили книги, снятые с выдачи по циркулярам Наркомпроса: по черным спискам (как в Ватикане)…
Там, с этих полок, я и прочел «Новый мир» с «Повестью непогашенной луны» Пильняка, «Белую гвардию» Булгакова в журнале «Россия», «Ленин» Маяковского – поэма «Ленин» стояла на этих ссыльных полках года три.
В этой же библиотеке, уже после моего первого срока, в 30-е годы я был консультантом по художественной литературе – по прозе и могу вас заверить, что самотечный поток никогда и нигде не ослабевал.
При первой самопроверке выяснилась страшная, даже катастрофическая вещь. Выяснилось, что я вовсе не знаю школьных программ. И если по гуманитарным наукам кое-что хоть складывалось в какие-то очертания, то в математике и физике даже и очертаний не было, были просто провалы, черные пустоты, называемые также белыми пятнами. Прыжок, который я собирался сделать, не имел твердого основания для разбега. Это меня напугало. Трехлетний перерыв в образовании грозил уничтожить все надежды, все планы.
Притом я убедился, что никакого рабочего духа в мою психологию не попало после этих лет, абсолютно не нужных, на кожевенном заводе. То ли именно мне не нужна была такая школа, то ли сам полукустарный заводик не обеспечивал духовных кондиций, необходимых для переделки человека, – не знаю. Я чувствовал только потерянное время, угрожающее изломать навек мою жизнь, уже вошедшую в чтении, в лекциях в духовную жизнь страны и столетия. Интересы, понимание, хоть и детское, явились у меня в те дни в читальном зале МОСПС. Этого было вовсе не достаточно, чтобы поступить в вуз, это было вовсе не среднее образование. Средняя школа в ее гуманитарной части научила меня задавать жизни вопросы. Но математическая часть, физическая содержит не вопросы, а ответы, точные ответы, которые надо знать наизусть, ни с чем не сравнивая, ничем не заменяя. Зубрежка могла спасти только в медицине. Я вырос без зубрежки, вопреки зубрежке, в борьбе с зубрежкой и впервые ощутил, как слаб, шаток, ничтожен тот фундамент, на котором я стою.
Тогда, в читальне МОСПС, оказалось, что у меня нет этого фундамента. План действий был быстро составлен. Необходимо было как-то не повторить, а выучить школьную программу в рекордно короткий срок. Выходом явились курсы подготовки в вуз, открытые тогда повсеместно. Для меня эти курсы явились спасением, я нашел ту форму обучения, которая давала надежды на успех.
Наши курсы помещались на Никитском бульваре, в том доме, где умер Гоголь. Это были курсы платные, трехмесячные, и плата была большая, что-то рублей семь в месяц. Платить нужно было вперед. Курсы были халтурным предприятием, но вели их московские учителя, применяясь к самым новейшим требованиям. Каждому по окончании выдавалась бумажка с печатью об окончании курсов, и эта бумажка играла свою роль тогда – бумага эта говорила, что ее владелец хочет учиться, а не просто командирован, и не бросит учебы.
Если пересчитывать на темп времени, то эти курсы подготовки в вуз как раз и были чем-то вроде благородного пансиона при Московском университете, где когда-то учились Лермонтов и Грибоедов. Понятно, что все слушатели курсов были москвичами, и это еще более укрепляло доверие к этим странным документам.
По физике, по математике я подогнал НАСТОЛЬКО основательно, что осенью того же года на экзамене в МГУ получил вуд[309]309
В 20-е годы действовала трехбалльная система оценки знаний: весьма удовлетворительно, удовлетворительно и неудовлетворительно.
[Закрыть] по математике вместе с лестным вопросом, почему я не иду на физмат при столь ярко выраженных математических способностях. Я хотел объяснить экзаменатору психологию моего эффекта – эмоциональное напряжение после трехлетнего ожидания, эмоциональный подъем, разрядка в нужный момент, хотел объяснить, что за этим эффектом ничего нет к физическим наукам – ни любви, ни уважения. Но счел нужным промолчать.
Зато по русскому языку я получил достойное удовлетворение – при вуде за письменную был освобожден от наиболее нудной части словесности – устного экзамена.
Курсы подготовки в вуз свели меня с моим лучшим другом Лазарем Шапиро[310]310
Шапиро Лазарь Матвеевич (1903–1943), окончил 1-й МГУ, погиб на фронте.
[Закрыть], тоже из запоздавших к штурму неба. На этих курсах я настойчиво искал партнера, который мог бы гнать программу еще и дома. Таких желающих было немало, но мне это все не подходило. Мне приходилось бы их тащить, я бы сам отставал – темпа нужного, ритма я не находил. Моим требованием была только квартира для занятий. Партнеры мои менялись, занятия на курсах шли. На одном из первых занятий по русскому языку – а слушателей было человек сорок – преподаватель русского языка Ольга Моисеевна Коган заставила всех написать работу, предложив несколько тем. Темы были выписаны Коган на доске, и за полтора часа все слушатели справились с заданием. Я выбрал какую-то тему из Тургенева – об «Отцах и детях», кажется.
– Отметки я вам расставляю по пятибалльной дореволюционной системе, – сообщила Коган. – Это и для меня, да и для вас важно. Приспособить четверку к тройке можно всегда без труда.
Этой фразой начались занятия по русскому языку. Полтора часа, два академических занятия длилась эта работа. И дней через пять Коган продолжила занятия, выложив на стол пачку исписанных нами листков.
– Ну, – сказала Коган, закуривая «дукат», – она курила беспрерывно. – Как я и ожидала, уровень грамотности ваших работ невелик. Есть только одна работа, заслуживающая пятерки. Это работа Шаламова. Кто Шаламов?
Я встал. С детства мне было не привыкать получать высокие оценки по литературе, и я не обратил на это внимания, приняв это как должное. Но не так думал класс. Какой-то лобастый школьник протянул руку.
– Позвольте задать вопрос?
– Пожалуйста.
– Моя фамилия Шапиро. Вот вы поставили Шаламову пять, а мне четверку. Чем вы руководствовались в таком различии? Я проверил, у меня так же, как и у Шаламова, все запятые на месте. Не можете ли вы обосновать свое решение?
Коган встала и объяснила, охотно углубляясь в предмет, что представляет собой искусство, литература, – о постижении этого неуловимого [нрзб].
– Вы хотите сказать, что у Шаламова есть литературный талант?
– Да, – сказала Коган.
После этого мы стали с Шапиро друзьями. Именно с ним я поступал на факультет советского права, а после первого курса пути наши разошлись, он пошел на хозяйственно-правовое, я – на судебное. Мы встретились снова в оппозиции. Никакого влияния тут не было, на нас обоих влияло одно и то же: век, время. Москва.








