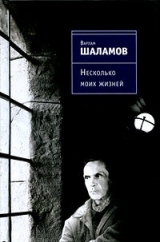
Текст книги "Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела"
Автор книги: Варлам Шаламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 80 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
Каждый дневальный имеет своих работяг, которые все делают за супчик, за кусок хлеба, – так и на прииске.
– Но дело было не <в> его симпатии или сочувствии к доходягам. Он мог бы эту крохотную комнату мыть и сам – но чтобы дневальный МХЧ – да не имел особого раба – это невообразимая вещь в российских лагерях.
Я думаю, вольнонаемый начальник моего дневального, узнав, что тот моет крошечный кабинетик сам, – вышиб бы его на общие работы за то, что тот не может пользоваться положенной властью, пятнает позором его, начальника. По всему Магадану хохотали бы: это тот начальник, у которого дневальный сам полы моет. Получал я хлеб, дневальный насыпал закрутку махорки, [давал] талон в столовую, [я] либо съедал, либо отдавал своим соседям. Транзитка мне стала нравиться даже. Но начальство не было так просто. Огромный пакгауз с четырехэтажными нарами на транзитке пустел. На одной из перекличек нас оставалось человек сто, а то и меньше. После очередного выкликания нарядчик не отпустил нас в барак. А куда?
– Пойдем в УРЧ[344]344
УРЧ – учетно-распределительная часть.
[Закрыть] печатать пальцы.
Пришли в УРЧ.
– Как твоя фамилия?
– Шаламов.
– Что же ты не откликаешься два месяца?
– Никогда не слыхал, каждый день выхожу на поверку, не вызывали.
– Ну иди отсюда, сука.
Нужно было собираться в этап, и нас отправили, но не в сельхоз или рыбалку, а в угольную разведку на Черное озеро[345]345
На Черном озере Шаламов работал с апреля 1939 по август 1940 г.
[Закрыть]. К счастью, в качестве инвалидов для обслуживания вольнонаемных, вольняшек – только что освободившихся зэка – тоже с пересылки, только вольнонаемных, подписавших договоры на год с Дальстроем, чтобы подработать. Начальник нового угольного района Парамонов, которому людей не дали из заключенных – тех гнали на золото, – выпросил хоть шесть человек для обслуги своих вольных работяг. Я должен был поехать кипятильщиком, Гордеев – сторожем, Филипповский – банщиком, Нагибин – печником, Фризоргер – столяром.
У вольняшек не было ни копейки, все, до белья, было продано или проиграно на вольной транзитке, на карпункте, как он называется, карантинном пункте, таком же, как транзитка для зэка, только поменьше – та же зона, те же бараки. Карпункт был размещен вплотную к транзитке. Такие же нары пустые. Карпункт опустел тоже. Пароходы ушли.
Вот этих-то голодранцев и нанял Парамонов на Черное озеро в угольную разведку, где искал уголь. Уголь, а не золото. Когда мы ночевали впервые на Атке, в клубе дорожников, на нары расстелили палатку, которой мы закрывались в дороге на машине, и спали, спали. У вольняшек не было денег ни копейки. Надо было купить табаку. И махорка в вольном лагере была, и они имели право ее купить, они уже были не зэка. Но денег не было ни у кого. Старик Нагибин дал им рубль, и на этот рубль была куплена махорка, поделенная на всех поровну – и зэка, и вольняшкам, – и выкурена. На следующий день приехал начальник и выдал какие-то деньги.
Начальник района Парамонов был старым колымчанином. Лагерный район НКВД он открывал не первый. Так, именно Парамонов открывал Мальдяк, знаменитый колымский прииск-гигант – там было до двадцати тысяч человек списочного состава. И смертность в 1938 году была выше даже обычной колымской смертности. Генерал Горбатов[346]346
Горбатов Александр Васильевич (1891–1973) – генерал армии, автор воспоминаний «Годы и войны», «Новый мир», 1964, № 3–5.
[Закрыть], поступив на Мальдяк, превратился там в инвалида в две недели. Это видно из подсчетов времени: прибыл – убыл. Прибыл работягой, убыл инвалидом. Столь кратковременное пребывание на Мальдяке не дало возможности генералу Горбатову разобраться в нем – он пишет: в Мальдяке было человек 800, и спас его фельдшер, отправил его в Магадан как инвалида. Никакой лагерный фельдшер таким правом и возможностью не обладал. Горбатов «доплывал» на одном из участков мальдяка, прииска-гиганта. На Штурмовом в это время было четырнадцать тысяч человек, на Верхнем Ат-Уряхе – двенадцать тысяч. Доплыть за три недели – это нормальный срок для всякого человека – при побоях, голоде, холоде и четырнадцатичасовой работе. Именно три недели тот срок, который делает инвалида из силача.
У Парамонова в разговоре с вольняшками была постоянная присказка: «в цилиндрах домой поедете»…
Парамонов был неплохой начальник, без него жизнью Черноозерского государства управляли сообща вольнонаемный прораб Касаев и строитель десятник Быстров. Быстров – бывший зэка, а Касаев – инженер-техник геолог – или техник-геолог – договорник, вольнонаемный.
Когда в отсутствии Парамонова Касаев и Быстров не разрешали нам как заключенным выдачу вина – а всяческого коньяка, настойки всякой на складе была бездна – полярный паек – и мы пожаловались Парамонову, тот велел выдать даже за прежние дни.
«Тайга для всех одна», – мрачно сказал он.
Мы ели из общего котла с вольнонаемными (шесть заключенных и двадцать пять вольных). Получали всякие выписки – галеты, масло, сахар.
Бесплатно – те, кто не хотел, деньги зачисляли на текущий счет. Так делал только один из нас – столяр Пикулев, прибывший позднее. Потом, когда все эти выписки отменили, Пикулев <был> очень огорчен, что все пропало.
Я же действовал по извечно лагерному закону: «Начинай еду с самого лучшего».
Парамонов редко бывал на Черном озере. Он более действовал в Магадане – добивался, хлопотал для района все, что положено. Его <требованиями> прибыло на Черное озеро несколько десятков людей на смену уволенным вольняшкам, которые хая, и без цилиндров, жить долго на Колыме не хотели.
Внезапно Парамонов был снят за растрату – хищение, кражи и прямую продажу по спекулятивным ценам концентратов, всяких лапшевников, мясных и молочных консервов. Его хотели отдать под суд, но не отдали – уволили из Дальстроя.
На смену ему Черное озеро принял Богданов, бывший уполномоченный МВД, герой процесса 1938 года.
Богданов ежедневно издавал приказы о дисциплине, бдительности, построил карцер. Это был тот самый начальник, который получал письма, адресованные мне от моей жены – с которой связь была разорвана около трех лет, изорвал эти письма в моем присутствии, вызвав к себе на квартиру. И бросил клочки в помойное ведро. Все это описано мной в рассказе «Богданов» со всей документальной ответственностью.
Богданов пил день и ночь. И даже спирт перенес со склада себе на квартиру. Секретарь его Федя Карташов говорил, что начальник пьет с утра, как встанет, и до вечера – последний раз на ночь. Все три месяца, что Карташов работал у него секретарем.
В одну из ночей зимних, лунных на Черное озеро пришел человек в пальто с меховым воротником явно не колымского типа.
Он пришел в контору – ночному сторожу показал <приказ>, разбудил секретаря начальника. Карташов хотел разбудить начальника района, но приезжий делать это не велел и лег на столе спать.
Карташов решил разбудить все же Богданова – понимая, что Богданов не простит ему этой оплошности.
Богданов оделся в военную майорскую форму, вошел в контору. Пришедший предъявил документ: «Сдать район в 24 часа т. Плуталову».
– Прошу в комнату, – сказал Богданов. Плуталов отказался. Попросил немедленно принести ему спирт, опечатал бочку своей печатью. И просидел тут же в конторе те 24 часа, в течение которых он принял район.
Семья Богданова, а у него была красавица жена и двое детей, уехали на каких-то случайных нартах оленьих, погрузив имущество.
Уехал Богданов, ничуть не теряя своего великолепного вида и своей уверенности. Потом Карташов объяснил мне, что эта вечная уверенность Богданова объяснялась тем, что он всегда был под хмельком, всегда был на взводе.
Жену свою Богданов бил необычайно, не стесняясь ничьего присутствия.
Ранней зимой под уверенной и веселой рукой Виктора Ивановича Плуталова – горного инженера, который приехал без запаса, чтобы начать чисто горную, производственную часть, и который не спрашивал, конечно, Касаева и дисциплину.
Началась энергичная работа. Стали бить шурфы и рыть законтурные траншеи.
Массивный след угля приводил к развертыванию самых серьезных работ.
Дело в том, что этот район открывал разведчик техник Попов, теперешний главный инженер Дальстройугля. Уголь промывали зимой – прогноз Попова должен быть подтвержден. На район отпустили средства.
Уголь исчезал в пережимах, уходил в сопки. Ничего промышленного тут не было.
Так тут ничего и не нашли. Настал, наконец час, когда высшая комиссия инженерная осмотрела весь район. Последний раз в комиссии участвовал и Попов, и закрыла его.
Тут стали передавать остатки людей на прииски – Хейт был рядом и туда ушли быстро. По сообщениям, по разговорам, по слухам, на Хейте дневальным был Анатолий Гидаш – ему удалось вернуться в Москву еще до войны.
У меня такого знакомства не было, всех моих знакомых расстреляли в 1937 году.
Я пошел к Плуталову и попросил его открыто – не отправлять меня на прииск, если будут отправлять.
– Мы не будем больше отправлять на золото.
– Может быть все-таки случайность.
– Ладно. Я тебе обещаю – на болото отсюда не поедешь.
Плуталов – тот начальник, который расхаживал по командировке, по своему хозяйству, скучал. Любимой его поговоркой была: «Я ведь не работник НКВД». Очевидно, характеры Парамонова с Богдановым стали притчей во языцех в «высших сферах». По крайней мере, угольных, в «Дальстройугле».
Плуталов очень любил меняться с проезжими якутами и эвенками. Даст шапку со своей головы и берет у якутов расшитый малахай. С якутами и эвенами он торговал не без выгоды для себя. У проезжего каюра выменял огромный старинный серебряный портсигар – щелкал им ежеминутно.
– Закуривай, Шаламов, – папироску.
Плуталов сидел на ступенях крыльца, а я – на земле, в почтительном отдалении.
Я взял папироску. Поблагодарил.
– Спасибо, гражданин начальник.
– Хорош портсигар?
– Хорош.
– Это я у каюра выменял.
– Вы, Виктор Иванович, прямо как помещик на Черном озере, – сказал я.
– А что ты думаешь, – сказал Плуталов. – Я и есть помещик.
Всем бы начальник был хорошим, да закрыли работы: угля на Черном озере не оказалось.
– Второй район закрываем, – меланхолично сказал Плуталов, когда получил это важное известие.
– Я всегда [нрзб] закрываю.
Закрывать район тоже нужен опыт, смекалка. Что бросить, что сохранить, что списать. Парамонов был специалистом открывать – что получить в первую очередь, отправить, что вырвать – что украсть. Как подбирать людей.
Саша КоноваловВ угольной разведке на Черном озере работы было мало – если вспомнить золотые забои – и в свободные вечера, я, воскресший, рассказывал соседям по бараку разные истории «из жизни»: о народовольцах, о декабристах, об эсерах, Нечаеве, расшатавших царский трон.
В бараке жило человек шестьдесят. Здесь-то я и проводил свои устные анкеты о Пушкине, Некрасове, читал вслух «Ревизора» и «Евгения Онегина». Это было время, когда начальник района – района, в котором еще нет населения, а есть только штаты высшей администрации – был Виктор Николаевич Плуталов – первый и единственный инженер на этом начальниковом посту. Плуталов относился к чтениям либерально, главное внимание обращал на производство, на фронт работ – Плуталов сменил бывшего уполномоченного МВД Богданова, рвавшего письма заключенных и практиковавшего всяческие «выстойки» – каждый день сочинялись и читались приказы об укреплении дисциплины, о бдительности – до того дня, как выяснилось, что…
(не окончена запись)
Кадыкчан, АркагалаНачали игру в чехарду, чтобы размяться, заводилой был [Корнеев], знакомый мой сибиряк из тех, что идут первыми в работе. На Аркагале он еще держался, но потом был переведен куда-то на прииск и умер. Но все это было потом, а пока Корнеев играл в чехарду. Я не играл, мне не хотелось уезжать из мест, где хорошо жилось. Везли нас на Аркагалу[347]347
С августа 1940 по декабрь 1942 Шаламов работал в угольных забоях на Кадыкчане и Аркагале.
[Закрыть], на уголь, стало быть. Уголь – это не камень в золотом забое, это гораздо легче. Провожали нашу машину и увезли на Аркагалу, но на Аркагалу, на уголь, мы не попали. Этап был «повышенной упитанности», как пишут в лагерных актах приема людей, и нас выпросил у Аркагалы начальник, инженер Киселев на свой участок Кадыкчан, где шли работы по зарезке шахты. Здесь был единственный ворот для людей – кровавые мозоли, голод и побои. Вот чем встретил нас Кадыкчан. Худшие времена 38-го года, приисковые времена. О Киселеве я написал очерк «Киселев», стопроцентной документальности. До сих пор не понимаю, как из беспартийного инженера он мог превратиться в палача, в истязателя. Киселев бил ногами заключенных, вышибал им зубы сапогами. Заключенного Зельфугарова он на моих глазах повалил в снег и топтал, пока не вышиб половину челюсти. Причина? Слишком много говорил. И работа-то еще не начиналась в этот день.
Барак был палаткой, знакомой армейской палаткой, где политические дрожали у печек, которые здесь, в отличие от прииска, топили углем и – без ограничений. Правда, ограничения были вскоре Киселевым введены – у шахтеров, идущих с работы, конвой стал отбирать уголь, но справиться с таким крайне не просто.
Все черноозерцы потрясены, угнетены знакомством с новым начальником, который поставил проблему слишком серьезную, требующую быстрого решения. В 38-м году всех постреляли, поубивали бы прямо в забое. Но здесь, вроде, не слышно было о массовых расстрелах, расстрельных приговорах.
– Выход один, – сказал я в бараке вечером, – в присутствии высокого начальства дать Киселеву по морде просто рукой. Дадут срок, но за беспартийную суку больше года-двух не дадут. А что такое год-два в нашем <положении>? Зато пощечина прогремит по всей Колыме, и Киселева уберут, переведут от нас.
Разговор этот был поздно ночью. На следующий день после развода меня вызвал Киселев.
– Слушаюсь, гражданин начальник.
– Так ты говоришь, прогремит на всю Колыму?
– Гражданин начальник, вам уже доложили?
– Мне все докладывают. Иди и помни, теперь я с тебя глаз не спущу, но пеняй на себя.
Доложил ему это все горный инженер Вронский, с которым у меня случались ссоры, Вронский был в нашем аркагалинском этапе.
Киселев был не трус, надо было выбираться из Кадыкчана.
Выбраться мне помог доктор Лунин, Сергей Михайлович Лунин[348]348
Лунин Сергей Михайлович – врач, с которым Шаламов встречался на Аркагале и в Центральной больнице заключенных (пос. Дебин). О нем – рассказ Шаламова «Потомок декабриста».
У М. С. Лунина не было детей, его брат Никита погиб под Аустерлицем, осталась сестра Екатерина (в замужестве Уварова), поддерживавшая брата-декабриста. Наследником по завещанию М. С. Лунина был его двоюродный брат Николай Александрович Лунин.
[Закрыть], о котором я рассказал уже в очерке «Потомок декабриста», да и в других <очерках> встречалась эта фамилия. Сергей Михайлович Лунин был неплохой малый, несчастье его было в том, что он совершенно умирал от преклонения перед всяким большим и малым начальником лагерным, медицинским, горным.
Я ходил не в шахту – на «поверхность». В шахту меня не допустили бы без техминимума. Шахта была газовая – надо было уметь замерить газ лампочкой Вольфа, научиться не бояться работать в лаве после осыпания, привыкнуть к темноте, смириться с тем, что в легкие твои набирается угольная пыль и песок, понимать, что при опасности, когда рухнет кровля, надо бежать не из забоя, а в забой, к груди забоя. И, только прижимаясь к углю, можно спасти жизнь. Понимать, что крепежные стойки ставят не затем, чтобы что-то держать, каменную гору в миллиарды пудов весом никакими стойками не удержать. Стойку ставят затем, чтобы видеть по ее треску, изгибу, поскрипыванию, что пора уходить. Вовремя заметить – не раньше, не позже. Чтобы ты не боялся шахты. Чтобы умел заправить лампочку, если погаснет, а заменить ее в ламповой – нельзя. Аккумуляторов на шахте было очень мало. Простые лампочки Вольфа служили там.
Я работал на поверхности, и работа мне не нравилась, и конвоя крики. В шахту же конвоиры не ходят. Десятник в шахте тоже никогда не бывает, в отличие от приисковых бригадиров и смотрителей. Боятся, как бы не выпал кусок угля на голову бригадира. Словом, у шахты было много преимуществ, а самое главное – тепло, там не было ниже двадцати – двадцати двух градусов – холода, конечно, но все же не пятьдесят градусов мороза открытого разреза золотого забоя с ветром, сметающим шею, уши, руки, живот, все, что откроет человек.
У меня многократно отмороженное лицо, руки, ноги. Все это на всю жизнь. При любом самом незначительном холоде ноет, болит.
Несколько ночей я проработал на терриконе шахтном – туда время от времени из шахты шла порода, и надо было ее разгружать – открыть борта, снять борт вагонетки, и она сама вывалится, рабочий только сгребает камни со дна вагонетки. Породы шло мало, и я до такой степени замерзал на этом терриконе, что даже заплакал от мороза, от боли. Уйти же никуда было нельзя. Мест для обогрева там тоже не было. Я решительно попросился в шахту. Начальник низового участка Никонов посмотрел на меня с симпатией, но неуверенно, и все же записал на курсы техминимума. Эти курсы проводились в рабочее время, вернее в часы, когда меняется смена, учащиеся не участвуют в передаче смены.
В шахте две смены – ночная и дневная. Научиться не ходить без воды под землю я привык скоро, да и вообще вся наука не оказалась сложной – шахтеров учили и все товарищи, учили на ходу, что надо делать, в отличие от взаимной ненависти в золотых бригадах. Я стал привыкать к шахте. Неудача была еще в том, что у меня очень сухая и тонкая кожа – клопы и вши едят меня ужасно. При сухой коже я очень редко потел при работе. Товарищи считали это просто ленью, а начальство, особенно приисковое, – филонством, вредительством.
Впоследствии из занятий на фельдшерских курсах я понял, что только пот разогревает мускулы для наилучшей отдачи. Я, сколько ни работал, никогда не запотевал, мой напарник по шахте Карелин, краснорожий парень молодой, обливался потом при каждом движении – и очень нравился десятнику и начальнику участка. Я проработал на физической <работе> много лет: и в лагере, и до лагеря, но всегда эту работу ненавидел, хотя техникой владел, простой техникой землекопа, горнорабочего. Я – артист лопаты, я – тачечник Колымы. И еще я знаменитый магаданский поломой.
Конечно, шахта убивает. Я видел много «орлов» – аварий с человеческими жертвами, когда человека расплющивало в пластину. Видел живые куски мяса, стонущие. Шахта есть шахта. Первая авария, которая произошла со мной, была на откатке вагонеток во время счистки лавы: кусок угля перелетел загородку (она не была глухой, как положено) и ударил меня в голову. Я помню только яркую вспышку синего цвета и голос:
– Ты встать можешь?
– Да, конечно.
Я встал, потер ушибленное место, замазал ранку по шахтерским правилам угольной пылью – заслюнил угольную пыль и намазал. Угольная пыль – это гуминовая кислота. Она не только не вредна, но даже полезна для легких. И туберкулезом на шахте заболевают мало. Истинное заболевание шахтеров не туберкулез, а силикоз – от пыли породы, которую вдыхают легкие шахтеров.
С откатки я перешел в лаву, на выборку угля после взрыва. Крепежники ставят крепы на местах, где бухтит кровля, и навальщики выбирают уголь, сталкивают его вниз по желобам, которые трясет мотор. Здесь у меня тоже была одна авария. Во время смены не успели выбрать весь уголь с отвала, а остатки были как раз под кровлей, которая тут трещала. Постучали сильно – не отваливается. Попробовали отвалить ломом – не отпадает. Значит, будет стоять. Я выбрал весь этот уголь, когда обвалилась кровля. Пласт тут небольшой, метра полтора. Нагнувшись, стоять – как раз по моему росту. Поэтому кровля не ударила меня, а сбила с ног и опрокинула. При падении кровля разбилась, и я вылез. Конечно, такое падение кровли, да еще туча белой пыли при этом – всегда тревожно сначала. Мгновенно сбежалось все начальство: и те, кто принимал смену, и те, кто ее сдавал. У меня было ушиблена голова.
– Будем заполнять карту? – спросил начальник.
Он имел в виду карту несчастных случаев, которая сильно отражается и на прогрессивке, и на добром имени инженера. Мне это было известно очень хорошо.
– Нет, гражданин начальник.
– Вот видите, товарищ главный инженер.
– Да, да.
– Это ты оставил, – спорил наш мастер, наш бригадир, – в следующий раз под суд пойдешь…
Но это кричали мелкие начальники. Инженер уже удалился. Впрочем, вскоре вернулся.
– Хочешь идти домой?
Под домом тут подразумевался барак.
– А можно?
– Можно, я тебя с конвоем пошлю.
Третья моя авария была в одном из штреков на нижней площадке в конце смены, где я цеплял последнюю вагонетку. Напарник мой уехал на вагонетке, а я как более опытный остался цеплять и прицепил за трос вагонетку временно с тем, чтобы, когда [подъедет], нацепить вторую, – перецеплю и пущу вторую первой. Никакого сигнала о подъеме не подавал, подают сигнал электрическим звонком. Как вдруг лебедка пошла, вагонетка развернулась на плите, прихватила меня за ноги к тросу и потащила наверх. Я закричал. Но наверху крика не бывает слышно. Рядом никого нет, чтобы выключить трос. Так меня тащило довольно долго, пока я почувствовал, что валенок мой прорезается тросом. В этот момент лебедка выключилась. Я поднялся наверх, оставив вагонетку. Оказалось, молодой блатарь-лебедчик, который не хотел оставить эту смену, по собственной инициативе включил лебедку, чтобы напомнить мне, что надо торопиться. Я даже не рассердился. Обошлось, и ладно.
– А почему же ты выключил?
– Показалось, что-то тяжело идет.
Четвертая авария была во время войны, я рассказываю о ней в очерке «Июнь».
Чем больше привыкал я к шахте, а шахта ко мне – тем спокойнее было на душе. Шахтерский труд подземного рабочего ценят, хотя [ты] и не крепильщик, не бурильщик, не газомерщик. В шахте надо что-то знать, чтобы не убить других и не убить себя. Чем больше я привыкал к шахте, тем лучше я узнавал людей в бараке. Сначала я так уставал и на работе, а главное, на амбулаторных приемах, по развлечению Сергея Михайловича, что человека в бараке, кроме Родионова, не видел.
Выяснилось, что напротив лежит крепильщик Бартенев, партийный работник из крестьян, вернувшийся к топору. Дальше М[нрзб]. тоже крепильщик, этот потомственный шахтер, посадчик лавы, профессионал. Наверху на нарах помощник генерального прокурора СССР А. Я. Вышинского, бывший одесский прокурор Лупилов. Это был очень культурный человек, единственный человек в бараке, читавший книги постоянно. У него я взял и прочел тоже «Любовь шестидесятых годов», мемуары Шелгунова и Михайлова, перечел хорошо известную мне книгу как заново. Лупилов был тем человеком, который в разговоре о желаниях сказал, что хочет умереть в больнице, только в больнице, не в бараке, не на прииске под сапогами конвоиров, не под сапогами следователя, не под прикладами. Дух у него был боевой, у Лупилова. В шахту его не брали. Он замерзал на поверхности – а сапоги и приклады вынес с какого-то прииска 38-го года. Зимой, военной зимой, голодной зимой 41-го года Лупилов получил посылку, в которой был табак – его раскрали по дороге – и хороший, даже щегольской костюм вольного образца. Лупилов [нрзб] вручил костюм хлеборезу Феде Столбникову. Дар подействовал. Лупилов был освобожден от работы. Ел хлеб с утра до вечера. Потом он умер от алиментарной дистрофии.
Железную койку напротив занимал Миша Оксман – крепильщик, напарник Бартенева. Оксман был политработник, начальник политотдела дивизии Красной Армии. Маршал Тимошенко, первым требованием которого при вступлении в любую должность было удалить всех евреев, вышиб Оксмана и обеспечил ему место на Колыме. Щаденко, который к этому делу руку приложил, тоже мог бы кое-что рассказать об аресте Оксмана. Сроку у него было пять лет. Малоразговорчивый, замкнутый Оксман оживился с началом войны. Начал строить планы, проекты. Речь идет не о заявлениях на фронт, я не знаю, кто из нашего барака подавал такое заявление. Во всяком случае, обнаружилось, как много у нас военных. С Оксманом же мы простояли немало ночей, чтобы выпросить у хлебореза хоть корку хлеба.
Напротив Оксмана и тоже на нижних нарах спал Александр Дмитриевич Ступицкий, бывший профессор артиллерийской академии, делегат 2-го съезда Советов. Срок у него был поболее, чем у Оксмана. Ступицкий на Аркагале работал десятником на поверхности, выгружал уголь, следил за выгрузкой угля и породы. Поворотливый, быстрый, хотя и заросший сединой, Ступицкий был энергичным работником. Его хлопотливое дело кипело даже в большой мороз. Именно Ступицкий сказал мне 23 июня, что началась война, что немцы бомбят Севастополь.
– Я не хотел быть военным, я хотел быть дипломатом, не послом каким-нибудь, а консулом где-нибудь в Бейруте – делать своими руками дипломатическую черновую работу. На военную службу я попал случайно. Что такое призвание – дым. Я – профессор военной академии.
Ступицкий сильно картавил. Была у него дворянская картавость ленинского типа. Ни в какие барачные дела Ступицкий не мешался. Пайка в руке – обед в столовой – сон – и снова бешеная работа на шахтном дворе.
– А в шахту, почему вы не пойдете в шахту? – спросил я его как-то. – Десятником бы там, не 60 ведь градусов.
– Боюсь, – ответил Ступицкий. – Боюсь шахт до смерти. Не могу понять, умираю от страха.
Ступицкий был убит на моих глазах в декабре 1941 года. Шофер пятитонки, груженой, с прицепом, попятил машину и попал ребром кузова в лоб Ступицкому, который выписывал на крыле другой машины квитанцию. Ступицкий упал и был раздавлен. Не скоро принесли носилки и прямо на руках понесли в лагерную амбулаторию километра за полтора. Но спасти Ступицкого было нельзя.
Начало войны было страшным для Аркагалы. Немедленно были отменены все проценты и заключенные переведены на трехсотку <производственную> и шестисотку – стахановскую карточку, уменьшены нормы питания. Барак, где жила 58-я, [был] окружен колючей проволокой, и посажен особый вахтер, увеличен конвой, все ларьки, «выписки» отменены. Начались поверки, выстойки чисто приискового типа. Начались допросы в следовательском домике. Хлеб мгновенно приобрел значение чрезвычайное. Именно в это время всякая выдача хлеба у Лунина прекратилась. Я попробовал попросить хлеба, но Сергей Михайлович заявил раздраженно:
– Сергей Михайлович всех не обогреет.
А санитар его Коля Соловьев, бывший блатарь, пояснил:
– Сергею Михайловичу осталось сидеть с гулькин нос, он рисковать не будет.
Я сразу превратился в политического рецидивиста, кадрового врага народа. Поддерживать знакомство со мной было опасно, в амбулаторию на посиделки Сергей Михайлович попросил не ходить.
Вот в это время на Аркагале я стал «доплывать» очень сильно. Запасов материальных у меня не было давно, и я как-то быстро стал просить у повара добавки. Повар Петров, который тоже жил в нашем бараке, щедрой рукой наливал мне баланду, беловатую воду, юшку. Сразу обнаружилось, что на кухне все мясо идет блатарям, и аркагалинская столовая превращается в самую обыкновенную приисковую, где блатари, угрожая ножом, грабят столовую, требуя налить погуще [нрзб]. Вот в это время мы вдвоем с Оксманом каждую ночь дежурили у хлебореза, пока не замерзали, – не будучи в силах отвести ноздрей от запаха хлеба. Но хлеборез Столбников не собирался обращать на нас внимания.
– Слушай, – сказал Оксман, – из этого ничего не выйдет. Надо стоять по одному. Вот я пойду в барак, а ты стой, требуй, проси. Федька заперся в хлеборезке.
Я этому совету внял, Оксман ушел в барак, а я попросил у Столбникова. Кроме густого мата, я не услыхал ничего. Прошел Сергей Михайлович туда же, в хлеборезку, акт что ли подписывать, но тоже ничего не вынес. Я постучал еще раз – мат был того же тона. Я уже замерз до костей, вернулся в барак – уступая свою очередь, на счастье, Оксману. Прошел чуть ли не час, и через барак, совершенно оледеневший, пробежал Оксман. В руках у него было грамм триста хлеба, который он, конечно, даже и не прятал по правилам полной конспирации. Мне не повезло. Рядом со мной вскочил Бартенев – знаменитый крепильщик, видевший с нар всю эту сцену, всю эту пантомиму, и кинулся на улицу. Через полчаса он примчался в бешенстве обратно.
– Не дал?
– Нет. Но завтра я – иначе, я встану у ларька и, если Федька хоть кому-нибудь попробует дать кусок, я подойду и потребую дать и мне. Не даст – к начальнику, и кончилась жизнь хлебореза Столбникова.
Бартенев был знаменитый крепильщик, неоднократно премированный, всегда получал все сплошь выписки, выдачи, пайки, но у него была 58-я, как у нас, и он через сутки был обречен на голод.
Вся эта сцена разыгралась ночью, поздно вечером, когда нашу зону запирали на замок, дежурный там стоял только днем. Но замок только закладывался, и снять его было легко. На следующий день Бартенев отправился в свою принципиальную экспедицию. Через полчаса вернулся с куском хлеба грамм в 500. Вот в это время и получил свою посылку Лупилов.
И вдруг все изменилось. Оказалось, что все эти распоряжения об ущемлении на случай войны были сделаны по мобплану, составленному вредителями, какими-нибудь Тухачевскими. Что Москва не утверждает всех этих мер. Наоборот, всех заключенных не считают врагами народа, а надеются, что в трудный час они поддержат родину. Паек будет увеличен до килограмма двухсот стахановский, шестисот – производственный и пятисот – штрафной, для отказчиков. Все переводятся на усиленное питание, вводится реестр питания, до каких-то отдельных блюд для выполнивших трехсотпроцентный план. Любое блюдо по желанию за красным столом рядом с начальником шахты, с начальником работ. Продукты будут только американские. Подписан договор с Америкой, и первые корабли уже разгружаются в Магадане. Первые американские даймонды, студебеккеры уже побежали по трассе, развозя на все участки Колымы пшеничную муку с кукурузой и костью. Миллионы банок свиной тушенки, бульдозеры, солидол, американские лопаты и топоры. Приказом было запрещено называть троцкистов фашистами и врагами народа. Начались митинги:
– Вы друзья народа.
Начальники говорили речи.
Многие подали заявления на фронт, но в этом было отказано. Правительство просит честно трудиться на благо родины и забыть все, что было, все, что было хоть бы в первые месяцы войны, все, что было на приисках.
Зона к чертям, никакой там зоны для 58-й. Меня вызвал к себе начальник ОЛПа Кучерской.
– Завтра не ходи на шахту, Шаламов.
– Что так?
– Есть работа для тебя. Я, смотри, решил дать тебе поручение, ты знаешь, что за работу? Колючую проволоку снимать с зоны 58-й, где вы живете. [Нрзб.]
– Я с удовольствием.
– Я так и думал, что в тебе не ошибся.
– А помочь?
– Выбирай сам.
С кем-то, я уж не помню, сматывали мы на палки десять рядов колючей проволоки. Началась война, заключенных кормили во время войны на Колыме очень хорошо, стали кормить хуже после Сталинграда и вовсе вернулись к черному хлебу на другой день после окончания войны.
– Черняшка вот, пожуй, а то ведь воздух[349]349
Имеется в виду белый хлеб из американской муки.
[Закрыть] сожрешь целый килограмм – и никакого говна. Все всасывается. Какая ж тут польза.
Лагерный паек – пайка, как говорят арестанты, – это главный вопрос арестантской жизни. С двадцатых годов начальство хочет получить давлением на желудок управление человеческой душой в самом таком грубом смысле. Именно конец двадцатых годов, перековка доказали, что увеличение тюремного пайка, умелое управление всей этой довольно сложной пищевой гаммой приносит невиданные результаты. Вместе с зачетами рабочих дней пайка служит самым эффективным инструментом общества в борьбе за план. Градации в питании родились перековкой на Беломорканале. Конечно, блатари обманули, как всегда, начальство. Пайки и освобождение приносила справка, которую можно было добыть простой угрозой, пригрозить десятнику, и ты уже ударник, стахановец, и ты уже на воле.








