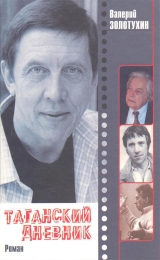
Текст книги "Таганский дневник. Книга 1"
Автор книги: Валерий Золотухин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц)
1967
10 января 1967
Сижу. Жду. Сейчас Регина будет заляпывать мои зубы. «Галилей». Завтра и послезавтра выходные дни. Так и не придумал, чем их занять. Больше всего хочется писать. Дня два писал бы без перерыва где-нибудь на «Автозаводской», может быть, спал бы в середине дня часа по два.
Регина обнаружила еще две дыры в моих зубах. Это уже анекдот, лечение вошло в мой режим как зарядка. Хорошо, хоть врачиха приятная, а то бы вообще тоска, так хоть юмор какой-то появляется. Можно полюбить и разлюбить, круг флирта начался с зубов и кончился зубами. Можно подумать, что она нарочно делает дырки, но ведь ее коллегша подтверждает наличие дырок.
23 января 1967
ВТО. Я и Венька[7]7
Венька – Вениамин Смехов, актер Театра на Таганке.
[Закрыть] отпросились у жен. Банкет устроил Высоцкий. Говорили, – о сказке, об устройстве Люси[8]8
Люся – Людмила Владимировна Абрамова, в то время жена В. Высоцкого, мать двух его сыновей, по образованию актриса (окончила ВГИК).
[Закрыть], о каком-то сценарии для нее, может быть, самим придумать.
Новое дело у меня в жизни – долг перед Люсей, надо что-то сделать для нее.
24 января 1967
Первая репетиция с Сегелем.
– Не старайся очень.
До перерыва шло отлично, после – чушь, ужас, но, господа пр. заседатели, я еще не сказал своего последнего слова. Любимов смотрел «Пакет».
– Валера, мне очень понравилось.
Я обалдел, очень рад был, весь день счастливый. А жена снова канючит, злая, колючая, недовольная моей вчерашней вылазкой. Поистине – за хорошее надо платить. Как мне жить? Что делать? Мрак. Неизвестность.
28 января 1967
Купил машинку. Теперь твоя душенька довольна? Не знаю, что я с ней буду делать, готового ничего нет, а что есть – переделывать да переделывать. Но… взялся за гуж, теперь карты в руках, надо писать.
«Антимиры». С аэродрома явился Андрей[9]9
Андрей Вознесенский – поэт, автор пьесы «Антимиры».
[Закрыть]. Прилетел из Флоренции, спасал искусство от наводнения. Читал. Забывал, обещал закончить в следующий раз.
Репетиция «Маяковского». Ничего пока не соображаю, нравится Любимов, даже больше, – поменьше бы он только говорил о дисциплине.
6 февраля 1967
Сплошные разговоры о Любимове, о его неуважении артистов, о жлобстве, о «Маяковском». Свалив неудачу «Героя» на артистов, Любимов с радостью подхватил перепевы идиотов об отставании актерских воплощений от режиссерских замыслов. Чем дальше, тем больше. Уговаривает меня не сниматься.
– Дерьмовый сценарий, зачем. Хорошо снялся в «Пакете». Практически ты выпадаешь из «Пугачева», да и с «Кузькиным» будет трудно.
Откровенное запугивание, правда, он был под парами.
Печатаю «Стариков», писать некогда, боюсь войны с китайцами, мне бы выкроить пять лет, и я бы кое-что сделал.
Глаголин ходил к Можаеву.
– Условия ужасные, дом – развалюха, страшно… как он живет?
– Что Можаев?
– Грустный, как собака, жена у него прелесть, латышка.
– Она работает?
– Да, редактор какой-то.
– А на вид такая простая!
Левина из разговора с Любимовым в машине об артистах.
– Забурели артисты, забурели, даже Высоцкий. Единственный, пожалуй, кто держится – Золотухин.
Очевидно, она не сказала вторую половину фразы:
– Пока не сыграл Кузькина.
Идея. Вчера, сегодня, завтра.
Любимов. Вчера были очень уважаемые люди из Франции и сказали, что монахи в 6-ой картине не действуют, не тянут, занимаются показухой.
– Премьер Италии сказал, что артисты забурели.
– Зажрались, формализм, не общаются… не по-живому…
Любимов. Володя, сегодня буду смотреть, острее тяни существо проблемы.
Артист. Ю.П.! Дак я ведь не репетировал, Славина была больна, вы заняты очень… я уж сам кое-как.
Любимов. Тем более разговаривай за жизнь, в Брехте можно выплыть только вскрывая социальную суть, жизнь – «а мне надо жить или нет», мы все-таки люди, что, нет?
Артист. Я понимаю, но я ни разу не репетировал.
Любимов. Да брось ты всю эту ахинею, система доведет вас до ручки, это уже анекдот, не верю я в эти периоды застольные, полгода репетируют, наживают… чего наживают?? Штаны просиживают и ни черта не выходит… Надо пробовать сразу, выходить и делать, а не заниматься самокопанием… «сейчас, сейчас я наживу, сейчас, сейчас», выходит, плачет настоящими слезами, упивается собой, а в зале ржут. И занимайтесь дикцией, почему я к вам так придирчив, разучились работать, балетные каждый день тренируются, он знает, я кручу 16, а ты только 15, а если я буду крутить 32, я мастер, мне цены не будет, а драм. артисты считают, что им не нужно тренаж, дескать, было бы самочувствие внутри, «выйду сейчас и дам, ух дам», и дает – смотреть противно, поэтому диалог неживой, ни спросить по-настоящему, ни поставить проблему. К чему я все это говорю, надо всегда на сцене дело делать, заниматься делом, а не показухой. Вот вчера в 6-ой картине спросил правильно.
Артист. Вчера я не играл.
Любимов. Ну, значит, не вчера, раньше. И глаз должен быть в зал. Ну, так сказать, как бы вам сказать, вот кончается сцена, и вы не продолжаете ее, а так останавливаете и начинаете что-то свое, заранее заготовленные красочки, разыгрываете, не ведете сцену, не живете по-настоящему в ней, партнер играет, а вы в это время отдыхаете, пережидаете, вместо того, чтобы искать свое поведение во время его действия. Сами не работаете, не развиваете роли, не освещаете.
– Ты скажи, что не понимаешь.
– Я сказал…
– Ну и что?
– Что?! «Бери острее, вмазывай в зал, тяни сквозное».
– Шутки гения.
17 февраля 1967
Премии. Мне 100 рублей. Много. Завтра получу. Разговор, два с Любимовым – отпустите сниматься…
– Как! Ну как, скажи, выводить тебя из репертуара я не буду. Ну как, скажи, освободить тебя, а репетировать, как я могу репетировать без тебя Маяковского, отменять репетицию?
– Ну нет двух Маяковских и трех гл. подонков, вы же не отменяете репетицию, более того, вы забываете, что их нет.
23 февраля 1967
У меня сегодня праздник, и хоть я освобожден от службы на действительной, в честь него жена мне подарила электрическую бритву шикарную. Наверное, грянет гром, а еще, это того непостижимее – купила мне сигару. Я ее сейчас прижгу и налью кофе, и будет счастье.
Мне сейчас впору начинать гениальный роман, но я подожду, не к спеху, успею, и хоть мне уже скоро долбанет 26, сохраняю веру и надежду, никто и ничто не может запретить мне мечтать.
Давал читать «Стариков» Высоцкому. «Очень б… понравился… и напечатать можно».
7–8 марта 1967
Борьба за съемочные дни.
Ю. П. Мы дали ему квартиру – он должен сделать выводы.
Прием у французов. Вилар, Макс, пьяный Ефремов, ухаживающий за своим шефом, за своим «Де Голлем» – Казаков.
Перед входом остановил милиционер.
– Вы не ошиблись, вы знаете, куда идете?
– Да, знаю, не ошибся.
– К кому вы идете?
– К французам, журналистам, у нас должна состояться встреча с Виларом. Моя фамилия Золотухин, я из театра на Таганке.
– Вот так бы и сказали, а то идете с палкой, за плечами мешок, здесь рядом Белорусский вокзал, часто ошибаются.
– Нет, нет, мы не ошиблись.
– Значит, вы артист, ну идите, извините.
Убил сигарами. Дали на дорогу 5 штук.
10 марта 1967
Взял бюллетень. Прогон – первый. Грустно. Мы в полной… Как я себя ругаю за малодушие, что не осмелился отказаться в свое время… Кажется, решился на исполкоме вопрос с Кузьминками. Будут затыкать мне глотку. Сволочи… Господи! Пошли мне мужество, волю перед лицом испытаний.
Кончается тетрадь, снова надо подбирать симпатичную, писалось в нее чтоб.
Старики переберутся, наверное, в Междуреченск, кончается, прерывается нить деревенской жизни, черт побери все. «Что имеем, не храним, потерявши – плачем».
Пушкин никогда не стрелял первым на дуэли, Дантес знал это и воспользовался, собака. А.С. всегда выдерживал выстрел противника, он был одним из лучших стрелков в Петербурге и при желании мог убить всякого.
Уже вечером, а сегодня «10 дней», надо начинать другую тетрадь, а какую выбрать, не хочется в коричневой.
Завтра велели три паспорта, свидетельство о браке и за ордером в управление.
Не верю.
Прощай, мой товарищ, мой верный слуга!
20 марта 1967
Переезжаем, спим на полу в Кузьминках.
25 марта 1967
г. Москва, Ж-456, ул. Хлобыстова, дом 18, кв. 14.
Таков мой теперешний адрес с 15 марта, кстати, уже 10 дней я живу в новой квартире.
Две комнаты по 16 м2, одинаковые, разнятся цветом обоев, светлые. Полы – линолеум, разживусь – настелю паркет. Ванна, сортир раздельные, это шаг вперед в нашей советской архитектуре. Вода холодная-горячая пока бывает, течет нерегулярно. Есть, есть – вдруг исчезает, снова появляется. Два дня не горел свет. Крыша протекает. Продолбили 6 дыр, спустили воду, можно уток держать. Вообще, роскошь, конечно, разве можно роптать на судьбу и все-таки, муравейник – пооторвать бы «золотые» рученьки проектировщикам и строителям. На первом этаже музыка – на пятом пляшут. Секретов быть не может, бесполезное дело их заводить, только прислушался, настроился и пользуйся бесплатным цирком.
Пятый этаж. Над нами только Бог. Лифт не предусмотрен и балкон тоже. Полное отсутствие всякого присутствия. Но жаловаться грех, грех, все хорошо, все, а чего, действительно, много ли ему надо!!! Дирекция долго будет попрекать меня за неблагодарность, облагодетельствовали, а он не внял, не понял. Ах, народ!
Зато за 10 дней мылся уже раз 6, если в баню бы сходил, оставил 96 коп. да на пиво, вот те два рубля и сэкономил. А уж какое блаженство, когда свое и хоть спи в ванне, никто не имеет права тебя беспокоить. Хорошо! Нет, жить можно, жаловаться грех. Только вот с женой что-то не ладится.
Но эта книжка не для описания квартиры, а жизни в целом, в широком смысле слова жизни. В некотором роде продолжение дневников. Тех, коричневых, красных, розовых и, наконец, эта – серо-буро-малиновая. Но она ничего, симпатичная.
Мои окна выходят в парк, много деревьев и пространства под окнами. Виден балкон и окна Игоря Петрова, ходим, гостимся. Где-то на повороте строится кооператив Калягина. Из окна виден очень далеко огонь, огромный факел, жгут газ, а может быть, пожар, катастрофа какая, но это далеко, до меня эта катастрофа не достанет. Подумал, в этой квартире напишу гениальное произведение и чихнул – теперь придется писать. Рядом строится продовольственный магазин. Наше парадное приспособят под распивочную и писсуарную. Напротив наискосок строится школа: детишки устроят бедлам.
Спим на полу – роскошно, на мой вкус никакую бы мебель не приобретал, только письменный стол. Так по пустым комнатам и резвился бы – красота. Соседи в доме, все, конечно, из коммунальных квартир, не пропустят мимо, оглядят внимательно, пошушукаются – цирк.
26 марта 1967
Все еще не вышел «Маяковский». Измотал вконец. Любимов окончательно забурел, «мы все полное дерьмо, а он на коне». На двух репетициях последних пахло карбидом. Когда выпускали «Героя», тоже пахло. Я запомнил этот запах на всю жизнь. Это были замечательные дни, начиналась новая жизнь, новое дело, я держал экзамен и был предельно свободен в действиях и словах, нет, волнение было колоссальное, но праздничное, восторгу что-то рождалось, а на всю суету было плевать 100 раз.
Любимов, не замечая, бросается из стороны в сторону, даже говорит противоположное себе. Но самое печальное, что он не замечает этого, ему кажется, он и вчера говорил то же что сегодня.
Хочу устроить сегодня разгрузочный день, но из кухни вкусно пахнет, очевидно, завтра будет этот день.
4–5 апреля 1967
Надоели друг другу. Пора разбегаться. Все идет кувырком. Не на чем остановиться. Сменить профессию, что ль? Больно скучно стало, Любимов орет с утра до вечера. «Не много ль говна вокруг Вас, уважаемый патрон…»
«А режиссеры одни подонки»… В зеркало стало страшно заглядывать, хоть и не дамочка. Морщины, кожа висит грубая, красная, глаза уставшие, зеленые, злые – противные.
Вчера между «Павшими» вечерними и ночными «Антимирами» успели сбегать в Плехановку на 20 мин. заработать по червончику. Последнее выступление Маяковского состоялось в этой аудитории. Потеряли всякий смысл звезды, церкви, музеи, трава, дождь – все это скрыто стеной, пеленой и, самое ужасное, что не сосет, не тянет к ним, дно, равнодушие, тоска, пустота – физическое ощущение бесперспективности, скуки. Как-то поддерживает мысль о предстоящих съемках, разрядка и потом – Сегель на меня хорошо действует. Господи! Сделай так, чтобы это не разрушилось, иначе жизнь потеряет всякий смысл, хоть кое-что, хоть что-нибудь?!!
Не могу работать, в смысле писать, кстати, играть тоже не могу… Уперся лбом в угол, в тупик – замуровали, замуровали.
Еще раз скачки. В общей группе, несколько скучно. Но для начала сойдет. Окрепнут ноги, привыкнет спина.
Через час начнется прогон. Перешел на диету, на ночь сократил прием пищи. Кажется, вошел в норму. Но распускаться не надо, сгонять лишний жир очень трудно, приходится лишать себя многих удовольствий едовых, а это совсем тускло при нашей сумеречной жизни.
Застой. Надо всколыхнуть тину, подняться со дна, проснуться. Кардинально изменить что-то в жизни: развестись с женой, поменять профессию, уехать куда-нибудь, на год отключиться от Москвы, от жены, от театра, от друзей. «Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать». Жуть, мрак, лень, тупость.
Начинают собираться артисты.
После первого акта шеф похвалил:
– Правильно работал во многом…
Да… Любимов после прогона: «Ну, вы, конечно, молодцы». Наконец-то, значит, что-то проярыщивается, господи, сжалься…
Жена пришла поздно с Конюшевым из ВТО.
– Отстаньте от меня, – и легла.
Пришлось выпить шампанское с Колькой. И выяснить, куда пропали звезды, церкви, храмы, осень, счастье…
8 апреля 1967
Сдача управлению. Фурор.
Погарельцев. Я ошарашен. Это без дураков, гениальный спектакль.
Кирсанов. Впервые Маяковский зазвучал, как Маяковский.
Эрдман. Это лучший венок в могилу великого поэта.
Арбузов. Вы воскресили нашу молодость, за много последних лет я не помню ничего подобного. Мы повторяемся, а должен быть диалог.
Яшин. Это лучший спектакль этого театра.
Анчаров. Катарсис, я обливался слезами.
Золотухин. Я прошу, чтобы товарищи поразговаривали. Мы, 50 человек артистов, хотим знать нашу судьбу сегодня, сейчас… Мы не выпустим никого отсюда.
Смехов. Борис Евген., кроме того, что вы – руководитель, я знаю, что вы – друг театра.
Какой-то сложный у него ход был, никто не понял.
Родионов. Вы о спектакле, а не обо мне говорите.
Любимов, под конец всей бодяги закусил удила и попер на управление, на МК и т. д. Вспомнил всю трагическую историю, стоившую жизни человека с «Павшими». Бросил перчатку.
Пришла жена мириться и помешала. Вроде помирились, спали вместе. Вчера подсуетился к Марьямову, отдал ему «Стариков». Переживал, что поторопился. Надо было сделать кое-какие вставки, поправки. Сегодня звонил:
– Ну, что же, у меня осталось очень хорошее впечатление. Чувствуете слово, есть авторская страсть и вообще радостно, что это на очень хорошем литературном уровне. Но необходима, конечно, еще кое-какая работа. Есть несколько замечаний по композиции…
– Работы еще очень много. Я переживал, что поспешил.
– Но главное, что стоит работать, стоит. Для более конкретного разговора мне нужно еще раз прочитать, уже с какими-то пометками. Я приду 11 на просмотр, и мы встретимся и договоримся.
Вот это первый разговор с моим первым редактором, добрейшим человеком, «Дедом Морозом» Марьямовым.
Сейчас жду разговора с гл. реж. касательно завтрашней замены в «10 днях» для съемок… Надежд никаких.
Да. Разговора не получилось. Полное отрицание всяческих обещаний, вместо ответа – рычание. Пришел в Вишняки, к себе домой и настрочил заявление-письмо-притчу с просьбой забрать квартиру обратно, дабы она не стала притчей во языцех в устах руководителей, дать отпуск либо рассчитать на две недели. У меня были большие надежды на 8, в случае удачи наступило бы потепление и на моем фронте, но, кажется, только наоборот.
10 апреля 1967
Конечно, я не показал заявление. Снова разговаривал после «Павших» с обоими.
– Ну что ты канючишь? И, прости меня, сейчас ты ведешь себя бестактно. Я тебе сказал: «Завтра посмотрю и скажу», зачем ты пришел сейчас? И почему ты так беспокоишься за них? Я понимаю, если бы ты отстаивал что-то свое, личное.
– Это было бы еще позорнее…
Полный раскардаш со своими же вчера-позавчера изложенными принципами.
Вчера был, несмотря на мои неудавшиеся разговоры, прекрасный день. Мы были с Николаем у гениального российского писателя Можаева Б.А. дома. Господи? Я предполагал после рассказа Глаголина, его существование в быту, но то, что я увидел своими зенками, как говорится, превзошло ожидаемое. Комплекс достоевщины…
Мы сидели на коммунальной кухне, среди веревок с пеленками, колясками (у него трое детей). Куча до потолка газет, банок, склянок, ведер с мусором, книг, холодильника, кухонных всяких нужностей. Это же помещение служит ему, когда он бывает дома, и кабинетом. Когда мы вошли, на одном из столиков, среди посуды стояла машинка, лежала чистая бумага на газетах и стило писателя.
– Вы извините, ребята, я не могу вас повести в комнаты, там малыши спят, а то разбудим.
Мы прихватили с собой «старку», Б.А. подал грибков собственного запаса, откупорил банку немецких сосисок и, выпив, стали разговаривать о жизни, в основном, о земле, о крестьянстве, о Кузькине. Я задавал ему вопросы, до жути смахивающие на корреспонд. штамп…
– Долго ли лежал «Кузькин»?
– Полтора года. Истинное его название «Живой»…
Трифоныч просил меня никому не давать читать, даже друзьям… «А то перепечатают, разойдется в списках и для нашего читателя будет потерян… А сколько он пролежит, это пусть вас не беспокоит… Денег мы вам дадим, сколько нужно… и как только в политике просвет отыщем, сразу пустим». И я, правда, никому не давал читать, никто не знал. Трифоныч просил переделать конец, иначе, говорит, сам бог только поможет, я отказываюсь…
– Кто из писателей вашего поколения достоин уважения, кого вы цените?
– Солженицын… Великий писатель… некоторые места в романе написаны с блестками гениальности… большой писатель… Афанасьев, Белов. Сейчас появились серьезные писатели.
– Как вы относитесь к Казакову?
– К Юрке?.. Хороший писатель, очень хороший…
– Как вы относитесь к Толстому?
– Как к нему можно относиться? Это бог… надо всеми… Но для меня еще к тому же его философия – моя религия.
Он много говорил о Толстом, а кругом летают мухи коммунальные и от них громадные тени. Вот как живет замечательный русский писатель… Пишет на кухне. А мы… стараемся оборудовать кабинет, устроить жилье, условия т. е. для творчества, удобствами вызываем вдохновение… покупаем чернила, бумагу… машинку, весь подобный инвентарь и только одного не хватает, одного не знаем, где купить талант, страсть…
11 апреля 1967
Вторая сдача.
Ю. П. Пережимал, успокойся…
Лиля Брик. Я много плакала… и даже не там, где одиночество, тоска… лирика… я плакала на «Революции», на патетике, потому что, эта патетика его, чистая, первозданная. Это наша революция, это наша жизнь. Этот спектакль мог сделать только большевик, и играть его могут только большевики.
О. Ефремов. Я очень любил этот театр и Любимова со дня его появления (театра), но где-то глубоко, в душе я не совсем соглашался, потому что иначе мне нужно было в чем-то изменять своим принципам, эстетич. понятиям. Но этот спектакль меня потряс и окончательно выбил из меня мои сомнения… я плакал, волновался, это, конечно, лучший спектакль, необходимый нашему народу в этот великий год. И будет преступлением перед народом, перед партией, если он не пойдет…
Вик. Шкловский. Чтобы не плакать, я буду говорить несколько в бок… Пушкина открыли футуристы, вы открыли для нашей молодежи Маяковского… Это исторический спектакль, он освежает нам историю настоящую и будущую, глубоко партийный спектакль. И Лиля, помнишь ты это или нет, Маяковский любил говорить… «Поэт хочет, чтоб вышло, а чиновник, мещанин… как бы чего не вышло…» Позвольте поцеловаться.
Чухрай. Бывает патриотизм и бывает патриотизм профессиональный, так же, как любовь просто и любовь профессиональная… Я протестую, чтобы профессиональные патриоты защищали от нас Советскую власть. Я это говорю, как старый коммунист – с начала войны – это высокопатриотичный спектакль.
Баркан. О проблеме актера в этом театре и о взаимоотношениях его с режиссером. О диктатуре режиссера, это злые, завистливые сплетни… Таких актеров, превосходно владеющих точным донесением мысли, владеющих пластическими, ритмическими средствами выразительности, нет ни в одном театре. Я это утверждаю… Воля актера творчески раскрепощена и точно направлена режиссером в нужную для общего успеха сторону… И теперь надо на наших диспутах поставить на повестку дня вновь вопрос о мастерстве актера, – что это такое? Сегодня я, может быть, впервые понял, как неверно мы толкуем это понятие, и пришло время заговорить об этом с новых сторон, в новом освещении.
Мы актеры, режиссеры, осветители, пост. часть – все профес. люди театра долгое время не могли ставить, писать, снимать так, как этого требует совесть художника, так, как этого требует время… И произошла дисквалификация: вот такая пьеса, со скудным запасом мысли и с таким же обсужден., чего там обсуждать было, все ясно. Этот спектакль заставляет нас по-новому осмыслить нашу жизнь, наше поведение и поступки с революционных позиций, с позиций постоянного внимания к проблемам времени. И какие возможности у театра… Доселе неиспользованные… Поэзия… была забыта совсем, а мы искали, чего бы такое поставить…
12 апреля 1967
Обсуждение «Послушайте» в Управлении. Многое, если не все, записал.
– Дайте ему (Маяковскому) хоть после смерти договорить. – Шкловский.
Спектакль не принят, репетиции продолжаются в Ленинграде, снова горю синим светом. Ну что мне делать? Жена говорит – делай шаг! – Какой шаг? Подать заявление? Как я вывернусь из этой авантюры – «Ничего, подождут, кино не к спеху». Сволочи, все, надо поступать решительно, но как? Чувствую, что произойдет нечто мерзкое, самовольный отъезд с гастролей – увольнение по статье.
Ладно, надо собираться с мыслями, послезавтра отъезд, и у меня дел невпроворот,
15 апреля 1967
Ленинград.
Телеграмма Сегелю. Порядок, буду 19 24 21 привет Высоцкого.
– Володя, не забудь поговорить о моем деле.
Вообще, как-то исправилось настроение. А почему не так волком отнесся сегодня Любимов ко мне, «к моему делу», потому я подошел к нему с крестом, как черта спугнул.
Черный день, по-моему, первый такой.
Ю. П. А с вами у меня особый разговор. Вы сегодня играли просто плохо, просто плохо. Не отвечаете, не спрашиваете, все мимо, не по-существу, одна вздрюченность, вольтаж. Разве можно так играть финал, я просто половину не понял текста.
Кончать самоубийством рано. Мы еще попробуем подержаться, хотя тоска, конечно, смертная.
Сегодня идет дождь. Сижу в номере. Не могу писать. Репетиций по вводам нет. Зарежет меня театр, но вчерашний разговор где-то внутри родил во мне противодействие. Будет легче разговаривать и рвать. Надоело все. Спасает, когда вспоминаю Зайчика, Можаева, Романовского Кольку. Делается теплее, когда знаешь, что они где-то есть и ждут встречи. Еще можно жить. Неприкаянность. Нет, Ленинград, наверное, снова мне неприятен из-за моих личных переживаний.
17 апреля 1967
Приехал Зайчик. Наступило равновесие.
Любимов. Нет, конечно, вы понимаете, что это премьера и вы вздрючиваете свою эмоциональную… штуку!!!
19 апреля 1967
Зачем нужно было издеваться над собой? Приходить в норму, трепать нервы себе и хорошим людям. Любимов сделал свое черное дело, он победил, замотал, сегодня и завтра и вообще снимается другой артист. Мне ничего не остается делать, как выпить 200 гр. портвейна и погрустить. Я получил прекрасный урок игры и «смею вас уверить, господа присяжные заседатели, сумею сделать выводы».
Нет правды на земле, как нет ее и выше…
Униженный и оскорбленный…
Директор. Вы наносите мне рану тяжелее тех, которые я получал на фронте… Это не самое большое несчастье, не торопитесь разводиться с женой и делать подобные заявления… Не торопитесь… Я ни к кому так не относился, как к Вам… Я прошу Вас, я прошу редко, этого не делать. Я начинал сниматься у Довженко… началась война… я ушел на фронт, пусть я посредственность… но, поверьте мне, как человеку, который намного старше Вас, все обойдется, и через полгода вы и мы с вами будем об этом вспоминать не более, как… Я со своей стороны даю слово, чтоб ваше пребывание в театре сделать еще более приятным для вас во всех отношениях, и творческом, и бытовом, и к вашей жене… Считаю, что этого разговора не было… все это останется между нами…
Ю. П. Почему у тебя бывают такие штуки: одну и ту же роль ты играешь то блестяще, то просто как будто не ты? Можаев тебя смотрел два раза и не узнал – такая была разница.
Любимов. Сядьте поближе, я объясню мизансцену, взгляните на сцену. Тишина, сесть всем ближе ко мне, чтобы не орать мне.
– Потрудитесь заболеть и родить эти гениальные образы. Чтобы образ вспыхивал. Тогда от вас глаз оторвать нельзя. Вспомните, как закрывали «Павшие», «Доброго», «Антимиры». Копируйте меня.
Речь, обращенная к нам из-за того, что у нас не получалась трагическая любовь.
– Артисты – все эгоисты, стараются урвать себе побольше кусок, тянут одеяло на себя. Когда был человек, который мог собрать их эгоизм в единый кулак – подчинил их мелкие интересы большому делу, – был театр, не стало его – театр развалился.
Артисты всегда стараются растащить театр, растоптать самое дорогое, это в природе артистов, это их суть, я сам был артистом и отлично знаю все ходы… Задумайтесь, товарищи. Сходите в Ленком, посмотрите на их трагическую участь, вот до чего доводит актерский эгоизм, сплетни… Но у них есть ядро, они проявили самое порядочность – солидарность – 20 человек подали заявление. Наши артисты, убежден, не способны на это, только себе, только за себя.
Смирнов[10]10
Смирнов Юрий – актер Театра на Таганке, с которым В. Золотухин снимался в т/ф «Бумбараш» (реж. Н. Рашеев и А. Народицкий).
[Закрыть] рассказывает, как поступал в Щукинское, на собеседовании у Захавы.
– Что вы знаете об Америке?
– В Америке капитализм.
– Так, ну и что?
– Как ну и что? Он загнивает.
– Ну, эк вы хватили.
– Совершенно свежие сведения, скоро он совсем сгниет и наступит социализм.
11 мая 1967
Подобьем бабки. В некотором смысле итоговый день. Заканчиваются гастроли, в 0.40 мы отправляемся домой. С 7-го по 11 жизнь протекала бурно до такой степени, что некогда было присесть к столу. Во-первых, поездка в Кронштадт.
1. Расстелил на палубе пальто и улеглись с Шацкой.
2. Голодные как волки, теребим капитана. Разводит руками. Кок на берегу, у него (ключи).
3. На всю шайку выдал стакан портвейну и здоровенную сосиску, булку черного хлеба с солью.
4. Банкет: водка, капуста, мясо.
5. Ссора до развода с женой. Высоцкий передал рюмку водки для меня. Она вылила ее в фужер с водой. Взбесился.
– Я раздражаю тебя?
– Да.
– Я не нужен тебе в жизни?
– Нет.
– Все. С этого вечера мы свободны от долговых обязательств.
Капитан смотрит влево, вправо.
– Эх, черт, ни компаса не взял, ни локатора.
2.30 часа стояли. Я спал в трюме на лавке.
9-го в гостях у Рахлина. Брали у нас автографы, заставляли петь, читать, развлекать – идиотское ощущение. На «Ленфильм» Полоке пришло письмо с моей фотографией: «Мы поклонники вашей картины «Республика Шкид», хотим, чтобы вы заняли в вашем новом фильме гениального артиста В. Золотухина и пр. и пр.» Из-за чего он не хотел меня даже смотреть на предмет киноискусства.
16 мая 1967
Сегодня еду на пробу в «Интервенцию». Никогда не был так неуверен в роли, вернее, в «себя для роли». Какой штамп основной? Зерно, где и в чем его главное, стержень, пружина, идея – во как! Много расходов, долгу около 300 руб. Надо срочно влазить в какую-нибудь халтуру, либо вынимать деньги из кооператива и пустить их (так оно и будет) коту под хвост.
23 мая 1967
Совпадение. Снова еду на пробу в «Интервенцию». Не произошло. Не вышло, не хотелось, не шел талант, а режиссер, наверное, хочет, иначе зачем вызывать второй раз артиста. Не вдаваясь в лирику, чем жил:
1) Читаю о Достоевском, спорю с Ивановым.
2) Приняли «Послушайте». Зажали банкет.
3) Думаю над «Запахами», пробую, пока не выходит.
Вчера отличный день. Перебирал бумаги, читал свои первые статьи, совсем неплохо. Возник новый сюжет «Дело Ендрихинского».
«Старики» – в окончательной редакции, с которой двинусь по редакциям тоненьких журналов.
27 мая 1967
Написал письма родне. Вчерась накатал рассказ «Дело» или еще как «О здравии и за упокой». Но чувствую, не получилось, нет, кое-что есть, конечно. Зайчик говорит: «белок и даже желток есть, но нет скорлупки, а, стало быть, и яйца нет». Залпом глотонул Катаева, здорово, просто здорово, но форму спер у Олеши, хотя у этих друзей трудно понять – кто первый изобрел что.
Вон Можаев на кухне коммунальной пишет и ничего – получается. Сейчас возьмусь за последнюю часть «Запахов», потом подчитаю Казакова, Можаева и возьмусь «набело», т. е. с самого начала, сызнова все написать. Сейчас надо придумать эту самую скорлупку, а уж белок с желтком мы в нее вольем.
30 мая 1967
Завтра творческий вечер Высоцкого. Это главная забота. Статья Фролова в «Сов. культуре» о «Послушайте». Телеграмма из Ленинграда. Утвердили на Женьку. Я чего-то жду от этой работы – хотя и боюсь, вдруг не получится и заменят. Но как-нибудь с божьей помощью.
3 июня 1967
Вечер Высоцкого прошел замечательно. Народу битком, стояли даже в проходах. Потом пельмени у Рыжковых. Бег за Иваном Б.[11]11
Иван Бортник – артист Театра на Таганке
[Закрыть] в носках по разогретому асфальту. А сегодня встал в половине седьмого. Жена говорит за 4 года в первый раз, вчера она попросила ребеночка, оттого и не спится.
Сегодня должен подписать договор с «Ленфильмом», боюсь, как бы театр не зарезал нас с Высоцким на пару.
4 июня 1967
Та минута, когда я когда-то не думал о карьере. Выпили с Бортником, черт, тянет с ним выпить и поговорить. Но из формы я вышел – неделю пытаюсь войти, начать – и все не получается. Тупик.
Письмо Солженицына съезду. Стыдно будет перед потомками, что же вы делали, куда же вы смотрели, скажут. Дети спросят, обязательно спросят.
5 июня 1967
Вроде уехал в Ленинград. Жалко смотреть на свои роли, сердце сжимается – мое, мной выстрадано.
Вечером. Кажется у меня есть все теперь для полного счастья. 3 часа мастерил себе письменный стол. Зайчик на «Антимирах», первый раз в истории театра на Таганке спектакль идет без Золотухина, кто-то пошутил: «Надо бы обвести спектакль траурной каймой – без Золотухина – как можно».
Бунин говорил: «Воробей. Хорошо… Опишите воробья, но так, как никто до вас, как вы его воспринимаете». И Толстой говорил, – «Нечего писать? Вот и напишите, что вам не о чем писать». Совсем хорошо – дождь пошел. На небе ни звездочки – Лермонтов из окна – ярчее одним глазом косит, другой в темноте.
Завтра еду в Ленинград – получил телеграмму на примерку. Решил начать новую жизнь – вогнать себя в форму, во что бы то ни стало – писать, читать, кувыркаться, придумывать роль и поменьше мерихлюндий, а то совсем издумался. Чаще вспоминать Моцарта.








