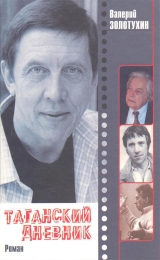
Текст книги "Таганский дневник. Книга 1"
Автор книги: Валерий Золотухин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
Как скажу, так и было,
или Этюд о беглой гласной
В мутный и скорый поток спешных воспоминаний, негодований, обвинений и ликований о Владимире Высоцком мне бы не хотелось тут же выплеснуть и свою ложку дегтя или вывалить свою бочку меда, ибо «конкуренция у гроба», по выражению Томаса Манна, продолжается, закончится не скоро, и я, по-видимому, еще успею проконкурировать и «прокукарекать» свое слово во славу этого имени. И получить за это свои «сребреники». Но вы, уважаемый редактор, просили меня, не вдаваясь шибко в анализ словотворчества поэта, в оценку его актерской сообразительности, не определяя масштабности явления, а также без попытки употребить его подвиг для нужд личного самоутверждения сообщить какой-нибудь частный случай, пример, эпизод или что-то в этом роде, свидетелем которого являлся бы, по Вашему тезису, только я и никто другой. И я согласился Ваш тезис принять за руководство к действию, ибо лично известный факт (факт действительного случая и фантазия сообщившего) в любом случае непроверяем на достоверность: как скажу, так и было… К гиппократовой присяге, к сожалению, мемуаристов не приводили и не приводят; совесть, к сожалению, во все века понятие относительное, а так как мы, по счастью и воспитанию, многие в глубине души атеисты, то и Евангелие нам не устав. А стало быть… как скажу, так и было. А было так. У меня есть автограф: «Валерию Золотухину – соучастнику «Баньки»… сибирскому мужику и писателю с дружбой Владимир Высоцкий». Я расшифрую этот автограф.
Судьба подарила мне быть свидетелем, непосредственным соглядатаем сочинения Владимиром Высоцким нескольких своих значительных песен, в том числе моей любимой «Баньки». «Протопи ты мне баньку по-белому – я от белого свету отвык. Угорю я, и мне, угорелому, пар горячий развяжет язык..» и т. д. Хотя слово «песня» терминологически не подходит к определению жанра его созданий. Потомки подберут, ладно.
Итак, «Банька»… 1968 год. Лето. Съемки фильма «Хозяин тайги». Сибирь. Красноярский край. Майский район, село Выезжий Лог. Говорят, когда-то здесь кроваво проходил Колчак. Мы жили на постое у хозяйки Анны Филипповны в пустом брошенном доме ее сына, который оставил все хозяйство матери на продажу и уехал жить в город, как многие из нас.
«Мосфильм» определил нам две раскладушки с принадлежностями; на осиротевшей железной панцирной кровати, которую мы для уютности глаза заправили байковым одеялом, всегда лежала гитара, когда не была в деле. И в этом позаброшенном жилье без занавесок на окнах висела почему-то огромная электрическая лампа в пятьсот, однако, свечей. Кем и для кого она была забыта и кому предназначалась светить? Владимир потом говорил, что эту лампу выделил нам мосфильмовский фотограф. Я не помню, значит, фотограф выделил ее ему. Работал он по ночам. Днем снимался. Иногда он меня будил, чтобы радостью удачной строки мне радость доставить. Удачных строк было довольно, так что… мне в этой компании ночевать было весело.
А в окна глядели люди – жители Сибири. Постарше поодаль стояли, покуривая и поплевывая семечками, помоложе лежали в бурьяне, может, даже не дыша; они видели живого Высоцкого, они успевали подглядеть, как он работает. А я спал, мне надоело гонять их, а занавески сделать было не из чего. Милицейскую форму я не снимал, чтобы она стала моей второй шкурой для роли, а жители села думали, что я его охранник. Я не шучу, это понятно, в 1968 году моя физиономия была совсем никому не знакома. И ребятишки постарше (а с ними и взрослые, самим-то вроде неловко), когда видели, что мы днем дома, приходили и просили меня как сторожа «показать им живого Высоцкого вблизи». И я показывал. Вызывал Владимира, шутил, дескать, «выйди, сынку, покажись своему народу…» Раз пришли, другой, третий и повадились – «вблизи поглядеть на живого…» И я вежливо и культурно, часто, разумеется, обманно выманивал Володю на крыльцо, пусть, думаю, народ глядит, когда еще увидит. А потом, думаю (ух, голова!), а чего ради я его за так показываю, когда можно за что-нибудь?
Другой раз, когда «ходоки» пришли, я говорю: «Несите, ребята, молока ему, тогда покажу». Молока наносили, батюшки!.. Не за один сеанс, конечно. Я стал сливки снимать, сметану организовал… излишки в подполье спускал или коллегам относил, творог отбрасывать научился, чуть было масло сбивать не приноровился, но тут Владимир Семенович пресек мое хозяйское усердие. «Кончай, – говорит, – Золотухин, молочную ферму разводить. Заставил весь дом горшками, не пройдешь… Куда нам столько? Вези на базар в выходной день». Он-то не знал, что я им приторговываю помаленьку. И тут я подумал, а не дешевлю ли я с молоком-то?.. А не брать ли за него чего… покрепче? Самогон, к примеру… Мне ведь бабки не продавали, я ведь милицейскую форму-то не снимал ни днем, ни ночью. Ну, на самогон-то я, конечно, деньги сам давал, лишь бы нашли-принесли, что они и делали охотно… лишь бы поглядеть на живого. «Прости ты меня, Владимир Семенович, грешен был, грешен и остался, винюсь, каюсь… Но сколько бы и чего кому теперь сам ни дал, чтоб на тебя на живого одним глазком взглянуть… Ну, да свидимся, куда денемся, теперь уже, конечно, там, где всем места хватит, где аншлагов не бывает, как на твоих спектаклях бывало…»
«Чем отличается баня по-белому от бани по-черному?» – спросил он меня однажды. За консультацией по крестьянскому быту, надо сказать, обращался он ко мне часто, думая, раз я коренной чалдон алтайский и колхозник, стало быть, быт, словарь и уклад гнезда своего должен знать досконально, в чем, конечно, ошибался сильно, но я не спешил разуверять его в том, играя роль крестьянского делегата охотно и до конца, завираясь подчас до стыдного. На этот раз ответ я знал не приблизительный, потому что отец переделывал нашу баню каждый год, то с черной на белую, то с белой на черную и наоборот – по охоте тела. «Баня по-черному – это когда каменка из булыжника или породного камня сложена внутри самого покоя без всяких дымоотводов. Огонь раскаляет докрасна непосредственно те камни, на которые потом будем плескать воду для образования горячего пара. Соображаешь? От каменки стены нагреваются, тоже не шибко дотронешься. Дым от сгорания дров заполняет всю внутренность строения и выходит в двери, в щели, где найдет лаз. Такая баня, когда топится, кажется, горит. Естественно, стены и потолок слоем сажи покрываются, которую обметают конечно, но… Эта баня проста в устройстве, но не так в приготовлении. Тут – искусство, что ты! Надо, допустим, угар весь до остатка выжить, а жар первородный сохранить. Что ты, что ты, Володя… Это целая церемония: кто идет в первый пар, кто во второй, в третий… А веники приготовить. Распарить так, чтобы голиками от двух взмахов не сделались? Что ты!
Баня по-белому – баня культурная, внутри чистая. Дым – по дымоходу, по трубе и в белый свет. Часто сама топка наружу выведена. Но чего-то в такой бане не хватает, для меня, по крайней мере, все равно, что уха на газу. Моя банька – банька черная, дымная, хотя мы с братом иной раз с черными задницами из бани приходили и нас вдругорядь посылали, уже в холодную…» В то лето Владимир парился в банях по-разному: недостатку в банях в Сибири нет.
И вот разбудил он меня среди ночи очередной своей светлой и спрашивает: «Как, говоришь, место называется, где парятся, полок?» – «Полок, – говорю, – Володя, полок, ага…» – «Ну спи, спи…» В эту ночь или в другую, уже не помню сейчас, только растряс он меня снова – истошный, с гитарой наизготовке, и в гулком брошенном доме, заставленном корчагами с молоком, при свете лампы в пятьсот очевидных свечей зазвучала «Банька».
Протопи ты мне баньку, хозяюшка,
Раскалю я себя, распалю!
На полоке у самого краюшка
Я сомненья в себе истреблю!
Разомлею я до неприличности,
Ковш холодный». – и всё позади…
И наколка времен культа личности
Засинеет на левой груди…
Где-то с середины песни я стал невольно подмыкивать ему втору, так близка оказалась мне песня по ладу, по настроению, по словам.
Я мычал и плакал от радости и счастья свидетельства… А когда прошел угар радости, в гордости соучастия я заметил Владимиру, что «на полоке» неверно сказано, правильно будет – на полке. «Почему?» – «Не знаю, так у нас не говорят». «У нас на Алтае», «у нас в Сибири», «у нас в народе» и т. д. – фанаберился я, хотя объяснение было простое, но, к сожалению, пришло потом. Гласная «о» в слове полок при формообразовании становится беглой гласной, как см.: потолок – потолке и пр. Но что нам было до этой гласной. Правда, в исполнении последних лет ясно слышалось, что Владимир великодушно разрешал гласной «о» все-таки убегать, компенсируя ее отсутствие в ритмической пружине, строенной звучащей соседкой «л» – «на пол-л-л-ке у самого краюшка…» и т. д.
В этом замечании, которому я не мог дать объяснение, и в том, что мы часто пели потом «Баньку» вместе, и есть вся тайна моего автографа, вся тайна моего соучастия – счастливого и горючего. А еще потом, я уж не мог ему подпевать, кишки не хватало, такие мощности нездешние, просто нечеловеческие он подключал, аж робость охватывала.
В добавление. Или в послесловие. На одном из выступлений мне пришла записка: «Правда или сплетня, что вы завидуете чистой завистью Владимиру Высоцкому?» Ответ мой был не столь удачным, сколько почти искренним.
«Да, я завидую Владимиру Высоцкому, но только не чистой, а самой черной завистью, какая только бывает. Я, может быть, так, только здесь, уважаемые зрители, ради бога, поймите меня верно, я, может быть, так самому Александру Сергеевичу Пушкину не завидую, как Высоцкому, да потому, что имел честь и несчастье быть современником последнего».
Громко! Несоразмерно?? Но ведь иные считают и говорят, как обухом, под дых и наотмашь: «Высоцкий? Мы такого поэта не знаем…»
А истина… Да разве не существует она вне наших мнений, вкусов, словесных определений?
Вот и весь частный случай, что хотелось мне Вам сообщить, уважаемый редактор.
Духовной жаждою томим
Один мой корреспондент писал мне: «По накалу, размаху людской скорби Москва хоронила Высоцкого, как Париж хоронил Эдит Пиаф. Люди знали, что они теряли. Только в Париже был национальный траур, а у нас – с параметрами. Пиаф была грешницей, а хоронили ее, как святую. Она не щадила себя для людей. И они не пощадили себя в скорби по ней. То же самое повторилось с Высоцким. Пиаф воздали честь по ее масштабам. И если он не пел, как Пиаф, то и она не играла на сцене, не писала стихов, как Высоцкий. Они были птицами одного полета. Всегда летели на огонь, прекрасно зная при этом, что им не суждена судьба птицы феникс…»
Всякое сравнение… Да, конечно… все так… И все-таки? Как рассказать об этом уникальном «служителе муз» спектаклем? Что спектакль как театральное действие должен являть собой в первую голову?
«Духовной жаждою томим», Высоцкий рвался к вершинам поэзии. Он просил, он кричал Любимову: «Дайте Гамлета! Дайте мне сыграть Гамлета!» Любимов дал ему Гамлета и сделал с артистом роль, которая стала для Высоцкого вершинной, любимой и в которой в свое время он не знал себе равных в Европе. Шекспир-поэт, Гамлет-поэт, Высоцкий-поэт. Тут все связалось в прочный узел.
Так мог ли спектакль о Владимире Высоцком, в свою очередь, обойтись без этой вершинной идеи, без вечного гамлетовского конфликта, который столько лет кряду пожирал мозг и сердце самого исполнителя на сцене и в жизни?! Более того, вся перехожая-переезжая, неисчислимая публика, вышедшая из-под пера Высоцкого, – норная, парная, вагонная, космологическая, – словом, Россия, должна была по замыслу режиссера прочно держаться и вольно дышать на сцене, стянуться воедино все той же жесткой конструкцией гамлетовского узла. Члены тогдашнего худсовета Театра на Таганке и присутствовавшие на обсуждении будущего спектакля друзья театра – А. Аникст, Д Боровский, Б. Можаев, Н. Крымова, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Ю. Карякин, Б. Мессерер и другие горячо поддержали замысел и обещали посильную помощь в поисках и организации материала.
«Да, Гертруда, Полоний, Офелия, Клавдий, Горацио – все участники «Гамлета», непременно в персонажных костюмах, и все они, кто на сцене, вызывают дух Гамлета – Владимира, и он отвечает нам оттуда либо песней, либо монологом, «мурашки по спине». Он живой, он только занят, настолько занят, что не смог сейчас прийти к «Гамлету», потому что занят своим вечным занятием», – укрепляла в нас веру в эту точную формулу будущего действия Белла Ахмадулина.
Спектакль был создан в статусе вечера памяти, показан 25 июля 1981 года, но в дальнейшем был не допущен к исполнению.
Еще раз мы показали его в день рождения поэта – 25 января 1982 года благодаря личному вмешательству Ю.В Андропова, тоже, как выяснилось, стихотворца. Ему была послана телеграмма с мольбой о помощи. Но потом спектакль был снова похоронен. Прошло время. Запрещенные песни, которыми втайне восхищались сами запретители, вышли из подполья. Стихи опального поэта признаны официальными инстанциями. Создана комиссия по литературному наследию поэта. За авторское исполнение своих произведений автор удостоен Государственной премии СССР. Фонд советской культуры собирает средства на памятник и музей В. Высоцкого. Запоздалое, но все же покаяние, необходимое живущим и народящимся.
Мы восстанавливаем забытый, запрещенный спектакль. Мы придерживаемся редакции 1981 года. Но нельзя не учитывать время и перемены, и мы пытаемся сделать поправки на эти субстанции.
О Высоцком нужно говорить на уровне Высоцкого… языком театра. Мы понимаем нашу ответственность. Достигнем ли мы этого уровня 25 января 1988 года? А если достигнем, то в чем обретем запас прочности для дальнейшей эксплуатации спектакля? 25-го нам поможет сам Владимир фактом своего дня. А дальше? Дальше?!
Мы сыграем спектакль «Владимир Высоцкий» и возьмем за это с публики деньги. Чего не делали раньше, поскольку не имели права: наше действо называлось «вечер памяти». А вечер памяти к коммерции никакого отношения не имеет, стало быть, и к плану тоже. Теперь мы деньги возьмем, нам разрешили именовать нашу работу поэтическим представлением, то бишь спектаклем. Мы возьмем деньги, и они пойдут на организацию музея В. Высоцкого при Театре на Таганке. И впредь будем делать так же.
Мы долго спорили между собой… Раздавались голоса: «Ну вот, и мы в распродаже Высоцкого… Давайте не будем брать за него деньги… Давайте не включать спектакль в афишу как финансовую единицу».
Другие приводили свои резоны: а почему, собственно, не продавать билеты? Все дело в качестве теперь уже нашей продукции. Ведь шли же у нас спектакли по стихам Вознесенского, Евтушенко, Есенина, Пушкина, наконец. «Послушайте!» Маяковского и сейчас на афише, а поэта, рожденного этим театром и до конца дней игравшего на его подмостках, и сам Бог велел.
«Он был жертвенной свечой, зажженной с двух концов – искусства и жизни». Так каково же будет наше воспоминание о нем 25 января 1988 года? Будем ли мы соответствовать?
Вспоминаю свои ощущения от прошлых единичных показов нашей работы. Мне казалось тогда, и думаю об этом сейчас, что наше действо той поры еще не переплавилось собственно в спектакль. Причин тому несколько. Одна из них в том, что каждый из нас был перегружен личными переживаниями и чаще пребывал на сцене в собственной эйфории, нежели тянул единую лямку замысла, что для театрального действия как командной игры однозначно.
Тогда повсеместная общая атмосфера скорби по недавней великой утрате покрывала огрехи актерского исполнения. Теперь, если мы хотим покорить зрителя волшебством театра, а не только сыграть на благородной идее памяти о нашем талантливейшем товарище, мы должны увлечься собственными переживаниями, чтобы не захлебнуться в них, а сообщить своему отдельному организму устремления общей стаи, общего маху.
«Духовной жаждою томим». Томимы ли мы этой жаждою? И сделали ли мы что-нибудь для развития духовной жажды своего народа? Хочется думать, что Театр на Таганке спектаклем «Владимир Высоцкий» будет способствовать этому развитию. Будем надеяться.
В заключение скажу, что восстановление и новую редакцию спектакля осуществляет главный режиссер театра Н. Губенко, он является одним из центральных исполнителей в спектакле. Это, конечно, двойная сложность и двойная ответственность. Пожелаем ему удачи на этом пути, а с ним и всем нам – участникам спектакля «Владимир Высоцкий».
1988
Часть 3
Мой Эфрос
1986
23 января 1986
Четверг.
Г. Львов – звонил в кинопропаганду. Событие! Такого у нас еще не было. Пусть приезжает хоть каждый день, будем принимать на высшем уровне и пр.
Сон дурной видел – Бобрынину Таню, которая сообщила мне, что у нас еще номер не вышел, а в Италии и Польше известные критики написали положительные рецензии. Из чего я, проснувшись, заключил – значит, будут ругать.
Итальянцы и поляки – это от Эфроса, который все время талдычит про какую-то систему свою, в которой работают он, Брук и Стреллер. Любимов этого не мог и не умел.
…Какая самонадеянность и как же это бесит и лишает сил, когда твой руководитель такой фантазер, мягко выражаясь. Нет, надо уходить. Он постоянно вспоминает Любимова, ставя себя уже выше, а мы-то видим, мы-то знаем, что Любимов на 10 голов режиссер и художник, человек и гражданин выше. А это искусство исподтишка.
И как мне жить? Я ничего никому не буду говорить, а тихо уйду, потому что память не дает мне покоя, а он ее все время топчет. Или взять отпуск на год для «Зыбкина».
Меня уговаривают провести вечер В. С. В. Говорю, что мое количество на всех ведениях переходит в иное качество. Если скажут «Федя, надо…» – возьму шинель, пойду домой, – но говорите с Аллой. Это будет строго, элегантно и ново для тех же глаз, а не согласится – Золотухин всегда рядом и пр.
Кажется, Эфрос меня понял, мои внутренние колебания и трепыхания.
Идет «Добрый» – музыканты через пень колоду. Бендера первые спектакли играл лучше. А в паре с ним еще этот несчастный «поврежденный Межевич»…
Надо достать чернильницу, черт возьми!!
24 января 1986
Пятница.
Наткнулся на запись, собрание:
Любимов:
– Разрешите мне подытожить. Я убедительно прошу, все, кто желает… подать заявление, пусть подает… и я заверяю, что мы всех удовлетворим… На общих основаниях. Высоцкого я освободил. Я поставил условие, чтобы он вшился, он не сделал. Я освободил… Вообще с вами работать нельзя – вы не держите слово, как можно о чем-то договариваться. Вы также забываете, что можно вызвать милицию и отправить Вас куда следует, замечания, в большинстве случаев, одни и те же, за вами стоят 10-ки людей, которые хотят работать. Видите, я уж и не кричу. Я занимался Высоцким много лет. Теперь не сделаю для него палец о палец. И ни в какие Парижи он не поедет. Никаких характеристик… Губенко… Вы зря думаете, что он ушел, он стал мне омерзителен. Он даже приходил два раза – может быть, мы найдем какую-то форму… Я сказал:
– Вы мне омерзительны, уходите немедленно… А он у меня жил полгода, что видит зритель – разболтавшихся, зазнавшихся людей. Я напишу на вас на всех докладную и пошлю Вас всех к чертовой матери… Мне скоро 60 лет, я прихожу на репетицию и ничего не готово – потрудитесь уважать мои рабочие часы или идите к чертовой матери…
– Сосатели трупов – маяковеды, есениноведы, брехтоведы.
– Многообразие форм – за многообразие надо иногда алименты платить.
– Театр – это грустный дом.
Вот, случайно, что ли, я наткнулся на эти заметки накануне Володиного дня рождения.
А я работаю на Эфроса и буду петь одновременно на вечере Софронова – что вы от меня хотите, я ведь только артист.
Репетицией сегодняшней доволен я весьма, особенно первой половиной. Лишь бы справился мой речевой аппарат со стихом Мольера и быстроречью Эфроса.
– А что вы от меня хотите, я ведь только актер.
Достоевский о реализме:
– Не то, что правильно нарисовано, а то, что правильно воздействует.
25 января 1986
Суббота.
Заехал за Иваном. В «Польской гвоздике» купил с черного хода 20 польских гвоздик, взяли Таню и на кладбище. Эфрос не приехал. Он с молодыми назначил репетицию «Мизантропа». Ну что это. Потом он ждет какого-то объединения, внимания, дружбы и пр. Ну ведь прав был Любимов – что может еще объединить и увлечь в одну упряжку – память о товарище. И молодым бы это было бы ох как для души полезно, что и они с нами, что они пришли не на пустое место, а место, где есть традиции, где работал Высоцкий и пр.
У Нины Максимовны побывали. Черная женщина, что была на каждом спектакле с Володей, вдвоем они ходили всегда, теперь она всегда у Нины Максимовны, выговаривала мне за «Дом», а когда я уходил, в прихожей тет-а-тет сказала: «Я много наблюдала в театре и была почти всегда, когда там был В.С., и я вам скажу – единственный, кто к нему относился искренне, это вы, его многие любили, уважали, чли, а искренне относился к нему из всех – только вы». Что она имела в виду под словом «искренне«?! Мне не успелось спросить – стали выходить люди, да я, кажется, и сам чувствую, что, чего она под этим подразумевала.
Режиссер-оператор Слава Виноградов из Ленинграда все снимал для истории.
«Солнечные ветры».
26 января 1986
Воскресенье.
Вечер мы провели, т. е. он прошел. И галочку для очистки совести мы поставили. Не знаю. Камбурова, как я и ожидал, испортила мне настроение. Та же пошлость и показуха, только под маской очень серьезного чего-то, – без тени юмора к себе и иронии – какая-то принципиальная цветаевщина. Не знаю, прости мне бог, коль я предвзятен, но и музыка Дашкевича… А стихи Мандельштама, Маяковского, все какие-то мини-театро-картинки… По мне уж лучше Алла Борисовна, хоть есть на что посмотреть и подивиться. Окуджава, конечно, замечателен… – генералиссимус прекрасный, которому он не прощает пригоршни крови… и который порой улыбается с экрана… вызвало сочувствие и восторг публики.
Главное действо происходило в «Гробах»* – «шабаш ведьм», и что интересно – в угольном дальнем месте, против входящей двери, за столиком – Влад. Григорьевич – кагебист… всех, кто пришел, он запомнил и кое-что послушал, так в наглую наблюдать, воистину – бар этот – ловушка, недаром там и Катуньо и пр. итальянцы обретались, туда их привели… Этот бар оборудован наверняка для разного рода слежки, и бармены – люди НКВД.
Кв. № 28 – Нины Максимовны – агитпункт, пункт голосования, люди приходят, отмечаются, уходят – проголосовали как бы…
По составу делегатов в «Гробах» можно составить многообразное суждение, там встретились люди, что лет по пять не видели друг друга, года по четыре друг с другом не якшались и не кланялись и пр. Например, Смехов со своей бабой, Филатов с Шацкой. Я привез Дениса, представил его Марине, и она трижды поцеловала его.
– Меня целовала Марина Влади, надо же, никогда бы не поверил! Пап, а какая она теплая женщина.
Кобзон, капитаны кораблей, администраторы, артисты, и всем этим Янклович управляет, у штурвала связующих нитей стоит. Бортник с Таней. Ефремов, Ромашин, Хмельницкий, Подболотов – замечательный тенор… Позднее пьяный Шаповалов… Толя Васильев поднял тост за крышу и человека – Любимова…
Говорухин – контртост – уж если кто и объединил эту разномастную публику сегодня, так это жена, друг и пр. – Марина, и в этом, конечно, истина. Ну, пошел бы я туда, стал бы отдавать 25 рублей, когда б не возможность встретиться с удивительной Мариной Влади, которая сразу открыла ридикюль и стала показывать своих богатырей-сыновей, а младший – Володька, который бегал на съемках «Арапа», уже вырастил матери жемчужину, которую она носит на груди и гордится – «Это младший вырастил».
Шевцов, Антимоний, Абдулов, Золотухин… Коля-врач, который был в ночь смерти в доме, дежурил… и уснул.
Ульянова встретил в театре: «Получил твое письмо, письмо серьезное, обязательно постараюсь передать… Ну, конечно, не в руки, сам понимаешь, но так чтобы получилось (на полях: оказалось) сверху, но это, если я буду на съезде… а не буду, сам понимаешь».
Читаю дневник свой № 10 и завидую себе: как жил, как чувствовал, с кем общался, на что надеялся, как писал. Куда ты, удаль прежняя, девалась?
Сегодня на «Вишневый» ожидается ЦК комплект билетов отправлен весь в это учреждение. Не может быть так, чтобы Горбачев сам пришел… Но пусть придет Ельцин, уже хорошо.
Господи, сохрани и помилуй! Дай нам сыграть удачно, дай скорости и легкости.
Вечер перед «Вишневым».
Еще в «Гробах» я встретил Беллу с Мессерером.
– Золотухин… золотой… кто-то что-то мне говорил, вы что-то написали…
– Я вам дарил, небось вы потеряли…
– Нет, нет, то я прочла, еще что-то вы написали, а я не читала, правда…
Говорили ей, наверное, о «Земляках», где я цитирую ее высказывание на вечере памяти В.С.В.
Какое же жалкое, стыдное вчера было зрелище. Нет, не снимая вины с себя, виноват руководитель этого «грустного дома». Хозяйством надо уметь управлять. Нельзя Эфросу так все пускать на самотек. Деградация полная, с этим ощущением и ушли в недоумении все из зала, в том числе и Марина.
Разве что дело спасет завтрашний их поход с Эфросом к Г. Маркову по поводу издания новой книги Владимира.
Впечатление от России нынешней спасет. Они пойдут по вопросу создания комиссии по наследству В.С. Высоцкого. Не по наследству, наследства у него, кроме долгов, не осталось, а по вопросу создания комиссии по творческому наследию.
4 февраля 1986
Вторник.
– Пишу дневники, чтобы войти в жизнь, – определил Катаев. Ох, хитрый мужик. Ничего интересного в них нет, так поверил я, у меня-то и то кое-что есть!
То, что он так пнул Эфроса, глумливо даже, я бы сказал… И я не знаю, как расценить, потому что никак не могу до конца увериться в истинности «Вишневого сада» и «На дне», желаемое не есть действительное! В приливе патриотизма, что все было хорошо, ты ведь настраиваешь себя, чтоб тебе непременно это понравилось, потому что так надо, другого выхода нет – и тебе действительно нравиться начинает… Но что-то все не то, приема нет зрительского, отклика зала нет, чтобы мы или отдельные критики там ни говорили. И червь сомнения в змею отрицания превращается.
5 февраля 1986
Среда, мой день.
Так, к 25 июля надо написать о В.С.В. О могиле майора-режиссера Петрова, о куняевской пропаганде, о его кампании против популярности В. С. В. Он пытался доказать ложность и несостоятельность любви к нему миллионов, неосновательность ее причин… И через этот тезис затоптал свою могилу, выдуманную, сочиненную, наметенную для порядка.
Надо забрать фотодокументы у кагебиста Саши, надо сочинить по этому поводу поэму, она должна быть начинена горьким юмором.
Во-первых, начать с АНКЕТЫ – как тогда еще мальчишка Толя Меньшиков, работающий у Любимова рабочим сцены, подошел с амбарным гроссбухом, разграфленным, расчерченным под подробный вопросник. Кажется, мы заполняли его и отвечали письменно, автографно с Владимиром по очереди. Анкета заполнялась весело и почти шутейно… Не мог же Владимир в графе – твой лучший друг – поставить другое имя, когда рядом сидел Золотухин… Это вовсе не значит, что он в ту минуту лгал или лицемерил, нет, но надо знать его характер и нашу тогдашнюю влюбленность друг в друга. Эта анкета не дает жить спокойно. Когда я что-то пою недостойное или не угодное вкусам поклонников В.С., меня стыдят и поносят: «У вас был такой друг, до чего вы опустились и пр.» Дружбой с В.С.В. меня попрекают каждый раз, когда по мнению тех же ревнителей и хранителей и знатоков, как бы к этому отнесся В.С.В., когда и выходит неугодная работа на экране или не устраивающая их моя очередная литературная поделка. И остается «лечь на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать». Удобно. Но нет.
Во-вторых – случай с кортиком, который я подарил Филатову, с кортиком, который передал Григорий из Л-да ему, Вл. Выс., через меня, его друга, а я по щедрости пьяной отдал его Филатову, потому что у того случился день рождения, кстати, выяснить, когда у Леньки день рождения и сопоставить, вычислить факт времени. Я кортик отдал, но ведь Володя не сразу и не от меня узнал, что ему был из Л-да передан подарок. Значит, прошло какое-то время?!
Написать Григорию и Маше!! Выяснить у Нины Максимовны, где этот кортик. Я ведь у Леньки его забрал и передал-таки настоящему хозяину.
Что репетиция? Да ничего! Побегал, покричал… Эфрос вынашивал замысел, странно… ну что он выносил?! Случайные предложения, случайные приспособления, случайные слова… Для чего вся эта… А надо вложить современный смысл…
29 марта 1986
Суббота.
Вчера я купил машину и предложил Дупаку сменить гл. режиссера, как не оправдавшего наши надежды, как человека глубоко чуждого нашим устремлениям в искусстве театра… Никого не слушает, ни с кем не советуется… Ни одного собрания коллектива, ни одного серьезного разговора… спектакли выходят один хуже другого… накапливается атмосфера неоткровения, лжи, интриг, двуличия.
Надо что-то делать. Дупак со мной полностью согласен – нужен тот, кто первый бросит камень. Кто будет этим человеком? У Эфроса альянс с Безродным. Яша лижет без устали во всех местах. Если он станет директором-распорядителем, Дупаку скоро они вытешут осиновый кол.
Обстановка в театре гнусная. И у меня настроение отвратное…
Три, четыре писателя – Астафьев, Распутин, Можаев, Бакланов – которым я на суд послал «Комдива» – молчат и мне не по себе. Ну чего бы молчать, если бы вдруг понравилось? Значит, что-то не то. И зачем я такое матерное письмо Алексухину написал?! Он относит публикацию этого рассказа на счет моей актерской известности.
Все противно и очень не хочется жить, потому что нет ни сил, ни мыслей, ни таланта, ни доброго человека рядом! Хочется выпить снотворного и лечь спать. Только чтоб Сережа, Денис и Тамара были здоровы. Но и помнить, конечно, что «у каждого глупца хватает глупости для уныния». Чтоб не унывать, пойду я спать. Завтра рано встану и продолжу «Сказ об Иванушке-Ванюше».
31 марта 1986
Понедельник.
Действительно, день черный. На языке вертится: «О бедном гусаре замолвите слово»… Я дождался от Астафьева таки слова, «лучше» не скажешь.
А там моя рукопись… на библиотечку и пр.
Разбежался!! То-то Гроховский не звонит. Ну да ладно, может это и к лучшему, будет Рождественский или Панкин – еще лучше.
Две точки зрения на рассказ: В. Резника – шедевр, В. Астафьева – пародия, на какой мне остановиться, Господи…
Еще одно такое заключение, и можно бросать заниматься писаниной.
Хоть бы Бакланов два добрых слова написал или Можаев… Мнение «родной Сибири» теперь известно.
Но… вспомним Марк Твена: «Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек наоборот внушает чувство, что и вы можете стать великим». Утешимся этими словами, внушим себе мысль, что так оно и есть, примем Резника за великого человека, а не за льстеца и вперед…








