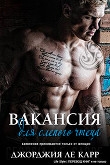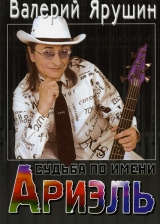
Текст книги "Судьба по имени Ариэль"
Автор книги: Валерий Ярушин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
1970 год (начало), «Ой мороз, мороз»
В «Аллегро» я задыхался от недостатка профессиональных музыкантов, поэтому, как глоток свежего воздуха, ощутил приход Геппа. Удачным маневром был в то время контакт с директором дворца спорта «Юность» и обслуживание танцевальных вечеров на договорной основе. Однажды на репетицию пришел симпатичный кудрявый мальчик, встал в сторонке. Ну, думаю, поклонник, пускай посидит, послушает. Сам был настолько занят музыкальными разборками, что забыл о его существовании. Так он ушел ни с чем…
Потом узнал, что Люська-ионюська привела на репетицию поющего барабанщика, только что поступившего в институт культуры, родом из Оренбурга. На следующей репетиции я исправил свою оплошность, и позволил красавчику сесть за барабаны. То, что он вытворял на «бочках» – впечатляло! Хотя, голова с кудрями летала впереди рук!… Потом он взял в руки скрипку, потом спел… Короче, я просто обалдел! Так произошло удачное приобретение Бориса Каплуна.
В институте все шло к разлуке. Нахватав кучу пропусков, я безболезненно принял очередную отставку от Давида Борисовича. (Благо дело – военная карьера из-за плохого зрения мне не грозила). По-прежнему маячила светлая мечта – питерские берега, куда я вскоре и отправился. На этот раз, вроде, и документы были в порядке, и сыграл на экзамене неплохо, но, увы, опять неудача! В приемной комиссии дали понять, мол, зря вы сюда мотаетесь – у вас же там Свердловск под носом…
Видимо, в человеке заложено от природы – в радости или в горести совершать авантюрные поступки. Вот и тогда свое непоступление в «консу» я отметил… первой в жизни сигаретой. Прогуливаясь по Невскому проспекту, заглянул в табачный киоск и подумал: «С чего бы начать? Слышал, что кубинцы делают ароматный табак…» Взгляд остановился на пестрой пачке. «Партагаз» – отчеканил я и небрежно кинул рублёвку продавцу. Тот, почему-то, смерил меня взглядом, но сигареты дал. Вышел на улицу, затянулся и… Вдруг почва куда-то поехала вперед, в глазах появились радужные круги, в глотку будто плеснули кипятком.!… Я схватился за стенку и в позе Гитлера простоял минуты три… Какой-то мужик подхватил меня: «Ты че, первый раз, что ли?» – «А что, заметно?» – голосом Джигарханяна прохрипел я… «Да уж, конечно!» – посмотрел на пачку и изрек: «Ну, ты и даешь! Я этим табаком тараканов морю. Если хочешь начать, вон, видишь, собачка нарисована – «Друг» называется. Сначала «подружись», а потом уж за сигары..»
«Дружок» после «атомных» провалился в кайф! Так, незаметно, у меня разошлась первая пачка…
В этот день у меня случилось еще одно важное событие – я попал на концерт «Скальдов»! Тогда их популярность, как впрочем, и их земляков – «Червоных гитар» была сумасшедшей. Это были представители славянского бита. Так как в то время в СССР вообще не пускали западные группы, то поляки для нас были «выше крыши»! Чудом раздобыл билет в «Гостином дворе», и вот, сижу в «Октябрьском», за закрытым занавесом, трепетно жду… И вот открывается сцена и со словами: «Расступитесь, люди, почтальон к вам едет!…» на всех обрушивается лавина мощнейшего звука, доселе мной не ощущаемого! Стоят длинноволосые мужички в клешах, сзади двухэтажные колонки, от «Фендеров» – витые шнуры… Сбоку – орган «Хаммонд» с механически крутящимся эффектом «Лесли», звук которого обволакивает и звучит аж снизу, в кресле! Через полтора часа при сердечном пульсе 150 я понял: вот оно – мое, я тоже так хочу!
Покидал Питер со смешанным чувством: горечь поражения в консерватории, пачка сигарет в кармане и жажда играть новую, красивую музыку!
И это желание стало материализовываться в октябре 1970 года, в маленьком челябинском кафе «Юность». Комсомольские власти города решили проявить инициативу. Был задуман конкурс 3-х ведущих ансамблей города: «Ариэль», «Аллегро» и «Пилигримы». Последние вдруг отказались и получился, своего рода, «музыкальный ринг». Жюри под председательством моего старого знакомого режиссера Леонида Пивера с «веселыми» бутылочками сидело в уголке и улыбалось в предвкушении… Было тесновато, сцены, как таковой, не было. У поющих можно было разглядеть пломбы в зубах, а гитарные грифы опасно маневрировали у судейских носов… Учитывая присутствие власти я, естественно «напихал» в программу несколько «ободзинских» хитов и что-то гражданское, что-то наивное, но свое! Потом вышел «Ариэль». Прибавили громкость и, под визги собственных поклонников, гордо удалились, посчитав, что первое место у них в кармане. Но жюри вынесло неожиданное решение: победитель – «Аллегро», а «Ариэлю» – торт, как приз зрительских симпатий. Дальше пошла рядовая пьянка, в разгар которой ко мне подсел барабанщик Витя Колесников: «Слушай, есть дельное предложение: давай соберем «сливки» из музыкантов города, сделаем одну сильную команду, но оставим красивое название «Ариэль». Видимо, предвидя мой вопрос, сразу отрезал: «Руководитель – ты!»
Позже я узнал, что это было неоднозначное решение. Фидельману не хотелось покидать свой пост, поначалу они пригласили Каплуна, но тот сказал, что без меня не пойдет… (у нас с ним тогда было что-то вроде мушкетерской клятвы). Как бы там ни было, я почти сразу согласился. Конечно, тяжело было расставаться с «аллегрятами», тем более, что у меня в составе был уже крепкий профессионал Гепп. Но как-то от него услышал, что вот-вот «загремит» в армию, и я понял, что Стасик – «отрезанный ломоть».
Окончательный расклад был такой: Ярушин – бас, руководитель, Фидельман пересядет на клавиши, Гуров – гитара-ритм, Слепухин – гитара-соло, барабаны – Витя Колесников, а Боря – на скрипке (иногда – за барабаны!) Ударили по рукам и назначили «обмыв» сего события у Фенделя (в смысле – Фидельмана…). Приближалось 7 ноября – государственный праздник для всех советских граждан. И мы решили приурочить к этой дате и наш день – пусть будет двойной праздник! Забегая вперед, скажу, что очень долго эта знаковая дата была для нас почти священной! Существовал даже негласный закон – справлять день рождения ансамбля только в своем кругу с подругами или женами, и нам это удавалось!
Итак, Левина квартира, первые тосты, первые речи, и под хмельком сразу – за фортепиано. Первые споры – что исполнять? Я «завелся» на тему: только свое! Лева Гуров сразу меня «обломал»: мол, ты пока не суйся, будешь делать то, что мы захотим… Обижаться не было смысла – довлел авторитет Гурова, «понтяра» Слепухина, опыт Фенделя – кругом такие «монстры», что я заткнулся… Хозяин сел за фоно и первая песня, которая была выучена сходу, называлась «Утром солнце светит нам», музыка группы «Тремолос», слова Гурова. Весёленькая песнюшка на трех аккордах, вокал сразу зазвучал мощно! В это время меня посетил приступ какого-то безудержного веселья… Тут же в голове радужные перспективы: вот мы – в Москве, цветы, девчонки, а вот Ливерпуль!… За кулисами – Джон Леннон жмет мне руку и на чисто русском произносит: «Хо-ро-шо!» Подбегают английские «мисски», тискают меня, хлопают по плечу, трясут…
Просыпаюсь… Это трясет меня Боря Каплун, лежу на тахте, в одежде. С его вопросом: «Слушай, а мы вчера что, все пиво выпили?…» – медленно опускаюсь на землю…
Первые репетиции прошли на старой базе «Ариэля», в красном уголке областной больницы. Помню худрука – старую добрую бабушку Ию Николаевну – нашу «нянечку»…. Ни на одну из первых репетиций почему-то не пришел идейный организатор всего этого «безобразия» Витя Колесников. Что там у него произошло, не знаю, но Каплун, усевшись за барабаны так «намертво» и «приклеился!»
На удивление мы с Борей быстро освоились, влились в их бит-ауру, и уже через две недели был объявлен часовой концерт в ЧПИ (политетехе).
За несколько часов до выступления подходы к концертному залу напоминали гудящий улей. Ажиотаж неимоверный! Об аппаратуре хотелось бы сказать особо. Местные радисты-кулибины создали по бокам сцены нагромождения, напоминающие баррикады Парижской коммуны, собранные из КИНАПовских колонок, снятых с киноэкрана. Мне сказали, что там целых 200 ватт (!) Массивные микрофоны были такие тяжелые, что стойки под их весом периодически падали… Так мы их и прозвали: «ломовые» (от слова ЛОМО). Гитарам, ГДРовским «Музимам», годились неприхотливые динамики любого калибра, поэтому кто-то притащил для их озвучки колокол со стадиона… А вот у меня, на басу стояло невиданное чудовище, последнее слово советской техники – «Электрон»! Он напоминал военный радиоприемник, поставленный набок на три черные деревянные ножки и «изрыгал» аж 10 ватт!!! Но самым интересным в этом аппарате был глазок на передней панели. Когда шел перегруз (а он шел все время) – огонек загорался и мигал, что приводило в неописуемый восторг толпы. Это была – цветомузыка!!!
Концерт задержали на полчаса. Этого было достаточно, чтобы затрещали двери, и неуправляемая публика кинулась к, пока еще целым, креслам…
Выйдя на сцену, мы поняли, что мощности нашей аппаратуры явно не хватает, даже для того, чтобы хотя бы поймать тональность… Ревущая толпа видела, что мы машем руками, и вроде бы играем, но юношеский темперамент перечеркивал все понятия о правилах поведения в храмах искусства. Единственно, когда зал замолкал – во время звучания чудных лирических песен. Это были «Лаура» Левы Ратнера и «Скажи, ты счастлив с ней?» Фидельмана с текстами Гурова. А, сидящий за барабанами, и одновременно играющий на скрипке Каплун, оставлял в девичьих гарнитурах мокрые восторги…
На концерте, в основном, звучала музыка западных групп: «Тремолос». «Манкиз», «Битлз», «Червоных гитар». Во время исполнения песни «Привидение» на словах: «Раздался жуткий крик, и свет вокруг погас!…» – местные электрики, желая нам помочь, поняли это буквально и, щелкая рубильником, доводили публику до очередной экзальтации!… При этом они вырубали и нашу аппаратуру, но за шумом и гамом это было незаметно…
После этого часового «сумасшествия» в проходах валялись обломки нескольких стульев. Начальство института было в бешенстве, но предъявлять нам счет не стали. Так проходило большинство «подпольных» концертов того времени. Конечно, такая популярность была приятна. Но меня не покидала мысль, что это все до поры – до времени, надо делать что-то свое. Нужна была солидная база, больница – это не серьезно.
В декабре переселяемся во дворец железнодорожников. Как раз накануне конкурса «Алло, мы ищем таланты», на который я уже «глаз положил». Директриса дворца, интеллигентная, дама в годах, Рива Яковлевна Червоная сразу поставила главное условие: не называть ансамбль «Ариэлем», во всяком случае – пока… дабы не усложнять отношения с партийными органами. Пришлось подчиниться. Теперь вставал главный вопрос: с чем выходить на конкурс? Исполнить западные песни нам не разрешат в принципе, а петь советскую «лабуду» сами не хотим. Тут же предлагаю две русские народные: «Ой, мороз, мороз» и «Ничто в полюшке не колышется». Оба гитариста прыснули со смеху…
Надо сказать, что мои отношения с Гуровым и Слепухиным в то время были очень натянутыми. Они оба были самоучками, и это сразу выдавало их… На интеллигентном языке говорить с ними было бесполезно. «Что, пьяные песни базлать?! Нас же публика освистает!» – это самое вежливое, что я вспомнил в их возражении. В конце концов их убедил, что с битловскими песенками нам не видать общественного признания, как своих ушей!
…Конкурс проходил во Дворце спорта «Юность» в присутствие почти пяти тысяч зрителей! На такой аудитории мы выступали впервые. Несмотря на то, что нас объявили, как ВИА ДК ЖД – основная масса, конечно же, нас узнала. Меня бил страшный мандраж: ежели я провалюсь с фольклором – не жить мне больше!..
…После оглушительных оваций, а вызывали нас на поклон 3 раза, за кулисами я поймал взгляд моих оппонентов удивительно-уважительного оттенка. Это была моя первая победа, главным образом – моральная!
1971 год, «Отставала лебёдушка»
В те годы всесоюзный конкурс «Алло, мы ищем таланты» был проектом ЦТ. Как у спортсменов, вначале были отборочные, областные, потом региональные, и финал в Москве. И вот мы – участники регионального конкурса, урало-среднеазиатского, проходящего в Свердловске в январе. Но на нашу беду в нем участвовала ташкентская группа «Ялла». Там, еще до концерта, мы узнали, что у нас нет никаких шансов – национальные кадры решали все…
Я вспоминаю, как ведущий Александр Масляков уже держал за спиной фото лауреатов среди солистов и ансамблей в то время, когда еще шел конкурс! «Ариэля» там не было!…
Наше второе место было равносильно провалу! Этот прокол больно ударил по нашему самолюбию. Опять начались пересуды: на фига нам твои песни, уходим в подполье… Первым сложил полномочия Фендель. Тут же всплыла кандидатура Сергея Шарикова, органиста «Пилигримов». Тот не возражал. Но, как говорится, нет худа без добра, После неудачного выступления, ко мне подошел Саша Шишкин из Горького: «Мужики, не вешайте нос, скоро у нас, на Волге состоится грандиозный конкурс-фестиваль «Серебряные струны». Там все будет честнее…» Мы ожили! От него узнали условия. Несмотря на «совковость», в конце было послабление: композиция «по выбору» – то есть можно играть все, что угодно (даже на английском!) Мы тут же начали учить любимую композицию «Beatles» из «Монастырской дороги» – «Golden Slumbers».
Очень к месту родился у Левы Гурова шедевр «Тишина» – песня о погибших солдатах. Я утяжелил аранжировку, придумал соло органа, и она произвела впечатление солидной композиции!
Наши музыкальные пристрастия не замыкались на рок-н-рольных командах. Мы одинаково любили «монстров» андеграунда 70-х – «Deep purple», «Led Zeppelin». Помню, когда работал над старинной русской народной песней «Отставала лебедушка», хотелось начать ее очень эффектно, как-то «язычески»! И здесь помог «диппепловский» язык вступления, которое вначале шокировало публику, потом оно показалось органичным. С этой композиции я понял, что готов на нечто большее и серьезное…
В это время нас ждало новое переселение, теперь во дворец трубопрокатчиков. Вообще, эти миграции мы объясняли просто погоней за хорошей аппаратурой. Появился «Regent-60» во Дворце спорта – мы туда; венгерский «BEAG» – в ДК ЗСО и т. д. Последние хозяева разрешили зваться «Ариэлем» и, послав заявку в Горький, сшили нам потрясающие кафтаны серебристого оттенка в стиле русских былинных молодцев. Особенно много возилась худрук Лидия Адриановна Ускова – наша «мамочка». Настолько самозабвенно готовились к конкурсу, что даже ночевали во дворце.
И вот Горький, декабрь 1971 года – фестиваль «Серебряные струны», посвященный 650-летию Нижнего Новгорода, по существу первый всесоюзный конкурс бит– и рок-групп. Участвовало свыше 30 групп страны. Приехав, мы почувствовали к себе некоторую прохладу, даже равнодушие. Видимо, переоценили себя – нас здесь не знали. На «бирже» перед конкурсом мы никак не котировались – какие-то металлурги с Урала… Но эта роль «темной лошадки» сыграла нам «на руку». Репетировать мы не стали. Во-первых сломался орган. И, пока наш радист Толя Семененко возился с инструментом, репетиционное время истекло. Решили выступать «с ходу» – будь, что будет! За кулисами шла словесная возня: первое место почти все предрекали какому-то скандальному трио «Скоморохи» с солистом-гитаристом Александром Градским. Тот вальяжно вышагивал за сценой – длинноволосый, в очках-каплях, своими модными клешами подметая сцену… Часто из его гримерки доносились высочайшие вокальные распевки. Каплун сразу как-то заревновал. Все время тыкал меня и спрашивал: «Какая нота?» Я ее называл. Боря тут же брал на тон выше и, раскрасневшись от удовольствия, бродил по коридору. Еще очень котировались «Солнечный камень» из Донецка и ленинградские «Аргонавты». У питерцев очень колоритно смотрелся органист под 2 метра ростом, таскающий свой инструмент на плече… Понравился у них и гитарист, Сашок. Спустя много лет я узнаю, что это был знаменитый Розенбаум! (Тогда у него не было усов и на голове что-то произрастало…)
Наконец, наш черед. Все выступления тогда начинались за закрытым занавесом. Я решил до конца заинтриговать жюри и публику, поэтому пошел на хитрость – попросил ведущую не объявлять нас, кто мы и откуда, а сообщить это после первой песни. На открытии занавеса публика видит картину: стоят пять добрых молодцев в шикарных кафтанах и «косят харду» под «Deep purple»! В зале шок – кто это, откуда?! Затем идет объявление: такой-то, такой-то ансамбль из Челябинска… Песня «Тишина» уже прошла «на стон», но сломался орган, и Шариков пересел за рояль. После исполнения «Golden Slumbers» с криками зала пришлось выйти на поклон еще раз, хотя это в условиях конкурса не было предусмотрено. Надо ли говорить, что популярность просто обрушилась на нас! Меня вдруг схватили какие-то люди, затащили в комнату и сообщили, что идет пресс-конференция. Девушки с блокнотами и микрофонами, мужчины с фотокамерами, вспышки!… – все это как-то было непривычно!..
Трио «Скоморохи» – Градский, Саульский, Фокин – выступили блестяще, поставив «на уши» фирменную публику, исполнив блюзы Рея Чарльза. Особенно, после «Джоржии» зал почти встал! Но это был ожидаемый успех, и, по всей видимости, был менее эффектен. Жюри попало в сложную ситуацию. И первое место пришлось поделить между «Ариэлем» и «Скоморохами». К тому же, гуровская «Тишина» получила приз за гражданственность тематики.
Так «Ариэль» обрел крепкие крылья для дальнейшего полета. Но, как говорится: нет худа без добра, и наоборот! Через месяц мы узнаем, что хвалебная информация о фестивале проникла в американский журнал «Форчун», где было опубликовано фото двух наших гитаристов Левы и Валеры в достаточно домашней обстановке: за кулисами, зевая, один из них чесал ногу. А рядом – кружечка с цепочкой… И подпись: «Рабочие парни из рабочего города Челябинска несут в массы мир волшебной западной музыки!»
Эта похвальба в наших советских кругах имела прямо противоположный эффект. Пришла депеша из Москвы на наш теле-радиокомитет: размагнитить и стереть всю информацию, касающуюся нашей группы!
Через некоторое время из ансамбля уходит Терпа (так Слепухина звал Лева).
1972 год, «Отдавали молоду»
Жаль было расставаться с Валерой, но армия есть армия… Кто-то посоветовал: возьмите Антошку! 15-летний Сергей Антонов, «мальчик-струйка», как мы окрестили его с Каплуном, сразу произвел хорошее впечатление. Был он высокого роста, но худенький – 58 кг. Но особое удивление – пальцы рук. Они настолько длинные, что часто, на спор, обхватив пятернёй гриф гитары, мог при этом сделать фигушку! В то время он играл в оркестре Олега Тергалинского и брал такие замысловатые аккорды, что мы диву давались!
К февралю мы опять стали «железнодорожниками». На этот раз, вместо ушедшей на пенсию Ривы Яковлевны, заступил Марк Борисович Каминский, бывший директор дворца трубопрокатчиков, который просто «утащил» нас за собой.
Этот год я очень хорошо запомнил, я, наверное, назову его самым счастливым в моей творческой судьбе, хотя он был и самым скандальным…
…В марте наш дворец принимал гостей со всего Советского Союза – состоялся семинар худруков-железнодорожников. И каким-то ветром занесло сюда латыша Ветру (прямо каламбур!) После нашего выступления на этом семинаре, к нам подошел Язеп Янович из Лиепаи и говорит: «У вас очень классная группа, хотите к нам, в Латвию? У нас в августе состоится крупный фестиваль, посвященный 50-летию образования СССР.» У меня аж голова закружилась! Прибалтика – это же почти заграница! «Конечно!» – почти заорали все…
Ветра оказался по-западному пунктуален: ровно через месяц на столе у Каминского лежало приглашение. Для меня это событие стало эмоциональным всплеском. Как сейчас, помню: сижу я на бабушкином сундуке в маминой комнате с баяном и двое суток не выхожу на улицу – так меня увлекла работа над русской народной песней «Отдавали молоду!» Чтобы подчеркнуть ее величие, даже назвал так: «Парафраз на тему русской народной песни «Отдавали молоду». Пожалуй, это лучшее, что я создал в стиле фолк-рока, где выплеснул все эмоции: здесь было все – и трагическое и смешное, и сдержанная классика и хулиганство на сцене, словом моя маленькая симфония на народную тему. С тональностью вообще вышел казус. Обработка написана в ля-бемоль миноре, в которой, как известно, семь бемолей(!). Пианисты, например, ее терпеть не могут, от нее, как они говорят, бывает «рак пальцев». Шариков, пока разбирал, матерился, но учил… Но это не было моим каким-то трюкачеством, просто я убежден, что каждая тональность для меня – это философская категория, которая имеет свою звуковую окраску! После записи этой композиции на пленку происходили анекдотичные ситуации. Некоторые меломаны, думая, что их магнитофон крутит медленно, подкручивали скорость на аппарате, справедливо полагая, что: ну, не может быть у гитаристов такой тональности, наверное, все-таки ля-минор!
В результате самопальных записей песня звучала в ля-миноре, отчего мой сольный голос «буратинил», а в конце каплунское: «…ма-а-ли-и-на-а-а…»можно было сравнивать с голосом юного Робертино Лоретти!
Забегая вперёд, хочется вспомнить любопытное мнение ныне известного композитора Андрея Мисина. Оказывается, он учился в челябинском мединституте и готовился стать врачом, как вдруг…
Именно, композиция «Отдавали молоду» развернула его судьбу на 180 градусов, и он с головой окунулся в музыкальную стихию!…
Постепенно мои аранжировки усложнялись и стало не хватать еще одного инструмента. Так появился шестой участник, однокашник Каплуна Володя Киндинов, родом из Днепропетровска, хороший джазовый пианист. Благодаря Боре тот сразу получил кличку «золовэйко» за звонкий голос. Я даже сделал его солистом в шуточной украинской народной песне «Марыся». Все шло своим чередом, звучание шести музыкантов позволяло играть сложнейшую музыку. Как вдруг!..
Концерт в парке им. Ю. Гагарина, проводы отрядов ССО на БАМ. Середина лета на удивление была холодной. Выступление проходило на воздухе, поэтому легкие концертные рубашечки решили не одевать, а остаться в своих теплых пиджачках. Концерт прошел, как всегда, здорово, но на следующий день меня срочно вызвали «на ковер» к директору. Его первый вопрос меня обескуражил: «Почему вы вчера выступали босиком?» Я стал лепетать: «Как… что… кто это сказал?» – «Мне позвонили рабочие радиозавода…»
Надо сказать, к лету у Марка Борисовича накопилась куча неприятностей с нашей группой – склоки следовали одна за другой. Он уже и не рад был, что связался с нами. Мои убеждения он никак не принял, сказал, что нам уже не доверяет…
Каплей, переполнившей чашу терпения, явился злополучный концерт через неделю во дворце. На нем пара пьяных мужичков «завела» зал, что называется с «пол-оборота». К пятой песне шум стоял, как тогда, в политехническом. Вдруг, слышу, сбоку, из-за кулис кто-то орет: «Немедленно закрыть занавес!» Занавес закрыли и на сцену выскочил Каминский и при включенных микрофонах ничего не понимающий зал, услышал: «Вот где свела гнездо антисоветская гидра!»
Концерт, через полчаса после начала, был сорван и, под милицейским кордоном, недовольная публика покидала зал.
Утренние разборки в директорском кабинете поставили точку: «Я вас увольняю и никаких фестивалей!» Потом, после паузы добавил: «Но даю вам последний шанс – пересмотрите дальнейшую жизнь, и, особенно репертуар!» От последнего слова я впал в недоумение: репертуар как раз приобретал гражданские черты, тем более, что занавес был закрыт во время исполнен моей «Баллады о памяти». Так два пьяных придурка, казалось, похоронили светлую мечту о Латвии. Приближался август, и надо было что-то делать…
И здесь я хочу отдать должное моим коллегам, чья самоотверженность тогда спасла ситуацию. Немногие ансамбли могут похвастаться таким единодушием. Видимо, для этого надо очень любить свое дело, иметь здоровый фанатизм, который, рано или поздно победит! Может, это звучит пафосно, но тогда, от безысходности мы были готовы на все…
Лев Гуров, Сергей Антонов, Борис Каплун, Владимир Киндинов, Сергей Шариков и я – эта челябинская шестерка решается на отчаянный шаг – ехать, во что бы то ни стало! Без аппаратуры, без инструментов, без костюмов, просто, чтоб заметили и спасли… Смотрим на карту: от Челябинска до границы со Швецией около 3000 км, добираться накладно… Чешская гитара «Торнадо» была когда-то куплена на общие деньги, ее решено было продать. Но 300 рублей едва хватало на дорогу, остальные пришлось добавлять, кто-где мог. А самое главное, родным и близким было приказано – молчать!
И вот через трое суток – Латвия! Уже подъезжая к Риге, я разговорился с одним фаном, ехавшим на фестиваль. Нагнал он страху тогда сильно. Рассказал, что фестиваль европейского уровня, назвал больше десятка разных прибалтийских групп, сказав, что русским там «дышать-не видать»! Я как-то робко похвастался, что у нас много своего, на русском языке, пара классных народных песен. Чувак как-то брезгливо на меня уставился: «Ну, мужики, вам ничего не светит, даже не пытайтесь!» Я загрустил, но в душе что-то теплилось…
…Подходим к площадке, пульс учащается, еще за километр слышен стон баса… И вот вывеска: «Пут вейни! (вей, ветерок-лат.) Репетиционный день, ворота открыты, входим. На сцене – груда аппарата, количество колонок шокирует! Какой-то человек с метлой нам что-то говорит на латышском, но мы, не зная латышского, понимаем: надо «ухиливать!» Я говорю ему: мы, мол, из Челябинска, хотели посмотреть… Потом смотрим друг на друга и я узнаю: «Язеп Янович?» Вот это встреча! Он тоже узнает меня и через полминуты я – в оргкомитете. «Линнардс Муциньш» – отрекомендовался симпатичный высокий очкарик – председатель. Потом достает какую-то бумагу и говорит: «А-ри-ель» – ви виступаете трэты дэн». Я уставился на него, ничего не понимая. Уже готовил жалобную речь… Оказалось, до той злополучной ссоры, наш босс выслал нашу заявку и забыл про нее. Создавалась интересная ситуация: у нас не было командировки, но имели на руках бумагу с печатью и подписью Каминского. Узнав об этом, Линнардс нисколько не смутился: «Ну и что, у нас каждый второй так приехал. Аппаратура здесь общая, ваше дело – выступить.» Еще один приятный сюрприз: ночлег тоже обеспечен, гостиница «Лива» за счет организаторов. А мы уже присматривали лавки на вокзале… Словом, фарт!
На ежегодный латвийский фестиваль «Янтарь Лиепаи» съезжалось огромное количество оркестров, солистов и групп почти из всех союзных республик. Конкурс проходил по трем номинациям: джаз-оркестры, эстрадные ансамбли и ансамбли биг-бита. Последняя номинация была самой престижной. Термин «рок» в то время применялся, в основном, к рок-н-рольным командам, а более тяжелый стиль обзывали андеграундом.
Репетиции шли днем и ночью. Здесь мы тоже решили не «раскрывать карты». Порепетировали старые рок-н-рольные песенки, полагая, что нас здесь тоже не знают. Хотя кто-то из зала крикнул: «Лебедушку давай!» (причем, с ударением на «у»)…
Шел третий день конкурса. Когда объявили «Ариэль», как представителя Урала, примерно треть зала пошла покурить. Наше конкурсное выступление состояло из разных песен, таких как: «Зимы и весны», «С песней по Уралу», «Баллада о памяти» – мои авторские, гуровская «Тишина», «Река несла дубок» – латышская народная песня, как обязательная программа. Я сделал ее со скрипкой – публика визжала от восторга… К битловской сюите из «Монастырской дороги» зал уже был полон. Мы чувствовали какой-то порыв, назревала сенсация! И вот главный момент – «Отдавали молоду»… Эта память, видимо, навсегда! Все эмоции передались публике, любое, малое или большое соло сопровождалось аплодисментами, в тихих местах стояла гробовая тишина… После оваций, выстроившись на авансцене, мы вкушали эти звуки зрительского шума, и не верили, что это происходит!.. Мокрые и счастливые, под удивленными взглядами устроителей фестиваля, мы покидали зал. Председатель жюри, знаменитый Раймонд Паулс, после концерта пожал мне руку, и я был на вершине счастья!
На следующий день местная газета «Коммунист» вышла с шапкой: «Авторы самой большой сенсации – «Ариэль». И дальше: «Неужели большой приз покинет Прибалтику?» В гостинице «Лива» всю неделю стоял шум и гам. Все братались. Мы – с эстонским «Фиксом» из Тарту. Нас с Борей в «алкогольный оборот» взял латышский хохол Юра Бабенко… В общем, сказочная неделя завершилась не просто победой – триумфом! Мы получили приз – деревянный кубок с янтарем – «Малый янтарь» за победу в своей категории. Большой присудили шикарному джаз-оркестру Тамошюнаса из Литвы. Вместе с призом нам вручили шесть подсолнухов, срубленные под корень – дескать, тянитесь к солнцу!
Я долго добивался встречи с Раймондом Паулсом, и вот, наконец, мы сели в холле гостиницы, где рассказал ему о всех наших приключениях. На что мэтр ответил: «Ничего, вот покажете приз, и все встанет на свои места!»… Не встало…
…Вернулись в Челябинск уже перед началом занятий в институте. Как ни скрывали, что уехали, ничего не вышло… «Маяк» уже «растрезвонил» о нашей победе и поклонники наклеили листовки радостного содержания на телефонные будки в центре Челябинска.
Разговор с представителями власти шел в русле 37-го года. Нас обвинили черт знает в чем: что мы – самозванцы, что мы ведем молодежь «не туда» и что мы опозорили Урал(!!!) Борис Гринев, тогдашний идеолог по культуре в манере Берии выдал: «Вы сами подписали свой приговор! Мы не дадим вам собираться вместе ни в одном дворце города, а уедете – мы вас достанем, где угодно!.. В который раз нас «приперли к стенке», из которого был один выход – уезжать! После телефонных переговоров с Паулсом, было решено – опять в Латвию, писать пластинку, а потом, как получится… Договор был такой: первая сторона диска должна состоять из песен латышских композиторов Паулса и Фрейденфельда на русском языке, а вторая на наш выбор. В 70-е годы в Латвии был очень популярен вокальный дуэт Бумбиере и Лапченок, но пели они на латышском, а Раймонду хотелось выйти на всесоюзную арену, и он хотел это частично сделать с нашей помощью.
В конце 72-го устроились играть на танцах в ДК ЗСО опять без названия. Директор Скалыгин, под страхом потерять партбилет, приютил у себя…