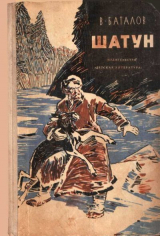
Текст книги "Шатун"
Автор книги: Валериан Баталов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
– А ты все одна, Фиса?
– Одна,– ответила она.– Одна. А с кем же? С тятей да с мамой. Хожу к ним на могилки. Поплачу другой раз, да и все тут. Теперь уж их не вернешь...
Она торопливо накрыла на стол, села рядом с Тимохой.
Он ел жадно, но не спеша.
– И мне маму жалко,– сказал он, утолив первый голод.– Как она, мама-то?
– Тужит она по тебе. Как вспомнит тебя, так и в слезы. Седая вся стала. Думает, что ты в лесу заплутался. А еще тут говорят, будто ты в лесу удавился или в речке утопился. Всякое болтают. Кондрат тогда всю деревню на ноги поставил. Искали тебя в лесу и по речке вниз спускались...
– А тятя как?
– А тятя твой совсем стал молчуном. Говорят, проклял тебя.
– Проклял? Да за что же?! – удивился Тимоха.
– А кто же знает. Должно быть, за то, что не послушался, по-своему решил. Не такой, дескать, чтобы в лесу пропасть. Ну да и Кондрат воду мутит. «Умотал, говорит, варнак, от царевой службы. В тюрьму его, говорит, заточу». В каторгу послать грозится. «Пусть, говорит, только придет, душу из него вытрясу. Захарку, говорит, моего за него взяли...»
– Куда взяли? – удивился Тимоха.
– В солдаты,– равнодушно сказала Фиса.– Как ты ушел, тут вскорости и его взяли. Теперь царю-батюшке служит.
– За меня, выходит, взяли его?
– А хоть бы и так. А тебе что, его жалко?
– Жалко не жалко, а вроде...– начал Тимоха.
– Ну, тогда иди к Кондрату да объявляйся. Вернут Захарку,– жестко перебила Фиса.– А мне не жалко. Хоть бы и за тебя. Не взяли бы его, насильно замуж за него пришлось бы идти. Я бы руки на себя наложила, а ты – «жалко»... Кондрат и сейчас все ко мне ходит. «Я тебе, говорит, за тятю теперь. Ты моя невестушка. Выкуплю Захарку – женой его станешь. Богато жить будешь». А ты – «жалко»... Таких жалеть жалости не хватит. Они-то кого жалеют?
– Да полно, Фиса, я так...– стал оправдываться Тимоха.
– То-то, что так,– все так же жестко сказала Фиса.– Он, жалостливый Кондрат-то, до тебя тут под окнами пробегал. По ночам в лес один ходит. Говорят люди, клад там какой-то выискал. Золото да серебро будто из лесу носит тайком.
– Клад? – Тимоха усмехнулся недоверчиво. – Откуда тут клады?
Фиса сменила догоревшую лучину, снова села рядом с Тимохой.
– А жили здесь люди. Давным-давно. Смелые были да богатые. Золота да серебра у них было видимо-невидимо. Вот они и зарыли клад. А сами ушли куда или вымерли, кто их знает...
– А ты-то откуда знаешь про то?
– Кондрат своей бабе сказывал, а она – мне. Только чтобы никому я об этом. Я на кресте поклялась, да тебе-то, думаю, можно?
– Чепуху несет Кондрат, под старость, видно, из ума стал выживать,– с улыбкой сказал Тимоха и тут же перевел разговор на другое: – Хлеб у тебя, Фиса, хорош. Давно я хлеба не ел, так он мне как пряник.
– А как же без хлеба-то?
– Мясо да рыбу добываю. Ими и кормимся. Избушку себе я срубил.
– Похудел ты, Тимоша,– Фиса рукой провела по его щеке,– измаялся... А шрам-то у тебя откуда? Раньше вроде не было...
– С соседом своим не поладил, с Михаилом Ивановичем. Пришлось силами мериться. Ну да слабоват он оказался малость...
Фиса улыбнулась ласково:
– А ты ешь, Тимоша, ешь.
– Да уж сыт вроде. Давно так не ел. А теперь бы в баньке попариться. Натопила?
– А как же! Велел же. Готова баня, пойдем. Ты парься, а я в предбаннике покараулю. Вдруг да кто зайдет? Штаны вон да рубаху я тебе приготовила. Веник и лучина в бане...
Попарившись всласть, Тимоха лег отдохнуть. Фиса села рядом, рассказывала о соседях. Тимоха слушал позевывая. С устатку клонило его в сон.
– Вот что, Фиса,– сказал он наконец,– теперь я высплюсь, завтра день отдохну у тебя и обратно пойду. Один. Не возьму тебя покуда.
– Как – не возьмешь?– обиженно спросила Фиса.– То жди, а теперь не нужна, что ли, стала?
– Да не то,– успокоил ее Тимоха.– Как – не нужна? Нужна. Только я тебе худого не хочу. Тут ты трудно живешь, а там того труднее. Избушка у меня как конура. Есть другой раз нечего. Ни хлеба нет, ни картошки. Возьму у тебя семян, хлеб посею, огород посажу, а на тот год и тебя приведу. Вот так.
– А мне ничего и не надо, Тимоша. Ты живешь, и я проживу. Буду с тобой, и ладно. Помогать тебе буду. Вместе-то полегче станет. А здесь не останусь я. Кондрат клад добудет, Захарку выкупит, а тогда мне в петлю либо в речку. А третьей и дороги нет...
Тимоха помолчал, подумал.
– А ты и не думай меня оставлять, слышишь! – не унималась Фиса.– С тобой мне нигде не страшно. И ты не бойся. Бойся тут оставлять. Оставишь – не увидишь больше. Чует мое сердце...
– Ну, коли так, тогда вот что,– Тимоха повернулся на бок, привстал на локоть,– пойдем, когда так. Собираться нужно. До света уйдем в лес, чтобы никто не видал.
Фиса зажгла новую лучину. Тимоха встал, обулся. Вместе пошли в чулан. Из сусека выбрали в мешок всю муку.
– Муку заберем,– сказал Тимоха.– Сам понесу. А то до нового урожая без хлеба тебе трудно будет.
Забрали зерно, сколько было. Из подполья набрали картошки, с полатей спустили лук.
– Иголки, нитки, холсты – это все забирай. Там носить нечего. Да льняного семени не забудь. Посеем лен. Если капуста, редька есть – всех семян бери, хоть по щепотке. Да лопату железную не забыть. Нужна будет лопата.
– Возьму, Тимоша, все возьму, ничего не забуду. Донесем только как?
– Донесем. Тут недалеко. Отдыхать будем.
Фиса бегала по избе, торопливо собиралась навсегда уходить из родного дома в глухую тайгу, в убогую хижину, а радовалась так, точно идет она в богатый дворец.
Наконец всё собрали, сложили в два больших мешка. Фиса сделала лямки из кушаков. Перед рассветом Тимоха накинул на плечи лямки, помог Фисе поднять тяжелый мешок. Она окинула избу озабоченным взглядом: все ли взяла, не забыла ли чего? Глянула в угол над столом, перекрестилась :
– Прости мою грешную душу, мать богородица! – сказала она и сняла с божницы самую маленькую иконку.– Ну, пойдем с богом, Тимоша. Пора. А все остальное пусть людям останется.
И, не оглядываясь больше, она потушила лучину.
Глава вторая
НОЧЬЮ ЛУННОЙ
Когда Тимоха тайком уходил с Фисой из Налимашора, Кондрат действительно был в лесу. Ходил он туда не очень часто, только в светлые лунные ночи, но ходил все-таки.
Версты за три от дома было у Кондрата охотничье угодье. По неписаным налимашорским законам никто не имел права не только промышлять дичь или зверя, но и просто находиться там. Так уж заведено было, что у каждого хозяина свое место было в лесу и места эти передавались из рук в руки по наследству и по старшинству.
В угодье у Кондрата была небольшая полянка. Вот он и надумал как-то вскопать ее да засеять овсом. Много-то, конечно, не накосишь на такой полянке, а все прибыль. А прибыли Кондрат искал во всем.
И вот по весне, положив лопату на плечо, Кондрат пришел на полянку, копнул раз, копнул два, и тут лопата стукнула обо что-то твердое.
«Камешек,– подумал Кондрат.– Поднять придется да откинуть подальше. А то начнешь косить да косу испортишь». Он покопался в земле, но вместо камешка нащупал небольшую круглую пластинку. Потер руками, почистил полой понитока. Оказалась монета. Белая, серебряная вроде, сверкает. И буквы какие-то на ней. Кондрат человек грамотный, а что написано, не разобрал, не по-нашему. Он бросил монету на лопату, прислушался к звону. Так и есть – серебро.
Находку свою Кондрат сохранил в строгом секрете. Овес на полянке сеять не стал и с тех пор по ночам не раз приходил сюда – искал клад. И находил кое-что понемногу.
И в этот раз, как всегда, по меже своего огорода он пошел к лесу. По опушке спустился к речке. Узкая тропка вела вдоль берега, срезая напрямик крутые хобота. Тут каждый ложок и каждый бугорок были ему знакомы. И с завязанными глазами прошел бы, не заплутал. Вот здесь, через тропинку, старая валежина лежит, толстая да гнилая, мхом обросла. Остатки сучьев на ней торчат, как зубья на бороне. Пора вправо сворачивать. Дальше чуть в гору, потом пойдет редкий сосновый бор. Земля здесь ягелем заросла. Если лунная ночь, кругом бело все, точно кто бересты набросал. Мох хрустит под ногами, как солома. За бором – ельничек. Темный. Место низкое, болотистое. А вот и куст смородины. Тут и дороге конец.
Кондрат оглянулся, раздвинул руками низкие ветки. Вытащил лопату из-под куста и, опираясь на нее, вышел на полянку.
Шел Кондрат осторожно, часто останавливался, боязливо вглядывался в темноту. Прислушивался к каждому шороху. Шел, а в голове вертелись мысли:
«Не дай бог, кто увидит да прознает. Осторожно нужно. Не спеша. Да не зря бы нынче сходить, золотишка бы да серебра раздобыть. Разбогатеть бы, Захарку бы выкупить... Выкуплю, ну тогда свадьбу будем ладить. Такой пир закачу, навек запомнят десятского...»
На полянке тихо. Только и слышно, что свое дыхание да как сердце бьется. А светло, хоть иголки собирай! Кондрат медленно опустился на колени, поднял голову. Высоко в чистом небе спокойно тянулись на запад редкие кучевые облачка. Проводил их глазами, перекрестился, прошептал:
– Господи благослови...– и копнул лопатой. Копнул второй раз и третий.
Запустил грязные пальцы в рыхлую, влажную землю, стал быстро перебирать руками, разминая каждый комочек. Вот попалось что-то. Твердое, тяжелое.
– Дай бог, дай бог...– Дрожащей рукой Кондрат поднес находку к носу, понюхал. Землей пахнет да вроде ржавчиной. Потер об грудь, почистил полой. Лизнул языком. Вроде кислое. На зуб попробовал. Твердое. Кажись, серебро...
В это время луна спряталась за облако. Потемнело. Пропали с поляны тени деревьев, точно растаяли. Потянул теплый ветерок с восхода. Молодая листва на осинах зашевелилась, зашепталась. От страха Кондрат прижался к земле.
А тут опять вышла луна из-за тучи, и ветерок куда-то умчался. Кондрат поднялся, повернул голову и замер в испуге: рядом с ним на коленях стоял человек, точно вмиг вылез из-под земли.
Кондрат шарахнулся в сторону, про себя шепча слова молитвы, но тут догадался, что тени своей испугался. На куст пала тень.
Вздохнул облегченно, сунул в карман находку и снова принялся торопливо и прилежно перебирать пальцами землю. Но теперь уж не очищал, не разглядывал попадавшие под руку твердые пластиночки, брусочки, остроконечные палочки... Все совал в карман. Без разбора. Чтобы разобрать дома, не спеша.
Иногда поглядывал на свою тень и на тени деревьев, большими черными пиками лежащие на поляне. Потряхивал в кармане находками и снова принимался копать...
Под утро Кондрат вернулся домой. Тихонько постучал в дверь ногой. В ответ послышались шаги босых ног и негромкий голос жены:
– Кто там?
– Отпирай,– отозвался Кондрат.– Свои!
Жена с шумом отодвинула деревянный засов, открыла дверь.
– И чего тебя леший по ночам гоняет? – заворчала жена.– Умом нешто рехнулся? Спал бы дома, как люди...
– Молчи, Домна, не зря ходил.– Кондрат сунул руки в карманы и позвенел находками.– Слышь, вот оно, богатство-то. В руках. Соседи на колени передо мной станут, вот увидишь...
– Видела, – недоверчиво сказала жена. – Черепушки из леса таскаешь. Детишкам только играть. А наши-то выросли...
– Поймешь, Домна, не ругайся...
Жена достала из печи чуть тлеющий уголек, раздула, зажгла лучину.
– На. Опять небось под пол полезешь?
Кондрат взял лучину, приподнял с западни крышку, прислонил к печи.
– Случаем, кто заявится, стукнешь кочергой за печкой. Знать буду.
– Стукну, полезай.
Домна Еремеевна была полной, здоровой и на голову выше Кондрата. Он смолоду побаивался перечить ей или, не дай бог, сказать резкое слово. Но и она сама особенно не брала верх над мужем. Мужа не обижала и сама в обиду не давалась. Вот и сейчас спорить не стала с ним, но, как только муж спустился в подполье, залезла на печь, устроилась поудобнее и тут же захрапела на всю избу.
А Кондрат, согнувшись, прошел к дальней стенке, сел на завалинку, воткнул в нее горящую лучину. Руками разгреб землю, вытащил из ямки берестяную шкатулку. Руками смахнул с нее землю и пыль, открыл крышку. Узкие глаза его жадно засверкали в свете лучины...
В шкатулке лежали две арабские монеты, почерневшие от времени, обе были проткнуты с краю; два браслета – серебряный и бронзовый; какой-то идол, вроде птицы с раскрытыми крыльями и с человеческой головой на груди, железные наконечники стрел, бронзовые и янтарные бусинки...
Кондрат осторожно перебирал пальцами свое богатство, потом вытащил из карманов новые находки. Каждую осмотрел, отряхнул, очистил и аккуратно уложил в шкатулку. Шкатулку поставил на прежнее место в ямку, засыпал сверху землей.
– Сохрани господь и помилуй...– сказал он и пошел к западне.
Глава третья
НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Первой об уходе Фисы проведала Авдотья. Утром она накормила и напоила скотину, подоила корову, истопила печь. А когда пошла на речку за водой, услышала, как блеют на всю деревню некормленые Фисины овечки.
«Чего это она скотину не кормит,– подумала она,– на волю не пускает? Да и печь у нее сегодня вроде бы не дымила. Не заболела ли девка? Проведать пойти».
Фисина изба оказалась открытой. В избе было холодно. Печь не топлена. У порога в углу чьи-то рваные штаны да рубаха валяются.
Авдотья прошла в горницу, позвала хозяйку. Та не откликнулась.
«Да, никак, она дом свой бросила, ушла куда-то? – догадалась Авдотья.– Ладно ли с ней?»
Она бегом побежала домой и сообщила мужу интересную новость. Еремей в огороде сгребал в кучу остатки сена из-под прошлогоднего стога.
– Ерема, – торопливо сообщила Авдотья, – Фиска куда-то пропала! Ушла и дом бросила.
– Чего, дура, мелешь,– безразлично откликнулся Еремей,– куда она денется... Вышла на речку или у соседей у кого сидит. А ты бегаешь как сумасшедшая: «Фиска пропала»! – передразнил он.
– Нет, ты послушай, Ерема,– не сдавалась Авдотья,– говорю, дом бросила! И печь не топила, и овец не кормила. А в избе все разбросано, точно воры там побывали.
Еремей недоверчиво глянул на жену:
– Да какие у нас тут воры? Откуда им, ворам, взяться-то?
– Ну, воры не воры, а десятскому все донести надо,– не отступала Авдотья.– Живой человек пропал. Пусть знает.
– Иди домой, добрая, не бегай. А до Кондрата я и сам пойду. Коли так, как говоришь-то, так не бабьего ума тут дело.
Еремей зашел в дом к Кондрату, встал у порога, перекрестился и сказал спокойно:
– По делу я к тебе, Кондрат Антонович.
– Садись, Еремей, говори, что за дело.
– А дело, выходит, такое,– все так же спокойно продолжал Еремей,– выходит, дело табак.– Он помолчал многозначительно.– Фиска-то умотала куда-то и дом бросила...
Услышав новость, Кондрат как ужаленный вскочил, засуетился, со стены снял свою бляху, повесил на шею и замахал кулаками:
– Это как же так умотала?! Куда? Когда?
– А мне откуда знать, куда да когда,– безразличным голосом проговорил Еремей.– Мне Овдя сказала, а я к тебе: ты начальство, тебе и решать. Может, беда какая, помощь требуется...
– Пойдем, Еремей, сами посмотрим.– Кондрат напялил шапку, ногой распахнул дверь.– Пойдем, всё узнаем. От меня ничего не утаишь...
Домна слышала этот разговор. Она не вмешалась в беседу мужиков, но, как только Кондрат с Еремеем вышли, накинула платок и заспешила к Авдотье.
– Слыхала? – встретила Авдотья соседку. – Невестка-то ваша из дому ушла. Не укараулили...
– Слыхала,– отмахнулась Домна, садясь на лавку.– Да, может, по делу куда? Одна живет, за нее-то никто не сходит.
– Да где там «по делу»! И не говори, Домна,– уверенно возразила Авдотья,– сама я все видела, в избе была. Все разбросано, раскидано. Чего получше-то с собой, знать, унесла, а так перетрясла все да побросала. Так-то по делу не ходят.
– Да некуда ей идти,– не сдавалась Домна.– Одна она, родни во всем свете нету.
– А девке родню недолго искать. Ты что думаешь: всю жизнь так и будет твоего Захарку ждать? Когда еще он вернется, да, не дай бог, может, хворый, как Терентий. Видно, кого другого нашла. Долго ли в ее годах?..
– Ума не приложу,– покачала головой Домна.
– А тут и ума немного нужно,– сказала Авдотья. Она села поближе к соседке и на ухо ей зашептала: – А еще я тебе скажу, тебе только одной, там у ней в избе, у порога, штаны мужские да рубаха. Рваные, грязные. Штаны-то вот такие...– Она руками показала, какой длины были эти штаны.– Тимошкины, видно, штаны-то! С ним, похоже, и ушла...
– Да неужто? – вскинулась Домна.– Вот беда-то!
– Верно говорю! Я всегда думала, что живой он. По лесу бродит, своего часа ждет. Вот и дождался, увел Фиску. Так и вышло.
– Ой, баню она вчера топила...– вспомнила Домна.– Я еще подумала, чего это она на неделе топит, да за делами-то так и забыла. А ведь хотела сходить да спросить.
– Для него, выходит, и топила,– поддержала Авдотья.– Он с вечера попарился, а ночью вместе с Фиской и ушли. Ишь варнак! И не видел и не слышал никто. Ловок!..
Войдя в Фисину избу, Кондрат первым делом сунулся в открытый настежь чулан... Внимательно осмотрел все кругом, наклонился над сусеками, пощупал рукой...
– Муку подчистую выгребла и зерно с собой унесла,– зло сказал десятский и полез в подполье.
– И картошку почти всю забрала. Так, на дне осталось,– сказал Кондрат, поднявшись.– Выходит, ушла, да не одна ушла-то. Не Тимошки ли тут работа? Ты как, Еремей, думаешь?
– Да кто же знает? Тимошки-то, может, и в живых нет,– равнодушно откликнулся Еремей.
– Стало быть, жив варнак. Больше некому. А одной ей разве унести? Чай, не лошадь... Помог кто-то. А кому, кроме Тимошки? Ну подожди, варнак! Найду я на тебя управу!– все пуще расходился Кондрат.– Уряднику донесу. Найду бродягу... В каторгу сошлю! В тюрьме сгною!..
Он потоптался в горнице и приподнял крышку короба.
– И здесь, глянь-ка, все пусто. Тряпки рваные одни. Ну подожди, варнак! Доберусь я до тебя...
Выходя из Фисиной избы, Кондрат вспомнил вчерашнюю ночь и невольно поежился.
«Нынче ночью пошел,– подумал он,– когда я на полянку ходил... Ладно, что не встретились. Теперь ему, варнаку, все нипочем. Что с него возьмешь?..»
Заслышав шаги на крыльце, жалобно заблеяли в овине голодные овцы. Кондрат прислушался, но промолчал.
– Скотина-то не кормлена. Не пропала бы,– сказал Еремей.
– Вижу,– коротко бросил Кондрат, а про себя подумал: «Возьму к себе овечек. Мне не в убыток. Пусть кормятся...»
– Может, к Федоту зайдем? – предложил Еремей.
– А что к нему ходить? Говорить-то что с ним? Ему-то Тимошка сын родной... Ладно, потом подумаем. А теперь прикажу заколотить избу, раз бесхозяйная...– сказал Кондрат и, круто повернувшись, направился к дому.
– Выходит, в Налимашоре еще одним жителем меньше стало...– стараясь не отставать от десятского, себе под нос пробормотал Еремей.
Второй день Тимоха с Фисой шли по лесу. Шли без дорог, без троп. Шли прямиком через овраги, через лощины, через густые ельники и буреломы.
Злой, порывистый ветер не переставая шумел вершинами деревьев, безжалостно качая их во все стороны. Казалось, весь лес ходит ходуном от этого ветра.
Второй день шел дождь. Мелкий, густой, теплый. Он то прибавлял, то утихал, надоедливо накрапывая, и тогда между деревьями сыпалась сверху похожая на туман водяная пыль. Давно ли земля была сухая, а за два дня раскисла, размокла, как болото. И ветви деревьев не защищали ее от дождя. Сами намокли, точно пропитались водой, и теперь мелкие капельки дождя скользили по сырым веткам, сливались в большие капли, падали вниз и громко шлепались на молодые листочки кустарников и травы.
Заденешь ненароком ветку сосны или рябины, и на землю шумной стайкой сыплются тяжелые капли.
Тимоха шел впереди, время от времени отводил рукой сучья, мешавшие на пути, пропускал Фису и снова уходил вперед. Фиса шла не отставая, шлепая лаптями по сырой земле.
Она промокла до ниточки. С платка, с растрепанных волос по лицу струйками стекала вода. Кончиком мокрого платка Фиса то и дело вытирала лицо.
Шли больше молча, устало переставляя ноги. Сейчас бы в избу зайти, посидеть у огня, обсохнуть, поесть... Да где тут в тайге найдешь избу?

Фиса положила голову на плечо Тимохе...
«Ушел вот я из дому,– думал Тимоха,– в тайгу ушел. А куда же больше? Скрылся от людей, от родной матери скрылся. Теперь мне тайга матерью стала, теперь от нее никуда не уйдешь... Видно, всю жизнь так проживу, и никто знать не будет. От царева закона ушел... А не ушел бы – так тоже не сладко. Да вот Фиса... Увел и ее от людей. В лес увел, нужду хлебать. Мне-то ладно, а ей как будет?»
Они прошли ложбинку по топкому болоту. Вышли в липовую рощу. Впереди новый ложок, заросший кустами смородины и высокой травой.
Тимоха оступился. Фиса сразу заметила это и сказала ласково:
– Устал ты, Тимоша, котомка у тебя тяжела...
– И то,– согласился Тимоха и глазами выбрал место.
В ложке протекал узкий молчаливый ручеек. Рядом с ним, между липами, стояла высокая ветвистая ель. Тимоха зашел под нее, тяжело опустился на кривой бугорчатый корень, похожий на змея-великана.
– Отдохнем малость,– сказал он, снял мешок со спины у Фисы и повернулся спиной к ней: – Пособи-ка!
Она сняла тяжелый мешок, поставила его вплотную к стволу ели, облегченно вздохнула и села рядом с Тимохой.
Тимоха помыл руки в ручье, горстью зачерпнул воды, попил. Фиса тоже напилась вволю. Сидя поели. Вставать не хотелось. И мох и трава отсырели под елкой, но все равно хотелось лечь и заснуть. Да некогда было спать: пока светло, шагать нужно.
Фиса положила голову на плечо Тимохе, закрыла глаза. Задремала вроде. Тимоха сидел грустный, задумчивый.
– Пошто ты, Тимоша, молчишь всю дорогу? – не поднимая головы, спросила наконец Фиса.– Или обидела тебя чем?
Тимоха провел ладонью по мокрому лбу, поморгал глазами.
– А, Тимоша? – не дождавшись ответа, снова так же тихо спросила она.– Ты о чем сейчас думаешь?
– Да вот, может, зря я тебя, Фиса? – неуверенно заговорил Тимоха.
– Чего – зря? – встрепенувшись, спросила Фиса.– Чего – зря?
– Ты послушай меня, Фиса,– уставившись глазами в ручеек, сказал Тимоха.– Не враг я тебе. Хотел доброе сделать тебе, а выходит худое. Сам, как шатун, живу и тебя туда же тащу. Легко, думаешь? Так зачем тебе такое наказание?
Фиса молча посмотрела в глаза Тимохе, стараясь понять его слова.
– С утра вот думаю,– продолжал Тимоха.– Иду вот, усталости не чувствую, дождя не замечаю... Все о тебе думаю. Жалко мне тебя. С людьми-то, может, лучше тебе? Ведь тут слова не с кем сказать. Онеметь можно. Одичать... Вот так.
Он замолчал, вспоминая дни одиночества. Приземистая избушка, полянка, Серко, Тюха, филин... Скука. Смертельная скука долгими зимними ночами... Может, и правда проводить Фису домой? С народом-то все веселей ей будет...
А у Фисы глаза налились слезами, чуть заметно задрожали губы.
– А я так, Тимоша, думаю...– тихо сказала она.– Другая найдет себе по душе человека. Живет в нужде, из сил выбивается, а сама счастливая, не жалеет и на судьбу не в обиде. А с нелюбимым жить – так это в гроб лучше. С тобой, Тимоша, я хоть куда пойду! Пошла же? Самый ты лучший для меня, и жизнь при тебе самая лучшая...
Тимоха, не перебивая Фису, все еще глядел в быструю, чистую воду.
– Вот идем мы с тобой. Лес, дождь, комары... А мне все нипочем. Один ты мне нужен...– Фиса вытерла глаза мокрым концом платка.– И ты меня не жалей, Тимоша, счастливая я с тобой. И не смотри, что баба,– сильная я, живучая...
Тимоха обернулся к ней и повторил ласково:
– Добра я тебе хочу, Фиса.
– Да какого же добра-то еще? Вместе мы с тобой! А с тобой мне все хорошо. И не затем я пошла, чтобы назад ворочаться.
– Ну, коли так, пойдем. Отдохнули.– Тимоха встал, надел лямки мешка, помог Фисе.– Чай, холодно тебе? Ну да пойдем – согреемся.
– Согреемся, Тимоша! Ты не жалей меня, я крепкая.
– Ну, пойдем потихоньку. За этим липняком сосняк будет. Там переночуем. А завтра, бог даст, и до Горластой дойдем.
И они опять принялись шагать, без дорог, без троп, напрямик. По-прежнему моросил дождик и земля хлюпала под ногами. По-прежнему холодно было и тяжело тянули мешки. Но как-то после этого разговора и шагалось легче, и теплее казалось, и они не заметили, как дошли до сосняка, не заметили, как и дождь перестал. Не заметили, как удлинились тени и подошел вечер.
В сосняке получше стала дорога. Тут рядом можно было идти, и Фиса поравнялась с Тимохой.
– А знаешь что? – сказала она.
– Что?
– Хорошо нам с тобой. Или нет? Что опять замолчал? Скучаешь?
– Нет, не скучаю,– ответил Тимоха,– только, думаю, устала ты, не рада, что и пошла...
– Ну вот, ты опять о том же,– перебила Фиса.– Говорю, не жалей ты меня. Мне мать-покойница говорила: «Нет худа без добра». А мы худо позади оставляем, а добро впереди у нас.
– Ну, молчу,– согласился Тимоха и добавил:– Придем вот. Полоску вскопаем, хлеб посеем, картошку посадим. Рыбу ловить станем. Проживем. Избушка у меня тесновата. Ну, да лес не возить, новую срубим. Амбарчик бы нынче поставить да яму выкопать, картошку сложить. Вот так.
– Баньку построить надо,– сказала Фиса.
– И баньку, а как же? – согласился Тимоха.– Баньку первым делом... Ну, однако, ночь подходит. Добро, хоть дождь перестал. Костер разведем, подсушимся, отдохнем, а тут десять верст, больше и не будет. Утром увидишь все мое семейство: Серка, и Тюху, и Лохмача. Заждались небось меня...
На тайгу спустилась ночь. Фиса собрала сушника, Тимоха высек огонь, и запылал в сосновом бору яркий, веселый костер.
Глава четвертая
НА ПЕРЕНОВЕ
Осенью, по перенове, как налимашорцы называли первый снег, охотники уходили в лес промышлять зверя.
Зимой на подводах в Налимашор приезжал приказчик от купца Зарымова, закупал у охотников пушнину, а им за то привозил разный товар.
Нынче осенью, как только похолодало и заморозило, все охотники из деревни дружно подались в тайгу. Всем хотелось до глубоких снегов добыть побольше зверя. Уходили на двое, на трое суток, кто посмелее – и на неделю, а были и такие, что и подольше оставались в лесу.
Собрался в тайгу и Федот. Собрался, а пойти не пришлось. Захворал. Слег. Надеялся скоро выздороветь и тогда пойти. Но как ни старалась Лукерья: и травами его поила, и в баньке парила,– долго не отпускала хворь.
Федот лежал на печи, маялся и не находил покоя. Невеселые мысли неотступно стояли в голове.
Максимку отправить – так молод еще. Один в лес не хаживал. Прошлый год тоже нескладно получилось: пошел тогда сам да на второй день в лесу и захворал. Простыл, может, или так привязалась хворь. Еле добрался тогда до дому и не пошел больше. И теперь тоже... Тогда бы Максимку пустить ненадолго, да пожалел младшего, не пустил. А теперь пустить и вовсе боязно. Раньше Тимоха выручал. Пойдет, бывало, на неделю, на две – тот ничего, не боялся,– смотришь, куниц принесет да белок. А нынче и соли не на что будет купить...
Федот поворочался на печи, затемно спустился, сел на западню, сгорбился, облокотился на колени и закашлялся.
Глядя на мужа, встала и Лукерья, затопила печь.
– Теперь, Лукоша, самое время в лес идти,– сказал Федот невесело.– В самый бы раз за куницей. Да вот прихворал я, старый стал. Грудь зажало.– Он медленно выпрямился, снова закашлялся и провел по груди рукой.– Дыхнуть не дает. Так и душит. Отходился я, видно, отлесовался...
Он не спеша вышел в сени, внес в избу куртку-безрукавку. Новую, легкую. Сам в прошлом году сшил из лосиной кожи. Один только раз и ходил в ней на охоту. Бросил куртку на лавку, крикнул на всю избу:
– Максимка, а Максим!
– Пошто ты его, Федотушка, в такую рань? – спросила Лукерья.
Старик не ответил. Над головой заскрипели полати.
– Чего, тятя? – сонным голосом отозвался Максимка.
– Вставай!
Максимка потянулся раз-другой. Ловко спустился с полатей. В избе было темно. Только чуть заметный пробивался в низкие окна рассвет да неровным светом теплилось жерло печи. За окнами порывисто и жалобно стонал холодный ветер.
– Ну чего, тятя? – переспросил Максимка.
– Возьми вот лузан,– Федот подал сыну куртку,– да собирайся... А я уж, видно, сам-то не пойду. Шибко ходить не могу да и нагибаться трудно. Полегчает разве, тогда уж...
Максимка и без того знал, что не сегодня, так завтра отец пошлет его в лес. Зверя-то нет в доме, а скоро и купцы приедут. Как не послать? Поэтому он и не удивился. Взял в руки лузан, примерил. Слова не сказал и стал собираться.
– Федотушка! – догадалась Лукерья. – Максимка-то один за зверем не хаживал. Молод еще. Куда же ты его?
– Не маленький,– строго возразил Федот.– В лесу вырос, не пропадет. Некому больше. Ты, что ли, пойдешь?
Лукерья знала, что перечить мужу нельзя. Как скажет, так и будет. Она проглотила обиду и тут же забегала, засуетилась, стала помогать меньшому собираться в лес. Подала сыну двое штанов, длинные шерстяные чулки, теплые онучи.
– Ты потеплее, Максимушка, одевайся... Ночи теперь длинные да морозные.
Максимка собирался молча. Сперва надел холщовые штаны, поверх – пестрядинные, полосатые. На чулки намотал широкие серые онучи, обул новые лапти, подбитые кожей.
Федот спустил с полки берестяную шкатулку, достал из нее пороховницу, похожую на бараний рог, сунул в переднюю сумку лузана.
– Весь тут,– сказал он невесело.– Ты привяжи на ремешок, не потеряй. И зря-то не пали. А тут вот дробь. Тоже немного.– Он сунул туда же в сумку сплетенную из лыка коробочку.
Лукерья накормила сына горячими шаньгами. Максимка надел лузан, поверх лузана – шубу. Мать положила в мешок хлеба, сушеного мяса, крутые яйца и соль. За пояс Максимка заложил топор.
– Шапку мою надень,– предложил Федот.– Легкая она, да мягкая и теплая.
Он достал из-за печки старое курковое ружье, погладил его ладонью, оделся и хоть знобило его, а вышел проводить сына на крыльцо.
Лукерья тоже накинула на голову рваненький выцветший платок и выбежала следом. Максимка бросил собакам по куску хлеба. Федот на крыльце подал сыну ружье и, глядя под ноги, скупо напутствовал в бороду:
– Припас береги. Мало его у тебя. На медведя в случае чего не лезь, сторонкой обойди. Неспособно на медведя одному-то. Да и пользы от него мало. Белку ищи да куницу. Ну, за белкой теперь далеко нужно ходить. Близко-то все повыбили. Больно-то не спеши да и долго не пропадай – скоро зарымовские приказчики наедут.
– Ладно, тятя, понимаю.– Максимка закинул ружье за плечо.
Лукерья похлопала сына по спине, кончиком платка утирая слезы, плаксивым шепотом говорила:
– Береги себя, Максимушка. Спаси тебя Христос... Не заплутай в лесу-то...– Она перекрестила сына.– С богом, Максимушка, с богом...
Максимка спустился к реке, по льду прямиком перешел на ту сторону. Собаки убежали вперед: одна рыжая, другая черная.
Федот пошел в дом, а Лукерья еще постояла, посмотрела, как Максимка твердой походкой дошел до опушки, махнула ему рукой, когда он оглянулся, и проводила глазами, когда он скрылся в лесу.
Дома сбросила с головы платок, кинула на лавку, подошла к Федоту, который, угрюмо сгорбившись, молчаливый и задумчивый, сидел на западне.








