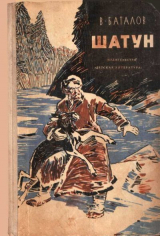
Текст книги "Шатун"
Автор книги: Валериан Баталов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
– А вы кто такие?– строго спросил человек в папахе.– Как сюда попали? Зачем?
Тимоха встал, ладонью вытер кровь под носом, сказал неторопливо:
– Лесовики мы. Издалека. Пушнину вот привезли.
– Лесовики...– Человек в папахе опустил наган в кобуру.– Белок стреляете, купцу пушнину возите, а он со своими прихлебателями у вас же из носа кровь выкачивает. Не знаете, кого стрелять нужно! Врагов не видите...
Тут на лестнице, возле буфета, откуда-то появился сам Зарымов в белой рубахе с вышитым воротом, в хромовых сапогах.
– Что случилось? – спросил он.– Кто стрелял?
Ему никто не ответил.
– Ну, вот что, мужики,– будто и не видя купца, помягче сказал человек в папахе,– пойдемте со мной, пока вас тут совсем не убили. С народом с этим трактирным потом разберемся... И с тобой разберемся,– обернулся он к купцу.– Дай срок...
По Ярмарочной улице они спустились в низину. По сторонам в темноте сиротливо стояли низкие домишки. Впереди шагал человек в папахе, за ним Пров с Фомкой, а позади в санях, запряженных Бойким, не спеша ехал Тимоха.
За углом одного из домиков мелькнули какие-то тени.
– Кто это? – спросил Фомка.
– Караулят,– оказал человек в папахе.– Ворюги из трактира. Думали, одни пойдете. А со мной они вам ничего не сделают. Пойдемте, у меня и переночуете.

– Люди кровь на фронтах проливают, за свободу сражаются...
Когда пришли, Тимоха завел Бойкого в небольшую оградку и последним зашел в избу. Здесь, на просторном столе, стояла керосиновая лампа без стекла. Человек в папахе разделся, потер озябшие руки.
– Ну, теперь будем знакомиться.– Он первому подал руку Тимохе.– Зовут меня Афанасием Дементьевичем,– сказал он,– а фамилия моя Ипатов.
– Тимофей Федотыч Лунегов,– назвал себя Тимоха.– А это сын мой Фомка.– Он мотнул головой в сторону сына.
– Фома Тимофеевич, выходит.– Ипатов пожал руку Фомке.– В отца пошел: крепкий, плечистый.
– А это Пров Грунич из Пикановой,– сказал Тимоха.
– Ну вот и познакомились,– улыбнулся Ипатов.– А теперь раздевайтесь, разувайтесь и спите тут. Никто вас не тронет, все цело будет. Только вот коек нет, на полу придется спать...– Он увидел кровь на лице у Тимохи и сказал озабоченно: – Это так не годится. Давай умойся.
Черпнул ковшом воды из кадки, налил в жестяной умывальник.
– За что же вас так? – спросил он.
– Да ни за что,– ответил Тимоха.– Денег на вино попросил один. Я не дал. Он в карман полез. А тут и дружки его наскочили. Ну, я кошелек-то зажал, не унесли....
– Жулье,– сказал Ипатов.– Работать не хотят, а на чужое добро зарятся. Так и смотрят, где что плохо лежит! Эти-то мелкие жулики, а есть и покрупнее. Вот хоть Зарымов-купец, если разобраться, так это разбойник настоящий! Сам не работает, а брюхо отрастил. Сидит, как паук, да кровь народную пьет. Сколько он из вас, лесовиков, крови выпил!.. И много еще у нас таких. Со всеми-то не скоро разберемся...
– А ты сам-то кто же будешь, что тебе со всеми разбираться? – спросил Тимоха.
– А я от рабочих да от крестьян сюда поставлен. Будем здесь свою рабочую власть ставить. Магазины, дома, деньги – все у Зарымова отберем, народу отдадим...
– А он так тебе все и отдаст, Зарымов-то? – усомнился Тимоха.
– Так-то не отдаст,– сказал Ипатов,– а мы с боем возьмем. Слышал небось, война по всей России идет. Вот за то и воюем. Купцы, помещики, фабриканты – те свою линию гнут, чтобы все по-старому, как при царе, чтобы на народном горбу сидеть. А народ – свою: за справедливость... Вы ужинать-то будете? – спросил он неожиданно.– Может, чайку попьем?
– Поели мы,– сказал Тимоха.– Ты нам лучше, Афанасий Дементьевич, растолкуй, что к чему. Вот ты говоришь – война. Кто с кем воюет?
Ипатов сел на лавку рядом с мужиками, задумался.
– Вся Россия пополам раскололась,– сказал он наконец.– Белая гвардия: офицеры, купеческие сынки, кулачье – эти за царя, за помещиков, за богачей. А наша Красная Армия за народ, за бедноту, за рабочих. Понятно?
– Ну, так,– сказал Тимоха.– А за главного кто же у белых-то? Царя-то, слыхать, сбросили?
– Царя сбросили,– согласился Ипатов.– Генералы остались.
– А у вас тоже, поди, генерал какой?
– У нас партия всех главнее. Про большевиков не слыхал? Ну вот, послушай. Мы, большевики, за то воюем, чтобы землю всю крестьянам отдать, заводы, фабрики – рабочим, чтобы всем работать. А кто не работает, тому чтобы и жрать не давать.
– А править кому? На вожжах, слышь, и лошадь умна. А вожжи бросишь, в овес забредет. У вас-то кто вожжи держит? – спросил Тимоха.
– От народа Советы. Вот и тут, в Богатейском, как наберем силенки, богатеев сбросим, бедняков соберем и выберем, кому вожжи держать. Советскую власть поставим. И по всей России так: вся власть Советам.
– Ну, поставишь ты тут Совет,– согласился Тимоха.– А удержать-то сумеешь? Генералы-то Зарымову подмогу дадут.
– Про то и речь,– сказал Ипатов.– С винтовками власть свою защищать будем. И тут, в Богатейском, красноармейский отряд соберем. Не справимся сами – соседи помогут. Им трудно будет – к ним на помощь пойдем. Вот так.
– А с Авдеем нашим как быть? – вставил свое слово Пров.– И его бы по шапке, да ведь я ему должен кругом. И вся Пикановая у него в долгу. Тут как быть?
– А тут проще простого,– сказал Ипатов.– Раз ты бедняк, на тебе долгов нет. Авдей тебе должен, а не ты ему – ты на него всю жизнь горб ломал, Зарымов – должен, обирал он тебя. А с тебя все долги Советская власть сняла, все тебе прощено теперь. Ясно?
– Мне-то ясно,– согласился Пров.– Авдею-то как разъяснить?
– А так вот и разъясним, если понимать не захочет,– сказал Ипатов, выразительно взявшись за кобуру.– Вот так и разъясним.
Долго еще в тот вечер сидели мужики. Ипатов рассказывал, они слушали, спрашивали.
Многое узнали тогда все трое и о войне, и о революции, и о Ленине. Но сколько ни длилась беседа, пришел и ей конец. Керосин кончился в лампе. Ипатов вытащил из кармана часы, глянул на них и сказал озабоченно:
– Засиделись мы с вами, мужики. Дело за полночь, а завтра работы много. Располагайтесь спокойно, а я вас тулупом накрою.
Глава пятая
ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
На полу чужой избы, укрытые большим тяжелым тулупом, почти до утра не могли заснуть мужики. В избе стояла мертвая тишина, только изредка слышалось дыхание да тихий шорох, когда кто-нибудь поворачивался на другой бок. Мужики не спали, но и не разговаривали. Было о чем молча подумать.
Перед глазами Фомки сперва всё мелькали лица. То Зарымов, то Глаша в белом ситцевом платочке, то торопливый буфетчик, то долговязый Филька в оборванной шапке с длинными ушами. Потом вдруг появился Ипатов, с серьезным лицом, в папахе. Появился, пропал, а потом уже не лица, а мысли закрутились, цепляясь одна за другую. Тут и Горластая была, и мать, и трактир, и война – все вперемешку. Ни одну из этих мыслей Фомка додумать до конца не мог, да и не больно представлял, что такое война, что такое Советская власть... Думал только, что, наверное, лучше будет, если красные победят, потому что они против Зарымова и против приказчика, за простой народ.
Тимоха тоже думал, стараясь понять, что произошло в трактире и о чем потом говорили до полуночи.
«Верно Ипатов говорил,– думал он,– мелкота в карман тебе пятерней лезет, а покрупнее которые, те ведрами, бочками кровь народную пьют. Сам бы пошел воевать с богачами, да стар, видно, стал, не возьмут, поди...»
О том же думал и Пров:
«Пойти в отряд... Ипатов-то, видать, мужик честный, за правду борется. Матрешу с Глашкой вот жалко. Как им одним-то будет? Надолго война-то. А то и совсем не вернешься...»
Только под утро заснули мужики, а тут и просыпаться пора. Ипатов был уже на ногах. Он наскоро протопил печь, поставил на стол жестяной чайник с кипятком.
– Как спалось, мужики,– спросил он,– не замерзли?
– Нет, не замерзли, Афанасий Дементьевич,– за всех ответил Пров.
– Ну, то-то, а то ведь я тут бобылем живу,– как бы оправдываясь, сказал Ипатов.– Сам и печку топлю, сам и чай кипячу. И в доме пусто...
– А что так? – спросил Пров.– Или хозяйки нету?
– Давайте за стол, мужики,– сказал Ипатов, не ответив на вопрос.– Чайку попьем по-холостяцки, вернее, кипяточку. Чаю-то тоже нет.
Пров подумал, что Ипатов нарочно отвел разговор в другую сторону.
Мужики сели за стол. Ипатов налил всем кипятку, положил перед каждым по кусочку сахара. Тимоха достал из котомки хлеб, нарезал на всех.
– Что так, спрашиваешь? – отхлебнув кипятку, сказал Ипатов.– Приходится. Жену с сынишкой к родне отвез. Тут, сами видите, в Богатейском, до Советской-то власти еще не близко. Тут пока Зарымова власть. А меня все знают, что я большевик, красный командир. Убить могут и жену и сына. Вот уж добьем беляков, тогда и семью привезу...– Он откусил кусочек сахара, подул на кипяток и снова отхлебнул.– Вы пейте, пейте, мужики. Кипятку хватит.
– А долго еще война-то будет? – спросил Фомка.
– А это уж от нас самих зависит,– улыбнувшись, сказал Ипатов.– Как воевать будем. За нас-то никто их бить не пойдет. А как побьем, так и войне конец. Вот так-то. А ты, Фома Тимофеевич, не хочешь с нами беляков бить? Это повеселее, чем белку-то стрелять. Да и понужнее.
Фомка глянул на отца, но промолчал. Тимоха не вмешивался в разговор, слушал, о чем говорят другие. Он с аппетитом пил кипяток, откусывал сахар крошечными кусочками и жевал хлеб.
– А ты, Афанасий Дементьевич, всех в отряд свой берешь? – спросил Пров.
– Всех не всех, а вас взял бы. Если, конечно, сами запишетесь.
– И оружие даете? – спросил, не утерпев, Фомка.
– А как же! Без оружия не воюют,– сказал Ипатов и встал из-за стола.
Он надел куртку, перетянул ее портупеей с ремнем и с наганом, надел папаху и сказал на прощание:
– А вы, мужики, чаевничайте, вам особо спешить некуда. А у меня дело срочное... Я скоро. Увидимся еще.– Он открыл дверь и с порога добавил: – Запирать незачем. Взять у меня нечего.
– Вон какие дела творятся. А мы живем и не знаем ничего,– сказал Пров, когда за Ипатом закрылась дверь.
– Умный мужик-то, головастый,– задумчиво проговорил Тимоха.
После ухода Ипатова разговор между мужиками пошел смелее.
– А ты, Фомка, пошел бы в отряд, если бы взяли? – спросил Пров.
Фомка сперва замялся, не решаясь ответить, и спросил в свою очередь:
– А ты сам-то пошел бы?
– Я бы пошел,– сказал Пров.– Больно злой я на купца да на Авдея нашего. Победят красные – другая жизнь пойдет. А не победят – тогда до смерти нам без штанов ходить да жить впроголодь. И детям и внукам нашим то же останется... Я бы пошел...
– И я бы пошел, кабы помоложе был,– поддержал Тимоха.– У меня тоже зла на них накопилось...
– А меня, тятя, отпустишь? – спросил Фомка.– Добровольно идти-то нужно.
Тимоха не ответил, будто не слышал.
«Может, и к нам в тайгу война доберется,– подумал он,– тогда совсем плохо будет. Нужно, видно, красным помогать».
– Ты чего же молчишь, Тимофей Федотыч? – спросил Пров.
– А что говорить-то? Сами не маленькие, думайте. Я-то уж стар, не возьмут меня. А вы думайте. А пока думать будете, в лавку нужно сходить...
Все трое они поднялись по Ярмарочной улице на взгорье, к купеческим домам. По одной стороне улицы, против зарымовских домов, стояли рядком маленькие домики – лавки с широкими дверями и с маленькими окнами, забранными прочными решетками.
В одной лавке мужики купили порох, дробь, капсюли. В другой – белой муки, кренделей, пряников, конфет и сахару. В третьей лавке Тимоха взял для Фисы кусок ситца с цветочками. Пров долго вертел в руках цветастый коричневый платок.
– Покупай, не скупись! – подзадоривал Фомка.– Пусть Глаша по праздникам носит.
– Да вот думаю,– с досадой ответил Пров,– да денег не хватает.
– А у тебя, тятя, остались деньги? – спросил Фомка.
– Есть малость. Зачем тебе?
– Добавь Прову, пусть Глаше платок купит.
– И то,– сказал Тимоха и передал Прову остаток денег.
Когда вернулись к Ипатову, тот был уже дома. Он сидел за столиком и писал какие-то длинные списки. Увидев вошедших мужиков, отодвинул бумагу в сторону, положил на нее карандаш.
– Уже управились?
– А нам долго нечего делать,– сказал Пров.– На наши барыши всего и товару... – Он показал рукой на свои мешки.– Тянись до весны, а там опять к Авдею в ноги. С голоду-то умирать кому охота...
– Зачем в ноги,– строго сказал Ипатов,– драться с ними надо, с богачами! Подобру у них ничего не возьмешь. С ними оружием говорить нужно.– И чуть помягче прибавил: – А я вот срочный приказ получил: немедленно собирать отряд и идти на сближение с частями Красной Армии. Напирают беляки с востока. На Пермь лезут. Завтра утром выхожу из Богатейского. По пути в деревнях буду пополнять отряд. Мужички пойдут. Теперь все поняли, что к чему. Сами просятся. Лиха беда начало, говорят. Ну, а вы как?
Фомка с Провом переглянулись.
– Пиши, Афанасий Дементьевич, и меня в свой отряд,– внезапно сказал Пров.
Ипатов не спешил с ответом и карандаш в руку не брал. Он только глянул на Прова пытливо, точно хотел убедиться, твердо ли тот решил.
– Пиши, пиши,– повторил Пров.
– Хорошо подумал? – спросил Ипатов.
– А чего тут долго думать? – сказал Пров твердо.– Весь народ поднялся, а я у себя в Пикановой буду прятаться?
– Верно говоришь,– согласился Ипатов и взял карандаш.– А как писать-то тебя?
– Так и пиши: Пров Грунич. И всё тут.
– А ты, Фома Тимофеевич?
Фомка молчал, уставившись под ноги.
– Смотри сам, Фома,– сдержанно проговорил Тимоха.– Не маленький. Перечить не стану. А я-то уж, видно, стар для такого дела.
– Ну тогда и меня пишите, Афанасий Дементьевич,– сказал Фомка.– Вместе с Провом пишите. Вместе-то веселое...
Фомка принес воды из колодца, напоил Бойкого. Тимоха сложил в сани котомки с покупками, набросал на них сена, связал веревкой. Провожать Тимоху вышли все трое.
– Счастливо тебе добраться,– сказал на прощание Ипатов.– Ты как приедешь, Тимофей Федотыч, ты с мужиками-то поговори, расскажи им, что к чему.
Пров наказывал:
– Матрене, Тимофей Федотыч, расскажи, что знаешь. Пусть ждет меня. Да пусть пуда два оставит к весне семян. Сам не вернусь если, пускай посеет возле бани. Глашке скажи, что подарок ей вместе с Фомкой покупали. Овечку одну пусть зарежут – до весны хватит им мяса...
Фомке очень хотелось и от себя передать привет Глаше, но он не решился, не сказал ни слова. Тимоха крепко, по-отцовски обнял сына, прижал его к себе, посмотрел в глаза.
– Береги себя,– сказал он,– ну, однако, и спину врагу не показывай. Нас с матерью помни да домой приходи поскорее. Вот тебе мой наказ.
– Маме скажи, чтобы не тужила,– сказал Фомка, сдерживая слезы.
Домой Тимоха ехал невесело. Одиноко было ему и вроде обидно. Нахмурив брови, он стоял на охапке сена на коленях, смотрел на дорогу, на лес... Казалось, что и лес грустит вместе с ним. И Бойкий вроде печалится. Сюда тяжелее было, а от Пикановой почти всю дорогу бежал рысцой, а сейчас еле ноги переставляет, все ждет, когда хозяин подгонит. Но Тимоха не подгонял коня. Спешить некуда – до ночи так и так доедут, там переночуют у Прова в избе, а с рассветом и дальше...
Многое передумал Тимоха по дороге из Богатейского до Пикановой. О сыне думал. Вспоминал, как с Фомкой вместе лесовали, сколько студеных ночей провели у таежных костров. Думал и о Зарымове. В Налимашоре все говорили, что добрый купец. А он вон какой добрый... Что Пестерин, что Зарымов – одна воровская шайка. Сколько трудов в каждую шкурку вложено, а они знай одно: «По дешевке пойдет». И жаловаться некому. Думал и об Ипатове: «Командир, большевик... За нашего брата, за мужика бедного, воюет. Ну, не скоро еще войне-то конец. Богачи с богатством не хотят расставаться. Фомка с Провом тоже теперь на войну пойдут. Ну и пусть. За хорошую жизнь воюют. За правду. И сам бы пошел, да староват в солдаты-то. А Фомка вернется ли? Увижу ли сынка?..»
Короток зимний день в тех краях. Не успеет холодное солнце высунуться из-за леса да поблистать на снегу, смотришь, опять уже за лес валится. Вечереет быстро. Не то что летом. Тимоха подъехал к Пикановой, когда уже стемнело. Остановил лошадь у крыльца, и тут же выскочила из избы Глаша.
– Ой, где же тятя? – с тревогой спросила.– Мы вас еще вчера ждали...
Тимоха распрягал Бойкого, развязывал котомки, копошился у саней, будто ничего не слышал. Глаша торопливо сбежала с крыльца, принялась помогать. Сняла хомут с Бойкого, привязала коня к саням. Но спрашивать про отца и про Фомку больше не стала. Постыдилась. Тимоха одной рукой бросил котомку на плечо, внес в избу, поставил у порога. Навстречу выбежала Матрена, всплеснула руками:
– Что же вы долго-то как? Мы уже заждались. Думали, не худое ли что. Ан нет, заявились. Озябли, чай. Стужа-то какая... Пров-то с Фомкой чего не заходят? Да я вам печку сейчас затоплю железную...
Она занялась печкой, а Тимоха нарочно медленно стал раздеваться, не зная, с чего начать разговор. Глаша тоже молчала, с тревогой глядя на Тимоху и ожидая, когда он заговорит наконец.
– Ну чего же они не заходят? – снова спросила Матрена, накинула на голову платок и заспешила к двери.
– Матрена,– остановил ее Тимоха,– не бегай. Садись, послушай, чего скажу.
Матрена поняла, что ничего веселого ждать не приходится. Она села на лавку. Руками ухватилась за край. Глаша бросилась к матери, обняла ее за плечи, медленно опустилась на лавку.
Пока Тимоха рассказывал обо всем, что произошло в Богатейском, Матрена слушала всхлипывая, вытирала слезы рукавами, иногда приговаривала вполголоса:
– Горе-то, горе какое... И так беднее нашего нет никого. Видно, верно говорят: где тонко, там и рвется...
Глаша утешала как могла мать, ласково уговаривала:
– Не убивайся, мама, не плачь... Тятя небось скоро вернется.
Тимоха не знал, как успокоить Матрену. Он потирал ладонями колени, неопределенно повторял:
– Сказывают, недолго воевать-то будут. Разобьют белую гвардию, прогонят. Тогда и вернутся. Да и как не прогнать – весь народ поднялся.
– Дай бы бог, чтобы так,– плачущим голосом соглашалась Матрена.– Дай бы бог...
Не терпел Тимоха женских слез. В другой раз и прикрикнул бы на баб, ну да тут разве прикрикнешь, раз дело такое...
Глава шестая
АВДЕЕВА ХИТРОСТЬ
Вернувшись домой, Тимоха собрал всех соседей, от мала до велика. С обеда и до полуночи он рассказывал о том, что видел и слышал в Богатейском. Слушали его внимательно, мужики удивленно покачивали головами, бабы недоуменно вздыхали. Слушали молча, настороженно, боясь слово проронить. Только Кузьма Ермашев изредка вмешивался в Тимохин рассказ и перебивал нетерпеливо:
– Эх, меня бы лучше с собой-то взял бы! Фомке дома отцу-матери помогать надо. А моя-то Анка и одна бы пожила. Как ты говоришь, так зла у меня хватает на белых да на богачей. Пошел бы их колотить, кабы оружие дали!
На другой день Тимоха роздал покупки, а прошло еще дня три, и все в Горластой утихомирилось, вошло в обычную колею, будто и не было нигде ни войны, ни революции. И о Фомке больше никто не спрашивал – стали привыкать, что нет его в Горластой. Только Фиса не могла привыкнуть к тому, что нет перед глазами сына. Молчаливой стала, невеселой. По утрам и по вечерам, закутавшись в шубу, выходила на взгорок, подолгу стояла, печально глядела на речку, на овраг, словно ждала, что вот-вот выйдет из леса Фомка.
Тимоха успокаивал Фису:
– Не тужи шибко-то, вернется, никуда не денется...
Так и жила Горластая тихой таежной жизнью, отгородившись от мира лесными завалами, оврагами да трясинами.
Совсем по-другому жила Пикановая. Сюда частенько приходили вести и слухи о войне. Шли разговоры, что бои идут уже где-то близко от Богатейского. Вот только о Прове и о Фомке никто ничего не знал. Одно знали – эти двое воюют за большевиков. А где воюют, как воюют, живы ли, когда вернутся – этого никто не знал.
Про Зарымова доходили слухи. Говорили, что, как поставили большевики новую власть в селе, забрал купец золотишко, забрал шкуры, которые подороже, все остальное бросил да и сбежал куда-то.
У купца, конечно, свои заботы, а у мужиков – свои. Сбежал так сбежал. Это его дело, а тут в деревне у каждого своих дел по горло. Один Авдей тревожился за купца. А как узнал, что все дома зарымовские, все магазины с товаром забрала Советская власть, так и совсем загрустил. А тут еще прошли слухи, что не одних купцов – кулаков тоже не жалует Советская власть: лишний хлеб отбирают, посылают в города рабочим, раздают бедноте, кормят кулацким хлебом бойцов Красной Армии.
«Это как же выходит? – думал Авдей.– Я, выходит, старался, копил, а тут придут, отберут и за так отдадут голодранцам? Никому ни зернышка не отдам! Пусть сгниет, пусть сгорит – и то лучше. Семена мои, лошади мои, земля моя, каждый шаг моим пóтом полит, а жрать чужой будет? Нет, не отдам!..»
Так оно все и было – пота немало пролил Авдей, прежде чем накопил свое богатство. В одном только грешил он: про свой пот помнил, а про чужой забывал.
С весны и до поздней осени Авдей вечно был на ногах, вставал до петухов, ложился за полночь – все старался, бегал, суетился, прибыль выбивал из хозяйства. Хозяйство ему отец неплохое оставил: восемь десятин пашни, мерина, кобылу и двух коров. Столько скота и земли не то что в Пикановой, но и в соседних деревнях ни у кого не было. Но Авдею все мало казалось, и он, помня завет отца, всяко старался умножить свое богатство.
Отец, умирая, наказывал сыну: «Держи крепко, вожжи не распускай, копейку береги, а землю – пуще того... Земля нам и хлеб дает, и богатство, и почет...»
Двадцать лет было Авдею, когда отец помирал. А как помер, Авдей взял вожжи крепко и еще двадцать лет копил да наживал. Теперь уже три лошади стало у него и три коровы. И земли вдвое стало. Вся деревня была у него в долгу, а за долги мужики и лес под пашню сводили для Авдея, и пахали, и сеяли, и хлеб убирали. Батрацкий пот превращался в хлеб, хлеб – в деньги, и вся деревня знала: если в чем нужда – беги к Авдею. Он даст, не откажет, ни хлеба, ни денег назад не спросит, а горб на него поломать – это уж придется. А как же без этого? Долг платежом красен...
Так завелось, так и шло из года в год. А тут нá-ка: новая власть и порядки новые...
Долго ломал голову Авдей, все думал, как уберечь добро. Сено, то, что в лесу косили и сушили для него мужики, бывало, все свозил к дому. А в тот год все оставил в лесу. Свои не скажут, а чужие и не найдут.
С хлебом побольше хлопот вышло: половину зерна из амбара своими руками по ночам перетаскал Авдей под овин, сложил в яме, сверху досками прикрыл и землей засыпал. Корову и лошадь увел к родне, в соседнюю деревню. А что с остальным хлебом делать, долго не мог придумать.
Однажды снял большой замок с амбара, взял лопату и стал ворошить зерно в сусеках, чтобы не сгорело. Ворошил и радовался: не хлеб, а золото. Да, неужто отберут это золото да отдадут кому-то?
Встал над сусеком, горстью черпнул зерно, процедил через пальцы, опять зачерпнул и опять процедил. И тут сами собой разбежались мысли, пошли по дворам, по соседям. Тому мешок дал, тому два... Ну да эти-то хорошие люди – отработают. А за Проньку кто отработает? Ушел к большевикам Пронька-то... Знал бы, горсти бы не дал, да теперь уж не воротишь...
«Стой,– подумал вдруг Авдей,– воротить-то не воротишь, а схоронить-то ты же мне, варнак, и поможешь! Снесу к Матрене хлеб да у нее спрячу...»
Авдей сел на край сусека и повеселел, ухмыльнулся даже в редкую бороденку.
«Как же раньше-то я не додумался? – подумал он.– Большевики придут – у своего искать не станут. А наши придут, белые, так тоже к Матрене не пойдут. Вся деревня знает: у них в сусеках одни мыши, да и те голодные...»
К полудню Авдей зашел к Матрене, поставил на западню небольшую котомку, перекрестился на иконы.
«Зачем это он к нам-то? – с опаской подумала Матрена.– Бывало, не хаживал, а тут пришел, да еще с котомкой...»
– День добрый, Герасимовна! – приветливо проговорил Авдей, чуть поклонившись хозяйке.– Как поживаешь, соседушка?
– Какая моя жизнь без мужика-то,– отозвалась Матрена,– тянемся еле-еле...
– Вот я и зашел проведать.– Авдей присел на лавку.– Думаю, может, помощь какая нужна. Соседи ведь. Понимаю, трудно без мужика-то.
«Что ему от нас нужно? – снова с тревогой подумала Матрена.– Как лиса ласкается...»
Глаша оделась, схватила ведра и выбежала на улицу.
– О Прове есть какие вести? – все так же ласково спросил Авдей.
– Как в воду канул. Может, и в живых его нет...
– Все может быть,– грустно согласился Авдей.– Да ведь времена-то какие! Все вверх дном переворачивается. Отцы, деды жили, царя почитали, богу молились. А теперь без царя, без бога. Советскую власть им подавай! А какая она, власть-то, будет? Говорят, отберут всё: и скот, и хлеб, а тогда и живи как хочешь...
Тут Глаша зашла в избу, вылила воду в кадушку. Авдей умолк.
– Мам, я пойду дров наколю,– сказала Глаша и вышла.
– Вон и дровишки самим колоть приходится,– с сочувствием сказал Авдей.– Не бабье это дело, а надо. А я что зашел-то – хлеба тебе принес с полпудика. Знаю, не хватит вам до весны, сам видел, сколько сеяли, а у меня душа болит. Соседи все-таки...
Матрена молчала, утирая глаза передником.
– А ты шибко-то не горюй, Герасимовна. Бог даст, вернется твой Пров. Сказывают, войне-то скоро конец. Побеждают большевики-то.
– За хлеб спасибо, Авдей Гаврилович,– сказала Матрена, надеясь поскорее выпроводить непрошеного гостя.– Живы будем, так летом с Глашкой отработаем.
– Чего там! Я ведь так, по-соседски...– возразил Авдей.– Да вот еще, Герасимовна, дело у меня к тебе есть. Да ты садись, послушай. В ногах-то правды нет. Садись.
– Какое же дело-то?– встревожилась Матрена.
– Да как тебе и сказать-то, не знаю...– шепотом заговорил Авдей.– Садись, говорю, поближе, поговорим.
Матрена вытерла платком глаза, с опаской села рядом с Авдеем.
– А дело-то вот какое, Герасимовна,– продолжал Авдей, придвигаясь поближе к Матрене.– Бои-то, говорят, к нам подходят. Я вот был в Богатейском, там слыхал. Раньше-то белые всё побеждали, а теперь, говорят, красные их гонят. Вот они, белые-то, в леса бегут, спасения ищут. А ну как к нам нагрянут? Все тогда отберут, ничего не оставят. Дело военное. Гол как сокол останешься. А нажитое терять не хочется. Вот я и думаю: не поможешь ли мне, Герасимовна?
– Да чем я тебе помогу, Авдей Гаврилович? – с испугом сказала Матрена.
– Да ты не пугайся, Герасимовна,– ласковым шепотом успокоил Авдей.– Худого тебе не сделаю, ничего такого мне не надо. Хлеб к тебе в овин занесу – только и всего. Придут солдаты, у меня сразу искать станут, а к тебе кто же пойдет? А я плахи положу в овин, сверху хлеб в мешках, а еще сверху соломой накрою. Все сам сделаю, а ты будто и не знаешь ничего.
У Матрены задрожал подбородок. Хотелось ей вытолкать Авдея из дома и вслед швырнуть котомку с зерном, да ведь кто знает, что впереди-то будет?
А Авдей продолжал свое:
– У тебя-то, Герасимовна, кто будет искать? Изба худая, чем только держится. Откуда тут искать? А красные придут, своего не обидят. А я к весне тебе еще пудишко хлеба дам и все долги, какие есть за вами, все прощу...
«Не зря, видно, Пров-то сражается,– подумала Матрена.– Еще где они, а у Авдея поджилки дрожат. Извивается, гадюка. Подожди, то ли будет...» – подумала она. А сказала так:
– Сам знаешь, Авдей Гаврилович. Как хочешь, не мне тебя учить. Твое добро, ты и распоряжайся...
– Знал, соседка, что выручишь. Потому и пришел к тебе,– с благодарностью сказал Авдей.– Ну спасибо, добрая душа! Дай бог тебе здоровья и радости...
Когда Авдей вышел, Глаша тут же вбежала в избу, спросила нетерпеливо:
– Чего он к нам-то, мама? Что ему надо?
Матрена горько расплакалась, головой уткнувшись в грудь дочери.
– Доченька, родная,– причитала она, захлебываясь слезами,– как дальше жить-то станем без тяти? Авдей-то говорил – бои к нам подходят. Сохрани бог и помилуй...
Потом, успокоившись немного, она рассказала, зачем приходил Авдей.
– Ну, а ты чего, мама? – спросила Глаша.
– Ну, а что? Сказала, пусть прячет. Перечить-то станешь, так не сделал бы чего. Мы теперь как сироты, всякий нас обидеть может.
– Вот вернется тятя, тогда, мама, никто нас больше не обидит. Скоро вернется. Подожди тогда! – погрозила она в сторону Авдеевой хаты.– А тятя вернется, скоро вернется, мама!
– Дай-то бы бог, доченька, дай бог...
В тот же день, как стемнело, Авдей привез на лошади плахи, аккуратно сложил их рядом с овином. Потом привез зерно в мешках, сверху и с боков обложил такими же плахами, а на плахи навалил кучу соломы. Все это сделал он один, тайком, темной ночью. А днем, проходя нарочно мимо избы Груничей, глянул с удовлетворением на свою работу и подумал:
«Матрена никому не скажет, баба она пугливая. А так никто и не догадается. Вон как все ладно; лежит воз соломы у Грунича. Дак мало ли на что солома? Кому какое дело!»
– Все сделал, Герасимовна, по-доброму. Никто не увидит. Только мы втроем и знаем: ты, я да Глашка. Ну да она девка толковая, послушная. Ты ей скажи, чтобы молчала. Так, глядишь, и сохранит бог,– сказал Авдей, зайдя снова к Матрене.– Спасибо, соседка. Я пойду теперь...
Матрена ничего не сказала. Промолчала и Глаша, стоявшая у окна.
Глава седьмая
ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
Незаметно промчался год над Горластой, а когда подошла осень, Тимоха снова надумал съездить в Богатейское. Хотелось посмотреть, какая жизнь пошла теперь в селе и в Пикановой, послушать, какие разговоры ходят о войне и о революции. Была надежда хоть что-нибудь узнать и про Фому.
Как только выпал первый снег, Тимоха собрался в дорогу. Взял сколько было пушнины, и своей и соседской, уложил в сани и вместе с Кузьмой Ермашевым тронулся в путь.
Фиса с Анкой вышли проводить мужиков до берега Горластой. Здесь Фиса обняла Тимоху, щекой прижалась к его бороде, перекрестила и сказала со слезами:
– С богом, Тимоша, береги себя...
Тимоха погладил Фисины плечи, молча сел в сани, дернул вожжи. Бабы долго еще стояли на берегу и печально смотрели вслед уходящим саням.
Первую ночь мужики опять ночевали в лесу. На второй день, к вечеру, приехали в Пикановую и подвернули прямо к крыльцу Прова Грунича. Матрена услышала, выскочила на крыльцо – думала, Пров вернулся. И хоть горько было так ошибиться, все равно от души обрадовалась, узнав Тимоху.
Мужики устали с дороги, намерзлись. Им бы спать, но все равно до поздней ночи не смолкали в избе разговоры.
Матрена и Глаша все, что знали, выложили мужикам: и то, что красные побеждают, и то, что Зарымов сбежал, и то, что войне скоро конец. А вот о Прове и Фомке ничего не сказали – сами не знали ничего.
Утром Матрена накормила мужиков на дорогу, напоила квасом, надела старую шубу и вышла на крыльцо проводить. Глаша сводила Бойкого к ручью, напоила коня и стала помогать Тимохе запрягать. А когда запрягли, сказала вполголоса:








