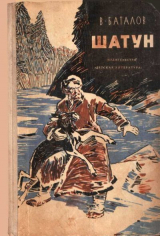
Текст книги "Шатун"
Автор книги: Валериан Баталов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
«Нет у меня иконы,– решил он наконец,– вот нечисть и одолевает. Пойду-ка в лес нынче, поищу божье дерево, вырублю чурку и сделаю икону. Вот тут в углу божницу сколочу, все ладно и станет».
...Утро выдалось морозное. Но когда солнце поднялось над лесом, чуть потеплело. Тимоха деревянной лопатой очистил крылечко от снега, подмел березовым веником. Подвязал лямпы, посмотрел на чистое, безоблачное небо и повеселел :
– Ты глянь-ка, Серко, как солнышко светит и пригревает. Ровно по-весеннему. В эту-то пору, мама сказывала, солнце на лето поворачивает, а зима – на мороз. Каждый день теперь прибывать будут дни. Маленечко, на воробьиный шаг, а все прибудет. А уж морозы пойдут теперь самые лютые. Ну, да нам-то морозы теперь нипочем!
В лесу было тихо. Казалось, что все живое затаилось, скованное холодом. Только дятел где-то на сушняке робко и редко, не так, как летом, стучал своим клювом. Шарканье лямп по снегу далеко разносилось по лесу. Остановится Тимоха на минуту, чтобы оглядеться, и даже дыхание свое слышит, и как сердце бьется, тоже слышит. Тишина. Только ветерок чуть шумит хвоей, бродит не спеша по верхушкам деревьев. Пробежит, качнет ветви, пухлые снежные комья на них сверкнут тысячами огней. Иной не удержится, сорвется, покатится вниз по веткам, зацепит другие, и дерево вмиг одевается густым облаком белой сверкающей пыли.
В тайге зимой все подвластно холоду. И люди, и деревья, и зверь, и птица – все прячутся, кто как умеет. Белка и заяц – те новые шубы надевают каждую зиму. Куропатки и рябчики в снег зарываются от мороза, медведь – в берлогу, мышь – в нору.
Один только ручей в овраге будто и не чует холода. Кругом сугробы, мороз трещит, речка и та замерзла, а ручеек не стынет и под лед не прячется. Бормочет себе, будто за лето не наговорился с кем-то. Голый, черный, как летом. Над водой клубится жидкий парок, будто не вода течет, а кипяток. И петляет, петляет, как заячий след. Летом и не увидишь его – прячется в траве да в кустарниках, а сейчас весь на виду как на ладони.
Рядом с ручьем большие следы, точно стадо коров прошло на водопой. Лоси тут шли. И не раз, видно. След и свежий, и старый – вперемешку.
– И чего они всё по оврагу бродят? – вслух раздумывал Тимоха.– Если воду пить, так тут бы и пили, а то идут куда-то, точно гонит их кто. А дай-ка и мы, Серко, по следу пройдем, посмотрим, что их там манит.
...Чем ближе к истоку, тем круче становились склоны оврага. Снег на них не держался, срывался вниз. Они, как темные стены, сходились всё уже и уже. Вот и ручей кончился, и овраг кончился. Из-под крутого берега, из-под лохматых корней бежал тоненький родничок. А след лосиный шел дальше. Вот он свернул в сторону. Тут лоси, скользя и срываясь, лезли на крутой голый берег. И тут столько было следов, что сразу стало понятно, что не раз топтались здесь лоси на одном месте. Разглядывая следы, Тимоха вдруг понял, что влекло сюда лосиное стадо. Земля тут была не черная и не бурая, а светло-серая, каменистая, как лед, и повсюду на этой земле частыми бороздками, точно резцом прорезанные, виднелись следы лосиных зубов. Вот оно что!
И, видно, сладкой была тут земля. Вон как старались лоси: и на колени становились, и срывались, и снова лезли по круче...
Полез и Тимоха по следу. Ухватился рукой за торчащие из земли плети корней, тоже, как лось, встал на колени, дотянулся, прильнул лицом к холодной шершавой земле, погрыз зубами, почмокал губами. И тут расплылось в улыбке Тимохино лицо, повеселели глаза...
– Соль! – крикнул он.– Соль, Серко, иди-ка сюда! Соль мы с тобой нашли. Клад нашли! Вот так.
Серко прибежал на зов. И он тоже грыз и лизал соленую землю. Видно, тоже по соленому соскучился. А Тимоха уже топором вырубил кусок соленой земли, отряхнул, огладил руками и сунул за пазуху.
– Это с собой возьмем, есть будем. А не хватит, еще придем. Теперь мы, Серко, дорогу знаем. Тут всем хватит, не бойся. А с солью и рыбка лучше пойдет, и мясо вкуснее будет. А теперь еще божье дерево поищем. Пойдем, Серко.
Они вылезли из оврага, пошли дальше в лес. Тимоха облюбовал толстую, низкорослую сосну с кроной, похожей на стариковский колпак, постучал обухом по стволу, прислушался.
– Ишь какая, как камень. Знать, и есть самая божья,– сказал он, поплевал на руки, перекрестился и принялся рубить.
Когда сосна упала, он отрубил короткую, не больше аршина, чурку, вытесал клин, расколол чурку пополам, взвалил половину на плечо и зашагал к дому.
В тот вечер домой он пришел довольный, как с удачной охоты: за пазухой лежал драгоценный кусок солончака, а на плече божье дерево для иконы. Но когда уже считанные шаги остались до крыльца, Тимоха вздрогнул от неожиданности. Где-то над головой он услышал глухой громкий крик:
«Гу-ху-ху-хуу!»
«Филин где-то»,– догадался Тимоха и передразнил:
– Гу-ху-ху-хуу!
Глухой крик повторился, как эхо: филин ответил Тимохе. Птица сидела на крыше избушки и во все глаза смотрела на Тимоху и на Серко.
– Вон гость какой к нам пожаловал,—сказал Тимоха.– Ты не тронь его, Серко, не пугай. Пусть мышей ловит. Ты смотри какой пучеглазый! А когти-то как у медведя. Недаром он зайцев одолевает... А ты с ним дружи. А то и тебе в морду вцепится, рад не будешь.
Но Серко, похоже, и не собирался ссориться с филином. Он с любопытством смотрел на странную птицу, дружелюбно помахивая хвостом. И филин не собирался ссориться. Он сидел на крыше, спокойно поводя большой круглой головой, украшенной огромными оранжевыми глазами и черными хохолками ушей.
– Вот он, леший-то наш,– догадался Тимоха.– Это он нас, Серко, по ночам пугал. Теперь знать будем. А икону все равно сделаем. Без бога никто не живет...
Дома он отколол от чурки толстую доску, с двух сторон гладко обтесал ее топором, поднял с пола потухший уголек, начертил на доске женское лицо и принялся ножом отделывать икону.
– Пусть на маму мою будет похожа. Добрая она, как богородица. Вот и буду им двоим молиться...
К вечеру Тимоха вскипятил в котелке воду, бросил туда раздробленный кусок солончака. Когда вода выкипела, на дне и на краях котелка толстым слоем запекся белый налет. Тимоха соскреб жесткий порошок, бросил щепотку в рот, пососал, как конфетку, и проговорил обрадованно:
– Соль, Серко. Настоящая соль! Давай-ка сейчас ужин себе сварим... с солью.
Он высыпал соль из котелка на конец нар, достал с чердака кусок медвежьего мяса, мелко изрубил его топором, бросил в котелок, поставил на огонь и тут же посолил варево.
Пока на огне бормотал котелок, Тимоха доделал икону. Потом в правом углу избушки приделал маленькую полочку – божницу, поставил на нее икону.
Глава девятая
РАЗБУШЕВАЛАСЬ ГОРЛАСТАЯ, РАЗБУШЕВАЛАСЬ...
И в северной тайге тоже бывает весна. Только сюда приходит она позже, чем на юг. По тайге-то не скоро пройдешь!
После трескучих крещенских морозов наступили метели, снегопады, оттепели. Бывало, закрутит, завертит вьюга, да так, что и леса не видно. Будто ведьмы с чертями на свадьбе гуляют. Снегу навалило навалом. Кругом белым-бело. Снег засыпал валежины, запорошил каждый сучок, каждый кустик. Избушку Тимохину чуть не сровняло с землей. И Горластую с берегами сровняло. Замолчала Горластая, притаилась под снегом, копила силы к весне, чтобы разом вырваться из-подо льда и дальше бежать по своим делам.
И вот как-то небо прояснилось, по-весеннему тепло засветило солнце. Умчался куда-то, утих ветер. С ветвей елей и сосен упали влажные комья снега и увязли в пышной белой перине, оставив в ней глубокие лунки. Деревья стряхнули зимнюю одежду, скинули студеную тяжесть, распрямились, позеленели. Только березы да осины все еще сиротливо стояли голые и черные.
А солнце с каждым днем все выше поднималось над лесом, с каждым днем длиннее становился его путь. С южной стороны крыши прозрачными морковками до самой земли повисли сосульки. И хоть много снегу нанесло зимой на поляну возле избы, а все равно южный склон первым вылез из-под снега. Сперва черным лоскутом проступила небольшая проталина. На другой день она стала пошире, а там и весь склон обнажился и вылезла из-под снега прошлогодняя, поблекшая трава.
Тимоха по утрам выходил на крыльцо, подолгу смотрел на поляну, на речку, на зеленую даль леса. Он радовался теплу и солнцу и, вернувшись в избу, истово крестился на самодельную икону:
– Помог господь дожить до весны. Слава те господи! Летом все полегче станет...
Потом он садился на нары, точил на бруске нож и топор, глядел в ледяное окошечко и грустно думал о Налимашоре.
Горластая зашевелилась. Выспалась, видно. Лед на ней посинел, вдоль берегов легли трещины. Потемнела река. Кое-где появились наледи. Потом стал набухать, подниматься лед, и однажды рано утром Тимоха услышал непонятный гул, будто на всю тайгу налетела страшная буря.
Тимоха перекрестился на икону, вышел на крыльцо. Было тепло и безветренно. На краю крыши спокойно сидел филин, лениво покачивая круглой головой, словно поздравлял хозяина с добрым утром. А тайга гудела.
– Горластая разбушевалась,– догадался Тимоха.– Пойдем-ка, Серко, поглядим поближе, что там творится. А дверь закрывать не станем. Тепло теперь, а у нас там сыро да душно.
Река будто ошалела. Выхлестнулась из берегов, разгулялась, разлилась по низинам, затопила лес. Синий лед сгорбился, затрещал, сорвался с места и пошел крушить все на своем пути. В узком русле льдины сталкивались друг с другом, вставали дыбом, лезли на берега. Они разбивались, крошились, ныряли друг под друга. Чем выше поднималась вода, тем шире расходились льды. Как чудо-богатыри, толстые льдины выползали из русла, прозрачными лбами с разгона бодали деревья, стоявшие на пути. И если не хватало у дерева силы устоять от такого удара, оно падало и, крутясь, уплывало, подхваченное быстрым течением, вместе со льдами, вместе с валежинами, поднятыми водой, вместе с клочьями прошлогодних трав и с подмытыми кустами.
Тимоха стоял на берегу, наблюдая первый ледоход на своей реке.
«И сильна же ты, однако, Горластая,– подумал он,– знать, потому и живешь в тайге. Тайга слабых не любит».
В это время залаял Серко. Тимоха глянул. Большая лосиха вышла к берегу и остановилась, оглядываясь. За ней выскочил из леса лосенок, растопырив длинные тонкие ножки. Серко уже мчался к ним.
Лосиха, высоко задрав голову, постояла с минуту как вкопанная и рысцой, не спеша побежала вдоль берега. Испуганный лосенок ни на шаг не отставал от матери.
Скоро Серко загнал лосей в узкий хобот. Им уже некуда было податься. Лосиха остановилась, гордо подняв голову, словно и не замечала собаки, и вдруг стремительно кинулась в воду. Радужными фонтанами, сверкая на солнце, во все стороны разлетелись крупные брызги, на секунду скрыв лосиху. Но вот она снова показалась. Выставив из воды горбоносую голову с раздутыми ноздрями, она плыла, выбирая дорогу между крутящимися льдинами. Лосенок, оставшись один на берегу, заметался из стороны в сторону и вдруг длинным прыжком перемахнул на большую льдину, проплывавшую у самого берега. Скользя копытами, он прыгнул на другую льдину, промахнулся и упал в воду.
«Утонет малыш, погибнет,– подумал Тимоха,– не выберется...»
Он бросился к воде, так же, как лосенок, прыгнул на ближнюю льдину. От тяжести она закачалась на воде. Тимоха перебежал ее, перескочил на другую, на третью. Опустившись на колени, подполз к самому краю. Льдина накренилась, одной стороной погрузившись в воду. Колени и руки у Тимохи, словно кипятком, обдало студеной водой. Но он не отступил, дотянулся до лосенка, схватил его за длинные уши, легко, как зайчонка, вытащил из воды и поволок на середину льдины. Их понесло течением, все дальше и дальше унося от берега. Это было опасное плавание: вот-вот, казалось, налетит льдина на другую, а тогда или расколется пополам, или дыбом встанет и стряхнет непрошеных седоков, или сама нырнет под ледяной пласт. Но на повороте реки течением поднесло льдину к самому берегу. Две сажени осталось до земли... одна...
– Господи благослови...– прошептал Тимоха, перекрестился, подхватил лосенка, прижал его к себе и одним прыжком оказался на берегу.
Лосенок покорно лежал на земле. Стоя на коленях, Тимоха ласково гладил мокрую спину зверенка. У лосенка судорожно вздрагивали поцарапанные льдинами тонкие ножки, тяжело ходили бока, он фыркал и тревожно смотрел на своего спасителя. А льдина давно уже отошла от берега и закружилась в хороводе ледохода.

...Тимоха подхватил лосенка, прижал его к себе...
Серко вертелся вокруг лосенка, не переставая лаял на всю тайгу и, казалось, готов был вырвать добычу из рук хозяина. А лосиха, благополучно переплыв речку, долго стояла на противоположном берегу, не уходила и не решалась плыть обратно. И только когда Тимоха поднял лосенка и понес на берег, она наконец медленно скрылась за кустами.
И тут Серко изловчился, бросился на лосенка и со злостью схватил его за шею.
– Не тронь, Серко! – крикнул Тимоха и резким взмахом руки отбросил собаку в сторону.
Серко проворно вскочил и снова бросился на лосенка. И тогда Тимоха впервые ударил собаку.
Серко жалобно завизжал, не столько от боли, сколько от обиды. Тимохе жалко стало и Серко и лосенка, и он, словно оправдываясь, сказал ласково:
– Сказано тебе – не тронь. А ты, как на медведя, на него. Дитё же беззащитное. Из беды я его выручил, а ты в клыки...
Он на руках донес лосенка до избушки, положил на землю возле стены. Лыком спутал ноги, чтобы не убежал лосенок, и сказал:
– Полежи здесь пока. А я для тебя сарайчик построю. Не обижу, не пугайся. Кормить тебя стану лучше, чем мать кормила. Поживешь, подрастешь, а тогда и пойдешь куда хочешь. Неволить не стану, а тайга-матушка – она широкая, всех принимает. Вот так.
Он поднял голову, из-под руки посмотрел на небо. Солнце слепило глаза, грело, как в троицу. Тимоха зашел в избу взять топор и неожиданно увидел филина. Он сидел на краю столика.
Увидев хозяина, птица шевельнула крыльями – видно, думала вылететь из избушки, но Тимоха загородил дверь, и филин, раздумав, остался сидеть на месте, тревожно озираясь большими глазами.
– Нá вот тебе, еще один жилец у нас! – удивился Тимоха.– То на чердаке ютился да на крыше, а теперь вот и в избу пожаловал. Ну сиди, сиди, лохмач! Не бойся. Мышей лови. Не трону...
Он осторожно протянул руку, вытащил топор из щели. Стараясь не спугнуть филина, вышел и затворил дверь. Топором сделал зарубину на бревне, вровень с окошком. И от той зарубины повел счет дням и годам.
А Горластая все еще бушевала, все еще гудела на всю тайгу.
Глава десятая
ВОСПОМИНАНИЯ
Отбушевалась Горластая. Скинула зимний покров, остепенилась, вошла в берега. Посветлела, стала такой, какой впервые увидел ее Тимоха прошлой осенью. Разве что позеленее стала речка. Тогда осенью пожелтевшая трава лежала по берегам, а теперь повсюду тянулась к солнцу свежая, молодая травка.
И поляна позеленела, и лес. Куда ни посмотришь, всюду зелено, и кажется, будто на эту пору у природы не нашлось других красок, кроме зеленой.
Лосенок быстро подрастал. Окреп, набрался сил. И теперь трудно было представить его таким, каким Тимоха снимал его со льдины. К Тимохе привык он сразу; привык и к месту – от избушки на шаг не отходил один. А с Серко подружились они не сразу. Сперва лосенок боязливо косился на пса, жался к Тимохе, завидя врага. И Серко недовольно ворчал, ревнуя Тимоху к новому другу. А потом ничего – помирились. Иной раз даже играли вместе: Серго, приседая на передние лапы, беззлобно лаял на лосенка, а тот, опустив безрогую голову, мягко бодал нового друга.
Утром Тимоха заложил топор за пояс, вынес из избушки кусок солончака, протянул на ладони лосенку:
– Погрызи, Тюха, вместо сахара.
Лосенок пошевелил раздутыми ноздрями, понюхал кусок, взял длинными мягкими губами, и ком соли захрустел у него на зубах. Потом потерся головой о спину хозяина и уставился на него большими карими глазами.
– Еще хочешь? – Тимоха ласково похлопал лосенка по шее.– Хватит, Тюха. Сладкого – помаленьку, горького – не до слез. Так мама моя говорила.
Тюхой назвал Тимоха лосенка за то, что он по пятам ходил за ним.
Как-то раз, еще в первые дни, как завелся у них лосенок, пошел Тимоха в лес. Идет, вдруг слышит позади треск. Продирается кто-то напрямик через кусты. Обернулся – лосенок его догоняет. Похлопал Тимоха лосенка по лопатке, улыбнулся.
– Что же ты, Тюха,– сказал тогда Тимоха,– один и в лес боишься идти? Ну пойдем, пойдем вместе, я тебе наши угодья покажу.
С тех пор и осталась за лосенком эта кличка.
В тот раз думал Тимоха попрощаться с Тюхой. Голосом гнал его от себя, толкал в зад руками: иди, мол, на все четыре стороны. Тайга большая, всех примет. Но Тюха терся головой о хозяина и никуда не пожелал отходить.
В половодье снесло Тимохин запор, унесло водой морды. Рыбу нечем стало ловить, а тут и мясо подобралось на чердаке. И подумал Тимоха однажды: «Рыбы нет, мясо подъели. Впору с голоду помирать. Заколю-ка я Тюху». Но в тот раз пожалел лосенка. «Ладно,– решил,– потерпим еще. Вот совсем подведет животы, тогда уж...»
Неделю прожили кое-как – варил медвежьи кости с крапивой, а потом и костей не стало. С одной крапивы не проживешь. Пришел час – подвело животы.
Утром злой и голодный Тимоха взял топор, наточил нож, вышел на крыльцо – поискать лосенка. А тот тут как тут. Не чует беды, бежит к крылечку, горбоносой мордой уткнулся в руки хозяину, шарит по ладони теплыми губами.
– Ну полно, Тюха, полно...– чуть не шепотом сказал Тимоха и погладил лосенка.– Потерпим еще мы с Серком. Не трону тебя, не бойся. Пойдем-ка в тайгу колья рубить. Запор нужно строить, рыбу ловить. Горластая вон утихомирилась, в берега вошла.
Так в тот день и легли они с Серком голодные.
А утром Тимоха сел на пенек возле избушки, задумался. Все чаще и чаще тревожила его мечта побывать в Налимашоре.
«Побывать да Фиску с собой привести. Все веселее жить станет. Да и полегче, поди. Семена принести из деревни. Лук да картошку здесь посадить. Хлеб посеять. Боязно только: увидит кто – пропадешь. Маму вот жалко. Рядом буду, а ее не увижу. А она, чай, все глаза проплакала обо мне...»
В этот раз, сидя на пеньке, Тимоха вспомнил и передумал всю свою недолгую одинокую жизнь.
И вроде не так уж и плохо все выходило. Главное – жив и здоров пока. Дом есть, собака есть, лодка есть.
Лодку он еще зимой сделал. А как же без лодки рыбаку! Выждал как-то погоду потеплее, подвязал лямпы и пошел выбирать осину. Выбрал толстую, гладкую и от дома недалеко. Повалил ее, вырубил кряж в семь аршин, с концов затесал топором. Потом топором же стал выбирать середину. Вышло вроде корыта, из каких скот поят. Тут же в лесу забил в землю четыре кола, перекладины сделал и на них кверху дном положил корыто. Потом костер развел из смолистых дров под самым корытом и долго палил его, пока не размякло дерево от жары. Пока мякло дерево, нарубил в лесу толстых вересковых палок, упругих, как пружины, загнал их между краями корыта так, чтобы стояли чуть согнувшись, чтобы распирали края. Опять грел на костре, а потом новые палки забил, подлиннее. В середине пошире расперло корыто, к концам поуже. И уже не на корыто, на лодку похож стал осиновый кряж. Волоком, словно сани, притащил Тимоха лодку домой, а дома в свободное время все лишнее дерево выбрал внутри и постесал снаружи. Борта у лодки стали тонкие, чуть потолще пальца, а дно – пальца в два. Чтобы водой не коробило лодку, нагнул из березы дужек и приделал внутри – привязал прочным лыком ко дну и к бортам. Хорошая лодка получилась – легкая, складная...
Да и сыты были всю зиму, слава богу. И соль нашли. Вот только дорогонько мясо-то медвежье обошлось. Недели две тогда после схватки с медведем хворал Тимоха. Кости ломило, похудел, обессилел. Ел плохо... Долго не заживала на щеке рана – гноилась. Вот тут бы маму-то – у нее на все травки были припасены, враз бы на ноги поставила...
Часто маму вспоминал Тимоха в те дни.
Серко тогда ни на шаг не отходил от хозяина. Лежал у него в ногах, иногда жалобно повизгивал, иногда лизал руки Тимохе. Понимал, что хозяину плохо.
Но и с хворью справился Тимоха. На третьей неделе полегче сделалось ему, и рана стала заживать. А еще дней через десять стал он совсем здоровый, будто и не хворал. Хворь прошла, а тоска не проходила.
От тоски да от скуки поговорит, бывало, с собакой да с филином, а сам все об отцовском доме думает, о матери, о Фиске...
Чтобы забыться, разогнать печаль, выходил Тимоха на поляну, рубил лес. Толстые, крепкие бревна оставлял впрок. Может, строиться еще пригодятся. Макушки да сучья рубил на дрова.
Работал упрямо, до пота, а для чего расчищал поляну, и сам не знал.
В то утро Тимоха долго сидел на пеньке, перебирая в памяти и далекие и близкие дни, потом встал, посмотрел на себя.
Штаны грязные, рваные,– как еще держатся. Внизу точно собаки обгрызли. Рукава тоже почти до локтей обтрепались. Только лапти новые – недавно сплел. Так зато онучи все в дырах.
Склонился над лужицей, глянул в нее, как в зеркало, и тут не слаще: волосы длинные, как у попа, борода нечесаная. Леший, да и только. А что дальше будет? До осени все до нитки износится. Что же тогда, голым ходить?
«Выбрал себе житье,– подумал Тимоха,– хуже каторги. Как медведь-шатун... Скоро и говорить-то разучусь, совсем одичаю. В солдаты-то, может, лучше бы? Тоже ведь люди и там. Ну да теперь дело прошлое. Теперь и в солдаты не возьмут. Теперь одна дорога – в цепи да в каторгу. С ворами да с душегубами».
Он повернулся к избушке, лег на теплую землю. Тюха, как жеребенок, не спеша бродил по поляне. Серко прибежал, рядом с хозяином растянулся на брюхе. Тимоха погладил его, потрепал за ушами.
– И ты, Серко, со мной вместе страдаешь. Ты-то за что? Ну да ведь и ты, как и я, сам выбрал...
Серко повилял хвостом, длинным языком лизнул руку Тимохе, потом лизнул в лицо.
И так горько стало Тимохе от этой ласки, что захотелось заплакать, как плакал когда-то, когда был совсем маленьким...
Тут вспомнилось детство. А потом опять полезли в память отцовский дом, и мама, и Фиска...
«Эх, кабы дома сейчас...– подумал Тимоха.– Иди к любому соседу, говори сколько хочешь, слушай, пей пиво, брагу... Ешь чего хочешь. В баньке можно помыться...»
Он вдруг встал решительно. Пошел к реке, вынул рыбу из морд, принес к дому и бросил на землю.
– Сиди здесь, Серко, дом карауль! – сказал он удивленной собаке.– Это тебе пропитание. А я в Налимашор пойду. Не могу больше один шатуном жить. Хозяйку новую тебе приведу, Серко. Все вместе жить станем. Зерна с собой прихватим, хлеб посеем. Вот так. А вы тут с Тюхой меня дожидайтесь, не ссорьтесь да не ругайтесь. А долго бродить не стану. Я скоро вернусь...

Часть вторая

Глава первая
БЛИЗОК ЛОКОТЬ, ДА НЕ УКУСИШЬ
На рассвете, когда на темно-голубом небе стали видны верхушки деревьев, тихо скрипнула дверь избушки. Тем самым пояском, на котором когда-то нес мешок, Тимоха привязал Серка к колышку, вбитому в землю, Тюху закрыл в загоне, палкой подпер дверь избушки и пошел прямиком через тайгу на закат. Он шел налегке. Только верный топор, да нож взял с собой, да еще вареной икры, да кусок сухого медвежьего мяса. Это мясо на самый-самый крайний случай хранилось у него на чердаке, и вот теперь пришел, видно, этот случай.
На третий день рано утром Тимоха добрел до знакомых мест. После полудня из-за веток и кустов показались крыши домов. Спрятавшись в густую смородину, он долго смотрел на родную деревню, узнавал каждую крышу, каждый забор, каждое окно.
Без него тут ничего не изменилось. Как было, так и есть. Ни одной новой избы. Зато старые все на месте – и то хорошо.
Вон на самом высоком месте стоит отцовская изба. Похоже, она всех больше в деревне. Ворота огородные, что они с отцом ставили, тоже на месте. И еще двадцать лет простоят. Батя уж если что делает, так на годы... А мама, наверно, хлопочет сейчас по дому. Беспокойная она, заботливая. За день-то и не присядет другой раз. Все бегает, копошится, никогда без работы не бывает. И сейчас небось тесто замесила, хлебы печь будет. Вкусный хлеб у нее получается... Вот бы сейчас домой! И хлеба попробовать, и маму повидать. Тут и ходу всего ничего. Но нет, близок локоть, да не укусишь...
«Тятя, наверно, такой же, как и был. Теперь-то, может, и жалеет меня, как вспомнит, а тогда не пожалел... Максимка, может, женился... Да нет, рано ему, молод...
Фиска? Вот к ней можно. К ней и пришел. Что она теперь делает? Кудель прядет или еще чего? И не знает, что я тут, рядом с ней, за ней пришел... А может, и забыла наш уговор, передумала. Скажет: «Где родилась, там и помирать буду». Нет, знаю, так не скажет...
У Кондрата совсем почернела изба и вроде покосилась. Прыткий он, а хозяйство свое поправить силенок не хватает. И ума маловато у мужика, а гляди-ка, всю почти жизнь царю-батюшке служит.
И у Еремея крыша покосилась, сгорбилась. Вся в хозяина. Обновить-то некому крышу. Хозяин сам, поди, век доживает. Ну да и то говорят: скрипучее дерево дольше держится. А Овдя, та, поди, все молодеет. Ее здоровьем бог не обидел. Ей-то что...»
По деревне ходили люди. Но отсюда, из кустов, не видно было, кто. Далеко. Не узнаешь.
Тимоха вылез из кустов, разулся, вброд перешел речку и спрятался в кустах возле дощатого мосточка, с которого бабы полоскали белье. Отсюда хорошо была видна Фискина изба. Бедная изба. Крыльцо низкое, сараюшки маленького и того нет. А может, и Фисы нет? Мало ли что могло случиться! Может, замуж вышла, не дождалась...
Тимоха глаз не сводил с избы. Ждал. И дождался наконец. Открылась дверь. Кто-то вышел из избы, постоял на крыльце, пошел в огород. Лица Тимоха не видел, но по походке узнал: она, Фиска!
Она сняла с жерди белье, собрала в охапку, понесла в избу. И в это время услышала глухой знакомый крик: «Гу-ху-ху-хуу!»
Встрепенулась испуганно. Огляделась кругом. Прислушалась. С речки снова донесся тот же негромкий, знакомый крик.
– Неужто ты, Тимоша? – шепотом сказала Фиса.– Сохранил тебя господь, ко мне привел. Слава те господи...
Она помедлила немного, потом торопливо бросилась в избу, собрала с лавки первые попавшиеся тряпки. По узкой тропинке бегом побежала к речке, поднялась на мостки, бросила тряпки. Посмотрела кругом... Никого. Ни звука. Только чуть слышно ниже, в броду, бурлит вода, о чем-то шепчется с камушками.
«А может, почудилось?» – подумала Фиса, взяла одну тряпку и принялась полоскать. И только нагнулась над водой – оттуда, из воды, глянуло на нее бородатое лицо с длинными лохматыми волосами. Чужое, страшное лицо, а глаза знакомые, добрые, голубые. И лоб знакомый, Тимохин лоб. А шрам на щеке – незнакомый. Не было у Тимохи шрама...
Фиса замерла от испуга. Но тут лицо в воде расплылось в улыбке и совсем рядом, где-то возле уха, послышался тихий, знакомый голос:
– Это я, Фиса, не пугайся. К тебе пришел... За тобой...
Фиса, страшась чего-то, подняла голову. Выпрямилась, обернулась. И тогда не в воде, а в кустах ивняка увидела то же лицо.
– Это я, Фиса... Я, Тимоха,– спокойно повторил тот же голос.– Не узнаешь?
– Узнала, Тимоша, как не узнать,– дрожащим голосом проговорила Фиса, во все глаза уставившись на Тимоху.– Узнала...
– К тебе пришел, Фиса. К тебе-то можно вечером? Ты одна?
– Одна, одна, заходи. Ждать стану.
– Баньку пожарче натопи. Попариться надо,– торопливо сказал Тимоха.– Я прямо в баню приду. А теперь уходить мне надо. Нельзя мне тут, увидят...
Шурша кустами, он ушел куда-то по берегу. Фиса схватила тряпки и побежала домой.
Вечерело. Вверху в небе было еще светло как днем. Вечернее солнце, спрятавшись за лесом, все еще освещало высокие перистые облачка. Они как огненные перышки плыли где-то в вышине. А внизу, в густом ельнике, уже царила темная ночь.
Тимоха до темноты терпеливо сидел в лесу. И только когда сумерки из леса сплошной черной тенью подползли к деревне и вычернили крыши и стены домов, оглядываясь и прислушиваясь, Тимоха выбрался на опушку.
В темноте тускло светились налимашорские окна. Много ли от лучины света, но и его хватало Тимохе, чтобы знать, где чей дом. Без труда нашел он и окна родной избы и долго смотрел на них, представляя мать, брата и отца, сидящих за ужином. Смотрел он и на огонек Фисиного домика и, хоть и пусто было на улице в этот поздний час, не решался подойти к заветному окну.
Налимашорцы рано ложились спать и свет гасили рано. Тимоха выждал, пока один за другим погасли окна в домах. Потерялось в ночи и Фисино окошко. Видно, и она потушила лучину.
Не раз сердце подсказывало Тимохе: «Пора!» Но рассудок каждый раз удерживал: «Рано. Может, кто-нибудь как раз сейчас перед сном к ней заглянет. А тогда всю деревню поднимут на ноги. И тут уж всему конец...»
Вот выглянула луна из-за леса. Лениво поднялась повыше. Посветлело в деревне. Серебряные дорожки засверкали на реке. Тени домов медвежьими шкурами распластались по улице и огородам.
Фиса сидела у темного окошка – смотрела, ждала Тимоху. Вот черная тень торопливо мелькнула между домами, пересекла дорогу. Фиса прижалась вплотную к окошку, лбом ощутила холод стекла.
«Он? Да нет, зачем он пойдет по дороге!»
И верно: тень пробежала по огороду и подалась к опушке леса. И Фиса догадалась: «Кондрат. Опять куда-то ночью леший понес старика. Не спится ему. Уж который раз в лес по ночам ходит. И чего он там ищет, в лесу? Да кабы и искал, ночью-то что найдёшь? На Тимоху бы не наткнулся, полуночник. Беда будет. Всю деревню поднимет. Второй раз не упустит Тимоху!»
Тимоха украдкой подошел к дому, остановился, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь ни позвать, ни постучать. Но Фиса и так услыхала. Она открыла дверь и тихо сказала:
– Одна я, Тимоша. Не бойся, иди.
Сама зашла вперед гостя, зажгла лучину, воткнула ее в щель возле печки, подальше от окна. Тимоха, как нищий, несмело стоял на пороге.
– Иди, иди, Тимоша, не бойся. Сюда проходи,– позвала Фиса.
Тимоха шагнул к печи, поближе к огню. Фиса бегло оглядела его с ног до головы. На Тимохе были рваные холщовые штаны, грязная, изношенная рубаха и сильно потрепанный пониток.
Тимоха положил руки на плечи Фисе, посмотрел в лицо, чуть освещенное светом лучины, провел ладонью по волосам.
– Ждала?
– Ждала. А как же, велел ведь. Знала, что придешь, раз сказал. Тем только и жила, что ждала...
– Соскучился я по тебе, Фиса...
– И я скучала. Да что же мы так-то стоим? – спохватилась она.– Небось есть хочешь, а я с разговорами... Садись за стол, а наговориться успеем потом.
Она сняла с Тимохи грязный пониток, бросила в угол, взяла гостя за руку и подвела к столу. Он послушно сел на лавку, руки положил на колени.








