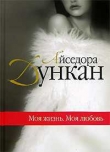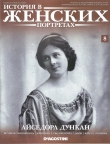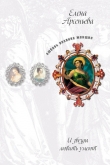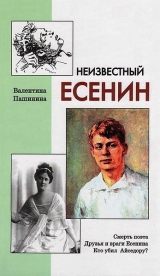
Текст книги "Неизвестный Есенин"
Автор книги: Валентина Пашинина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
ЧАСТЬ IV
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
Глава 1«Шедевры из пустоты»
Русская эмиграция по-разному относилась к живому Есенину, но умершего поэта вся зарубежная пресса почтила доброжелательно.
Новый, 1926 год начался с материалов о Есенине. В них неподдельная скорбь и сожаление, печаль и грусть. Есениновед Галина Шипулина отмечает «удивительно поэтичную статью» Михаила Осоргина «Отговорила роща золотая», В. Ходасевича, который подробно рассказал о жизненном и творческом пути поэта, его ошибках и заблуждениях, статьи Ю. Анненкова, А. Кусикова.
Даже такая ядовитая змея, как Зинаида Гиппиус, на сей раз не ужалила, нашла другие слова:«Есенину не нужен ни суд нащ ни превозношение его стихов. Лучше просто молчаливо, по-человечески пожалеть его. Если же мы сумеем понять смысл его судьбы – он не напрасно умер».
Пророчица и тут оказалась права. Не надо ни хвалить, ни бранить, надо понять смысл его судьбы, его жизни и смерти.
Травля Есенина начнется в большевистской печати и тотчас перекинется в мемуары красной эмиграции. В силу этого воспоминания «красных эмигрантов» ни в малой степени не могут быть документами времени, настолько они тенденциозны и явно халтурны. В них начисто отсутствуют достоверность и конкретность, зато налицо желание показать Есенина хулиганом, пьяницей и скандалистом.
В примечаниях к ним стоит одно и то же:
«Такая встреча могла быть 11–12 мая в Берлине в 1922 году». Или: «Такая встреча могла быть в марте в Берлине в 1923 году». Вот именно – могла быть, но ее могло и не быть. А написать о Есенине надо, и написать непременно отрицательно, ибо рядом с газетными статьями о самоубийстве Есенина шел упорный слух о его убийстве.
Вот потому и просматривается в этих воспоминаниях, написанных по шаблону, чистейшая халтура. Особенно грешат этим Роман Гуль, Ирина Одоевцева, Георгий Иванов, Георгий Адамович – «красные» эмигранты. Лгут, не заботясь даже о правдоподобии.
Самое доброжелательное отношение у Ирины Одоевцевой. Никакого злопыхательства, всех жалеет, всем сочувствует, сопереживает, потому так хотелось бы ей верить. Но можно ли?
«В Берлине я живу одна, на положении «соломенной вдовы», Георгий Иванов, вот уже неделя как уехал в Париж повидать свою маленькую дочку, ну и, конечно, свою первую жену. Уехал с моего позволения и даже благословения – я, слава Богу, не ревнива».
Вот потому обедать она в тот раз пошла с Николаем Оцупом. Обедали в знаменитом русском ресторане у Ферстера – месте встреч всех эмигрантов. Там и встретились с Есениным и его компанией, «кувырк-коллегией». Из ресторана Есенин повез всех в Ад ел он, где познакомил с Айседорой Дункан. И Айседора, конечно, танцевала свой знаменитый танец с шарфом, так красочно описанный Анатолием Мариенгофом в «Романе без вранья». Вечер удался, и потому сожалели только о том, что с ними не было Георгия Иванова.
А вот что рассказал о берлинской встрече с Есениным Николай Оцуп.
«Как-то часа в четыре я зашел в один из русских ресторанов (Ферстера) на Моцштрассе поговорить по телефону, В этот час в ресторане не бывает никого, кроме швейцара и двух-трех скучающих кельнеров (…)
Из обеденного зала вышел, чуть-чуть спотыкаясь, средних лет человек, Я с трудом узнал Есенина.

Сергей Есенин Художник Р, Житковнина.
У него были припухшие глаза и затекшее лицо. Руки его дрожали. Он был одет щеголевато, но держался с какой-то «осанкой заботной».
(…) Темнело. В сероватых сумерках, держась руками за голову и раскачиваясь, Есенин читал мне стихи. Мы были одни за столиком. Кусиков ушел куда-то на полчаса».
Дальше можно не продолжать. Ничего даже приблизительно похожего на то, о чем рассказала Ирина Одоевцева. Она писала свои воспоминания «На берегах Сены» спустя шестьдесят лет, в 1983–1989 годах, а Николай Оцуп – по свежим следам – в 1927 году. За это время многое изменилось в нашей стране, изменилось и отношение к Есенину, он опять превратился в любимого и почитаемого поэта России. Ну и, наконец, надо сказать главное: воспоминания Ирины Одоевцевой от начала до конца родились в ее воображении, это плод ее фантазии.
Н. Оцуп пишет: «Я встретил Есенина в Берлине за месяц до его возвращения в Россию». Значит, в июле 1923 года. И. Одоевцева заканчивает свои воспоминания такой фразой: «Когда я вернулась из санатории, Есенин уже уехал в Америку». Есенин уехал годом раньше, 27 сентября 1922 года.
Берусь утверждать, что зарубежных встреч с Есениным не было ни у Ирины Одоевцевой, ни у ее мужа Георгия Иванова, несмотря на то, что он тоже «вспомнил» в мемуарах о своей встрече с Есениным. «Вспомнил» и тот же ресторан Ферстера, и ту же весну 1923 года, и доброжелательный тон – все объясняется очень просто: «встречу» эту сочинила и написала за мужа И. Одоевцева. Вот потому в обоих текстах пойдут и «васильковые глаза», и «белокурые волосы», и «мальчишеский вид».
«Георгий Иванов был безгранично ленив, а проза, не в пример стихам, давалась ему с трудом… Помогая ему, я иногда писала по 15 часов подряд.
Так мною почти целиком были написаны «Закат над Петербургом», «Из семейной хроники» и, кроме того, вступительная статья к Есенину, за что мы получили просто смешную сумму – всего пять тысяч франков».
Известен категорический отзыв об очерках Георгия Иванова Анны Ахматовой: «В них нет ни одного слова правды». Известно и то, что Г. Иванов объявил Н. Берберовой, что в его «Петербургских зимах» «семьдесят пять процентов выдумки и двадцать пять – правды».
Творю из пустоты ненужные шедевры,
И слушают меня оболтусы и стервы…
«Шедевры из пустоты» – точно сказано. Но пальма первенства по праву здесь должна принадлежать Роману Борисовичу Гулю.
Его «шедевр из пустоты» – пример хлестаковщины, образец, достойный удивления: подумать только, на двух страницах текста суметь употребить полтора десятка раз «Есенин пил», конечно, как и положено, во всех художественных подробностях. Другие только робко заикались о нетвердой походке, опухшем лице, дрожащих руках, а Роман Борисович Гуль, единственный раз увидев Есенина, сразу и навсегда «пригвоздил его к трактирной стойке». И не «просыхал» у него Есенин до самой кончины. Нет, не Есенина, до кончины Романа Борисовича в 1986 году. Он не уставал вновь и вновь обращаться к Есенину: в 1923, 1927, 1929, 1981 годах. С самой первой реплики сюрприз и удивление: «Я познакомился с Есениным в пьяном виде». Ну, что тут скажешь? Может и весь очерк писался в таком виде? Не исключено. Читайте:
«Я шел, качаясь, пустым залом. Был пьян, И вместо комнаты, где сидели мы, – вошел, где лакеи составляли посуду. Тут на столе сидел Есенин. Он сидя спал. Смокинг был смят. Лицо – отчаянной бледности».
Роман Борисович умеет и удивить, и ошеломить:
«Если б Есенин был жив, я б рассказал только об этом вечере. Но Есенина нет. А я его очень люблю. И мне хочется – о Есенине в Берлине – вспомнить все».
И «вспоминает». Например, день приезда в Берлин 11 мая 1922 г.
«Ночью в ресторане Есенин пил, Кусиков читал стихи. Айседора сидела с Есениным. Тоже пила…
Из Америки через Париж Есенин приехал один. Он был смертельно бледен (!). И не бывал трезв (…)
Он пил (…)
В Шубертзале… Есенин вышел на сцену, качаясь, со стаканом вина в руке, плеща из него во все стороны (…)
В Союзе немецких летчиков, на русском вечере, где впервые читал Есенин «Москву кабацкую», мы познакомились (…)
Лицо было страшно от лиловой напудренности. Синие глаза были мутны. Шел Есенин неуверенно, качаясь».
На всех этих вечерах присутствовала Любовь Евгеньевна Белозерская (Булгакова), жена журналиста Василевского. Белозерская видела Есенина в день приезда в Берлин, видела в гостях у профессора Ю.В, Ключникова, видела за столом с Алексеем Толстым и Н. Крандиевской, приходил к ним Есенин и с «неразлучным» Кусиковым. Видела Любовь Евгеньевна Есенина и после возвращения из Америки и написала:
«Мне повезло – я ни разу не видела Есенина во хмелю».
А Роман Борисович, хоть и нигде не присутствовал, но везде «видел» Есенина пьяным и опухшим, с «больным, мертвенным» лицом, «с впалым, голубым румянцем», «и синие глаза были словно от другого лица, забытого в Рязани».
Это ему, Роману Гулю, принадлежит реплика, которая могла стать для Есенина роковой:
«– Не поеду в Москву… не поеду туда, пока Россией правит Лейба Бронштейн…
– Да ты что, Сережа? Ты что – антисемит? – проговорил Алексеев. И вдруг Есенин остановился. И с какой-то невероятной злобой, просто с яростью закричал на Алексеева:
– Я – антисемит?! Дурак ты, вот что! Да я тебя, белого, вместе с каким-нибудь евреем зарезать могу… и зарежу… понимаешь ты это? А Лейба Бронштейн, это совсем другое, он правит Россией, а не должен ей править… Дурак ты, ничего этого не понимаешь».
В воспоминаниях Г.В. Алексеева «Сергей Есенин. Живые встречи» 1922 года не только нет этому никакого подтверждения, но в них нет и самого Романа Гуля, да и быть не могло, поскольку встреча Алексеева с Есениным произошла на год раньше.
Собственно говоря, в его воспоминаниях и Есенина нет. Только фраза: «Мы шли по улице большого города…» да портрет:
«В банк вошел человек в велосипедном шлюпике, насаженном на затылок, в широком английском пальто, обвисшем на нем, как колокол, и в белых парусиновых, окаченных автомобильной грязью ботинках»… Я узнал его и нагнал у дверей».
Вот и все о Есенине.
Мемуары – такой жанр литературы, который, хочешь ты того или не хочешь, выводит на суд читателя одновременно с описываемым лицом и самого автора. Как ни пытается Роман Борисович уверить: «Я любил Есенина», – да кто же ему поверит? Это восклицание, что поцелуй библейского Иуды.
Другое дело Георгий Адамович или Георгий Иванов, их первые воспоминания – как велела необходимость. А через четверть века напишут так, как велела совесть. В январе 1926 г. Георгий Адамович напишет:
«Поэзия Есенина – слабая поэзия. Главная беда в том, что он весь eщe в детской, первоначальной стадии поэзии, что «волнует» он непрочно, поверхностно, кисло-сладким напевом своих стихов, слезливым их содержанием. Ничьей души он не «воспитает», не укрепит, а только смутит душу, разжалобит ее и бросит, ничего ей не дав».
Воспоминания Г. Адамовича 1926 года Марина Цветаева назвала «хамскими». Через 25 лет, опровергая свои высказывания, Адамович просто и лаконично скажет, что очень любит стихи Есенина и нашел в них «прелесть незабываемую (…) неотразимую».
Слегка перефразируя М. Горького, можно сказать: «Очень жуткими людями становятся господа эмигранты. Тон прессы их падает с грамотностью». (Так Максим Горький ответил на площадную брань Ивана Бунина, который в статье «Самородки» назвал Есенина «хамом», «жуликом», «мерзавцем».) А о «красных» эмигрантах М. Горький отозвался совсем нелестно: «Основным ремеслом своим сделали злое слово и весьма изощрились в этом».
Глава 2Белая и красная эмиграции
А.Б. Кусиков – М. Ройзману.
Париж, март 1924 г.
«Живу я сейчас в Париже. Официально «по государственным делам». Надо же послужить на пользу социалистического отечества. В нашу эпоху нельзя быть «беспартийщиком». Пока (что) организовали здесь литературно-политическое оби^ество «Друзей России». Членами общества – много видных и виднейших французских писателей. Будем приглашать и из России, т, е, русских литераторов. При «обществе» будет еженедельный журнал на французском языке» (…) Русских будем переводить. Работа интересная, а кроме того, вводит меня в тот круг общества, который для меня необходим. Ну а неофициально, и что самое для меня главное – стихи и библиотека».
Почему Кусиков предельно разоткровенничался, раскрылся «изнутри»? Потому что пишет такому же чекисту, единомышленнику, сослуживцу, своему человеку. Бобров, Ройзман, Блюмкин, Рюрик Ивнев, Кусиков, Колобов давно засветились как сотрудники ЧК-ГПУ. В «Стойле Пегаса» все были сотрудниками ЧК-ГПУ. Оно для того и создано было Троцким и Каменевым, чтобы знать, чем дышит русская интеллигенция и что думают поэты о советской власти.
Л.В. Занковская пишет:«Многих из тех, кого знал Мариенгоф в начале XX века и называл позднее своими друзьями, ждала трагическая участь. Мариенгоф, тем не менее, не предается горестным размышлениям и иногда с юмором и даже плохо скрываемой издевкой вспоминает этих людей. Пережить многих своих современников Мариенгофу, несомненно, помогли острый, практический ум, необыкновенная осторожность и могучий инстинкт самосохранения».
Увы! Время показало, что не спасли всех тех, кто подлежал уничтожению, ни «практический ум, ни осторожность, ни могучий инстинкт самосохранения».
Все дело в том, что «Мариенгоф принял революцию не извне, а изнутри». Что это значит? А значит это, что он с 1918 года уже состоял на службе правительства. Этим объясняется дружба с Борисом Малковым. Этим объясняется помощь Николая Бухарина. Этим объясняется, что чекисты – друзья Мариенгофа. Этим объясняется все в его жизни. Он был своим человеком и в кабинете Троцкого, только во всех своих воспоминаниях он всегда на втором плане, как случайный посетитель.
Знал ли об этом Есенин в те годы? Однозначно ответить трудно. Но после возврапдения из-за границы точно знал. Вот потому и разошлись их пути, а ссора и ее причина – это был только внешний предлог.
Из письма Есенина Г. Бениславской (Ленинград, 3–5 мая 1924 года):
«Со «Стойлом» дело нечисто. Мариенгоф едет в Париж. Я или Вы делайте отсюда вывод. Сей вор хуже Приблудного. Мерзавец на пуговицах опасней».
Надо ли говорить, что за рубеж выпускали только особо доверенных, а Мариенгоф с женой выезжали и в 1924, и в 1925, и в 1927 годах. Для одних двери за кордон были наглухо закрыты, не пускают даже на лечение. Для других распахнуты настежь. Кусиковы и Эренбурги ездят в Париж, как на собственную дачу.
Кусиков – Ройзману:
«Да, Мотя, работать надо… Хотел было поехать в Россию. Но подумал о друзьях, обо всем, что и как – и отложил пока поездку до тех пор, пока окрепнет «общество». Потом приеду месяца на два-три – а затем через Париж в Америку».
Для них другие законы – неписаные. А Есенина даже на неделю в Персию не пустили.
Шубникова-Гусева: «Откровенность» автора письма согласуется с оценками русской эмигрантской прессы того времени, называвшей парижское общество «Друзья России» «филиалом ГПУ», а газету «Парижский вестник», где сотрудничал Кусиков, – «чекистским вестником».
Ренэ Герра пишет:
«Ошибочно думать, что эмиграция была только «белая». Два художника – Юрий Анненков и Сергей Чехонин – немало сделали для воспевания революции.
Анненков едет во главе советской делегации на биеннале в Венецию с портретом Троцкого в полный рост, но решает не возвращаться.
Другой – разработчик первых советских денежных знаков и вообще советской эмблематики уезжает спустя четыре года: жить в стране Советов невмоготу».
К словам этого «русского француза», как его называли, который достаточно изучил русскую эмиграцию, стоит внимательно прислушаться. Эмиграция была не только «белая». Эмиграция была и «красная». Это те самые «ядра», о которых говорил Ленин:
«Начиная с II конгресса III Интернационала мы прочной ногой стали в империалистических странах не только идейно и организационно. Во всех странах имеются в настоящее время такие ядра, которые ведут самостоятельную работу и будут вести ее».
В 1921 г. Ленин еще раз подчеркнул в «Заметках публициста»:
«Нешумная, неяркая, некрикливая, небыстрая, но глубокая работа создания в Европе и Америке настоящих коммунистических партий, настоящих революционных авангардов пролетариата начата, и эта работа идет».
Об этом пишет и красный эмигрант, связавший свою жизнь с зарубежьем, Юрий Анненков.
В начале 1920-х годов за рубеж выехало много русской интеллигенции. Точнее – еврейской. Они не страдали ностальгией, у них не было языкового барьера и прочих русских причуд, они быстро и незаметно растворялись в новой среде и адаптировались к новым условиям. Сегодня он учитель в Чикаго, завтра – посол в Китае. Это журналисты, писатели, актеры, врачи, учителя. У Ленина засвидетельствовано:
«Принимая во внимание длительность нарастания мировой социа-листической революции, необходимо прибегнуть к специальным маневрам, способным ускорить нашу победу над капиталистическими странами:
(…) Выразить пожелание немедленного восстановления дипломатических сношений с капиталистическими странами на основе полного невмешательства в их внутренние дела. Глухонемые снова поверят. Они будут даже в восторге и широко распахнут свои двери, через которые эмиссары Коминтерна и органов партийного осведомления спешно просочатся в эти страны под видом наших дипломатических, культурных и торговых представителей».
Вот так, как у Ленина написано, и следует понимать «красных» эмигрантов: эмиссары Коминтерна и органов партийного осведомления.
Георгий Иванов в есенинских друзьях не числился, и не известна его позиция по отношению к советской власти. И в России, и за рубежом он был и оставался лидером, с мнением которого считались и которого побаивались за острый язык. «Он создает и губит репутации», «его называют «общественным мнением», – так в воспоминаниях Ирины Одоевцевой отзывается о нем Н. Гумилев.
Небезынтересны такие сведения о нем жены И. Одоевцевой:
«В начале июля 1922 года Георгий Иванов, добившись с большими трудностями и хитростями «командировки для составления репертуара государственных театров на 1923 год», спешно покинул Петербург. Спешно оттого, что его командировка была на редкость «липовой», и в «верхах» могли понять это и отменить ее…
К театральному делу Георгий Иванов никак не был причастен, ровно ничего в театре не понимал и не любил его (…)
Мои бумаги еще не были готовы – я оптировала с большими сложностями латвийское гражданство и покинула Петербург с эшелоном через две недели после того, как Георгий Иванов уплыл на торговом корабле в Германию.
(…) Луначарский тогда еще не лишился своей власти и выдавал самые фантастические командировки».
Само собой разумеется, что Луначарский здесь был ни при чем. На Запад в капиталистические страны под любым предлогом отправляли самые надежные кадры – засылали «большевистские ядра». После раскола в большевистском правительстве и изгнания Троцкого многие из них оказались без поддержки большевиков, очевидно, те, кто служил Троцкому. Судьбы многих из них сложились трагически, а талант не реализован, не востребован. В этом смысле к числу неудачников Ирина Одоевцева причисляет и своих друзей: Георгия Иванова, Георгия Адамовича, Николая Оцупа и других «красных» эмигрантов.
«Стихи их были никому не нужны. И это делало поэтов, пишуших на русском языке, несчастными».
Глава 3Посмертный грех Есенина
У меня ирония есть…
Если хочешь знать, Гейне – мой учитель.
(Есенин о себе. Из воспоминаний Эрлиха)
В воспоминаниях П. Чагина Есенин упоминает имя Генриха Гейне рядом с именем Карла Маркса. А между тем, Есенин уверял, что «ни при какой погоде» он «этих книг, конечно, не читал». Что же в таком случае привлекло его внимание?
Друг К. Маркса, великий поэт Германии Генрих Гейне незадолго до своей смерти в 1854 году писал о коммунистах и коммунизме: «Нет, меня одолевает внутренний страх художника и ученого, когда мы видим, что с победой коммунизма ставится под угрозу вся наша современная цивилизация, добытые с трудом завоевания стольких столетий, плоды благороднейших трудов наших предшественников».
А в следующем, 1855 году, высказался еще определенней:
«Со страхом и ужасом думаю я о той поре, когда эти мрачные иконоборцы встанут у власти. Своими мозолистыми руками они без сожаления разобьют мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу. Они уничтожат все те безделушки и мишуру искусства, которые были так милы поэту. Они вырубят мою лавровую рощу и на ее место посадят картофель. Лилии, которые не сеяли и не жали и все же были так же великолепно одеты, как царь Соломон во всем его блеске, будут повыдерганы из общественной почвы. Розы, праздничные невесты соловьев, подвергнутся той же участи. Соловьи, эти бесполезные певцы, будут разогнаны, и – увы! – из моей «Книги песен» лавочник наделает мешочков и будет в них развешивать кофе и табак для старушек будущего».
Разве не о похожих опасениях, живших в Есенине, вспоминал Илья Эренбург:
«Вдруг обрушился на Маяковского., Он проживет до восьмидесяти лет, ему памятник поставят (…) А я сдохну под забором, на котором его стихи расклеивают, И все-таки я с ним не поменяюсь (,)
Есенин всегда жаждал славы, и памятники для него были не бронзовыми статуями, а воплощением бессмертия».
Можно иронизировать, а можно спросить, – почему же большевистское правительство, многое пообещав после смерти поэта, не поставило ему памятника нигде, ни в Москве, ни в Рязани? Разве он не заслужил его всенародной любовью? Ответ на этот вопрос, о «площадях Маяковского», о «городах Горького», дал Георгий Иванов еще в 1950 году: «Не сомневаюсь, что нашлась бы площадь и все остальное и для Есенина, если бы за ним числились только грехи, совершенные им при жизни… но у Есенина есть перед советской властью другой непростительный грех – грех посмертный… Из могилы Есенин делает то, что не удалось за тридцать лет никому из живых: объединяет русских людей звуком русской песни, где сознание общей вины и общего братства сливаются в общую надежду на освобождение. Оттого-то так и стараются большевики внушить гражданам СССР, что Есенина не за что любить. Оттого-то и объявлен он несозвучным эпохе».
Г. Иванов объяснил и то, почему Есенин был объявлен «несозвучным эпохе»:«Среди примкнувшим к большевикам интеллигентов большинство были проходимцами и авантюристами. Есенин примкнул к ним, так сказать «идейно». Он не был проходимцем и не продавал себя (…) От Ленина он, вероятно, ждал приблизительно того же, что от царицы. Ждал осуществления мечты, которая красной нитью проходит сквозь все его ранние стихи, исконно русской, проросшей насквозь века в народную душу, мечты о справедливости, идеальном, святом мужицком царстве, осуществиться которому не дают «господа».
Есенин назвал эту мечту «Инонией». Поэма под таким названием, написанная в 1918 году, – ключ к пониманию Есенина эпохи «военного коммунизма». Как стихи, «Инония», вероятно, самое совершенное, что он создал за всю свою жизнь. Как документ – яркое свидетельство искренности его безбожных и революционных увлечений».
И еще:«Судьба Есенина – пишет Георгий Иванов, —это судьба миллионов посмертный безымянных «Есениных»… Закруженные вихрем революции, ослепленные ею, вообразившие, что летят к звездам, и шлепнувшиеся лицом в грязь. Променявшие Бога на «диамат», Россию на интернационал и в конце концов очнувшиеся от угара у разбитого корыта революции.
Потому-то стихи Есенина ударяют с такой «неведомой силой» по русским сердцам, и имя его начинает сиять для России наших дней пушкински-просветленно (…)
Подчеркиваю: для России наших дней. То есть для того, что уцелело после тридцати двух лет нового татарского ига от Великой России.
Значение Есенина именно в том, что он оказался как раз на уровне сознания русского народа «страшных лет России», совпал с ним до конца, стал синонимом и падения России, и ее стремления возродиться. Беспристрастно оценят творчество Есенина те, на кого очарование его творчества перестанет действовать… только произойдет это очень нескоро. Произойдет не раньше, чем освободится, исцелится физически и духовно Россия. (Есенин сказал то же самое: «Меня поймут лет через двести».)
В этом исключительность, я бы сказал, «гениальность» есенинской судьбы. Пока родине, которую он так любил, суждено страдать, ему обеспечено не пресловутое «бессмертие», а временная, как русская мука и такая же долгая, как она, жизнь».
Никто и никогда не сказал яснее.