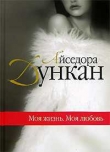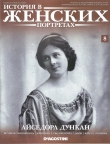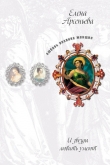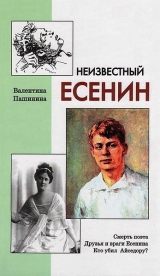
Текст книги "Неизвестный Есенин"
Автор книги: Валентина Пашинина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц)
Ухтинский след есенинского стихотворения
Есенина знают оболганным и урезанным.
Рюрик Ивнев
В ухтинском «Мемориале» много лет хранится экземпляр стихотворения, которое через тюрьмы, этапы и лагеря ГУЛАГа пронесли заключенные. Из соображений безопасности стихотворение практически не записывалось, а хранилось в памяти, поэтому имели хождение разные версии. Сохранившийся вариант сберег В.П. Надеждин – очень известный и уважаемый в Ухте человек. Его дед-священник был расстрелян в двадцатые годы прошлого века, а сам Василий Петрович пять лет провел в лагерях. Причиной ареста стала невзначай брошенная фраза с емким словом «шашлычник». Кто подразумевался под этим словом, догадаться нетрудно. Надеждин за это поплатился свободой.
В 1960-е годы Василий Петрович и его жена Антонина Ефимовна показали мне пожелтевший листок. Из их объяснений я узнала, что автором стихотворения «Послание евангелисту Демьяну Бедному», за хранение или чтение которого репрессировали, ссылали на Соловки и даже расстреливали, заключенные УХТПЕЧЛАГа всегда считали Сергея Есенина.
Пришло время и нам познакомиться с этим стихотворением (курсивом даны варианты),
Послание евангелисту Демьяну Бедному
Я часто размышлял, за что Его казнили.
За что Он жертвовал своею головой?
За то ль, что, враг суббот.
Он против всякой гнили
Отважно поднял голос свой?
За то ли, что в стране проконсула Пилата,
Где культом кесаря полны и свет, и тень.
Он с кучкой рыбаков из бедных деревень
За кесарем признал лишь силу злата?
За то ль, что, разорвав на части лишь Себя, (За то ли, что Себя на части раз дробя,)
Он к горю каждого был милосерд и чуток
И всех благословлял, мучительно любя,
И маленьких детей, и грязных проституток?
Не знаю я, Демьян, в «Евангелье» твоем
Я не нашел ответа .(правдивого ответа)
В нем много бойких слов, (пошлых слов)
Ох, как их много в нем.
Но слова нет, достойного поэта.
Я не из тех, кто признает попов.
Кто безотчетно верит в Бога,
Кто лоб свой расшибить готов.
Молясь у каждого церковного порога.
Я не люблю религии раба.
Покорного от века и до века,
И вера у меня в чудесное слаба —
Я верю в знание и силу человека.
Я знаю, что, стремясь по чудному пути, (по нужному пути)
Здесь, на земле, не расставаясь с телом,
Не мы, так кто-нибудь ведь должен же дойти
Воистину к божественным пределам.
И все-таки, когда я в «Правде» прочитал
Неправду о Христе блудливого Демьяна,
Мне стыдно стало так, как будто я попал
В блевотину, низверженную спьяна.
Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос —
Далекий миф. Мы это понимаем.
Но все-таки нельзя, как годовалый пес.
На все и вся захлебываться лаем.
Христос – сын плотника – когда Он был казнен, (когда-то был казнен)
(Пусть это миф), но все ж, когда прохожий
Спросил Его: «Кто ты?», ему ответил Он:
«Сын человеческий», а не сказал: «Сын Божий».
Пусть миф Христос, как мифом был Сократ,
И не было Его в стране Пилата.
(Платонов «Пир» – вот кто нам дал Сократа) Так что ж, от этого и надобно подряд
Плевать на все, что в человеке свято?
Ты испытал, Демьян, всего один арест
И ты скулишь: «Ох, крест мне выпал лютый!»
А что ж, когда б тебе голгофский дали б крест?
Иль чашу с едкою цикутой? (Хватило б у тебя величья на минуту?)
Хватило б у тебя величья до конца
В последний раз, по их примеру тоже.
Благословлять весь мир под тернием венца
И о бессмертии учить на смертном ложе?
Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил.
Ты не задел Его своим пером нимало.
Разбойник был. Иуда был.
Тебя лишь только не хватало.
Ты сгустки крови со креста
Копнул ноздрей, как толстый боров.
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.
Но ты свершил двойной и тяжкий грех
Своим дешевым балаганным вздором:
Ты оскорбил поэтов вольный цех
И скудный свой талант покрыл позором. (И малый свой талант покрыл большим позором)
Ведь там, за рубежом, прочтя твои «стихи».
Небось, злорадствуют российские кликуши:
Еще тарелочку Демьяновой ухи.
Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай!
А русский мужичок, читая «Бедноту»,
Где лучший стих печатался дуплетом, (Где образцовый стих печатался дуплетом)
Еще отчаянней потянется к Христу,
Тебе же мат пошлет при этом. (А коммунизму «мать» пошлет при этом)
Позже стали известны заключительные строки «Послания…»:
Тысячелетия прошли, должно быть, зря,
Коль у поэта нет достойней речи.
Чем та, что вырвалась из пасти дикаря:
«Распни! Распни Его!
В Нем образ человечий!»
В период хрущевской оттепели я послала этот текст в Константиново в Есенинский музей. Сестры Есенина тогда еще были живы, и я, конечно, надеялась, что они подтвердят авторство. В своем письме я старалась убедить их, что столь блестящее стихотворение мог написать только Есенин. Ответа не получила и, естественно, обиделась.
Только многолетняя работа в ухтинском «Мемориале» помогла мне понять истинную причину ее молчания. Екатерина Александровна Есенина, не ответив на письмо (а, возможно, и благоразумно уничтожив его), тем самым оберегла от неприятностей не столько меня, сколько прошедшего через сталинские лагеря В.П. Надеждина. Ему бы точно не поздоровилось за хранение и распространение этого стихотворения. Посылая в Константинове свое письмо, я епде не знала, что Екатерина Александровна, ее муж и все друзья Есенина пострадали от репрессий и гонений, начатых еще Троцким и продолженных Вождем народов.
Со времен Пушкина ничья гибель не вызывала такого брожения в народе, как смерть Есенина. Все, кто верил в самоубийство и кто не верил, были убеждены: поэт был доведен до такого состояния. Есенин – первая жертва политических репрессий, с него начинается новая эра в уничтожении русской интеллигенции. Лучших из лучших. Вы можете возразить мне: почему с Есенина? Ведь были же до него расстреляны Гумилев, Ганин и другие. Но в случае с ними была соблюдена хоть какая-то видимость «революционной законности». Именно с Есенина начинается тот беспредел, о допустимости которого говорил Маркс, называя революционную этику «словесным хламом». Ленин вообще не сомневался, что история таких, как он, оправдает, и выдавал индульгенции на отпущение грехов будущим «громилам и шарлатанам».
С Есениным случилось чудовищное превращение: его подчистили, подкрасили, увековечили и поставили на полку рядом с теми, кто травил и преследовал поэта. А его «беспризорные дети» – стихи – бродят по свету в поисках своего казненного родителя.
«Послание евангелисту Демьяну Бедному», сохраненное Надеждиным, никогда в советской печати не появлялось даже в качестве приписываемых Есенину. Оно и до сих пор остается в числе «нереабилитированных» произведений. Стихотворение опубликовано было только в 1990 году на страницах еженедельника «Книжное обозрение» (А. Лацис, статья «Ищем неизвестного поэта»), потому и не попало в вышедшее совсем недавно Полное собрание сочинений Сергея Есенина.
Глава 7Ответ из есенинской комиссии, или Новая заморочка
Обычно, чем больше расследуешь, тем меньше остается нерешенных задач.
В деле Есенина все наоборот, загадки плодятся в арифметической прогрессии.
Э. Хлысталов
В юбилейный есенинский 1995 год «Послание евангелисту Демьяну Бедному» с нашими выкладками и соображениями ухтинские краеведы послали в Москву, в есенинскую комиссию. С полученным ответом считаю необходимым ознакомить читателя.
«Автором (или авторами) рукописи проделана значительная поисковая работа. Она могла бы быть более успешной, если б в круг внимания исследователя попали факты, уже обнаруженные литературоведами и вошедшие в научный оборот… Например, сюжет со стихотворением «Послание евангелисту Демьяну». В рукописи приводится свидетельство М. Ройзмана, что стихи эти написал «некий Горбачев», на основе того, что никто не знал такого поэта Горбачева, версия отвергается. И напрасно.
Стихотворение «Послание евангелисту Демьяну» написал именно Горбачев Николай Николаевич (1888–1928?), писавший стихи и газетные статьи. Это имя в зарубежной печати было названо еще в 1949 г. (газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 13 февраля).У нас же история с Горбачевым и «Посланием…» описана в статье Вл. Виноградова «Я часто думаю – за что его казнили?», опубликованной в «Независимой газете» 29 апреля 1994 года.
С. Кошечкин. Москва, 18 мая 1995 г.»
Ответ С. Кошечкина, прямо скажем, озадачил. Как же так, в Америке знают автора, а в России ни одного есениноведа всерьез не заинтересовало такое замечательное стихотворение. Достаточно ли оснований для того, чтобы считать его подделкой под Есенина? Почему никто не хочет замечать, насколько оно глубоко выстраданное, прочувствованное, продуманное? Да и писал его, по всему видно, человек, близко знавший Демьяна Бедного: и фамильярный тон, и обрапдение на «ты», и подробности его биографии – все указывает на это. Ты испытал, Демьян, всего один арест И ты скулишь: «Ох, крест мне выпал лютый». Эти строки написаны с какой-то затаенной внутренней обидой не только за оскорбленного Христа. Нет, не все здесь так однозначно. С этим стихотворением связана какая-то тайна. Пушкин отрекался от «Гавриилиады»: «Приписывают ее мне; доносили на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы». Есенин от «Послания…» сам не отказывался. Его уже не было, когда стихотворение нелегально распространилось по России.
«Факты, уже обнаруженные литературоведами и вошедшие в научный оборот…», – пишет С. Кошечкин. То есть, следуя совету С. Кошечкина, мы должны считать «вошедшими в научный оборот» и факт горбачевского авторства, и есенинское хулиганство, и есенинское пьянство, и обвинения в многоженстве, и прочие традиционные несуразности – все то, что нарисовали черными красками его друзья-доброжелатели. И не имеем права усомниться, так ли было на самом деле, только потому, что это факты, «обнаруженные литературоведами»?
Очень удивил совет не отвергать поспешно версию, что автор «Послания…», некий Горбачев Н.Н. Акак же быть с другим фактом «научного оборота», который есенинская комиссия сама поспешно отвергает: в 1926 году все называли Есенина автором «Послания…» – и в России, и за рубежом? Да и кто же такой, этот самый Горбачев?
Матвей Ройзман, на которого мы ссылались в своих материалах, имел в виду не Николая Николаевича, а Георгия Ефимовича Горбачева. Неужели о существовании этого человека есенинской комиссии не известно? Горбачев Г.Е. – критик, литературовед, сотрудник Пушкинского дома, ученый, которому Эрлих передал последнее есенинское стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья…», написанное кровью. Этот Горбачев был сослан в Соловки в 1930-е годы, правда, из Ленинграда, а не из Москвы, как указывает Ройзман. О нем писали сотрудники Ленинградского общества «Мемориал», хотя сведения у них оказались неполными.
Осталось непонятным и то, почему наше настойчивое желание исследовать до конца версию о есенинском авторстве «Послания» вызвало такое единодушное отрицание в научных кругах есениноведов.
Все это удивляло и заставляло размышлять – вопросы просто обрушились на нас, и их становилось все больше и больше. Почему ставится под сомнение личная подпись Есенина под одним из экземпляров? Почему мы должны верить, что в 1949 году журналисты в Нью-Йорке лучше знали об авторстве, чем сталинские заключенные, которые и осуждены-то были за это есенинское стихотворение? Или, может, все дело в том, что бранные определения – «Ефим Лакеевич Придворов», «толстый боров», «хрюкнул», задевающие пролетарского поэта, кажутся чрезмерными для есенинской комиссии, которая хотела бы видеть поэта только певцом русского березового ситца и всепрощающим светлым Лелем?
Захотелось понять и разобраться, зачем настойчиво приписывают авторство «Послания…» то Горбачеву, то Ганину? Кто в свое время заставил Екатерину Есенину через газету писать отречение? Не сама же она репхила выступить на страницах центральной печати. Кому и почему уже в конце XX века выгодно было путать есенинские следы?
Пришлось заново и критически перечитать и переосмыслить всю мемуарную литературу, переоценить все до сих пор написанное. Ну а когда выяснилось, что Екатерина Александровна Есенина тоже подвергалась репрессиям, когда составился огромный список репрессированных и убиенных из ближнего и дальнего Есенинского круга, многое стало понятным.
Помогли новые публикации не только о Есенине, но и обо всей нашей истории и революции: новое о Ленине, о Сталине, не известные ранее произведения Троцкого, Бухарина, Радека и других политических деятелей.
Зарубежные источники, на которые указывали в есенинской комиссии, нам тогда были недоступны, да и надо было прежде всего разобраться «в собственном хозяйстве».
Первым делом выяснить, не связано ли с Есениным «низложение» самого Демьяна Бедного?
Глава 8Демьяна надо раздемьянить»
Передовица была блестящая, чтобы не сказать – сокрушительная. Она гневно обличала в общих чертах все, а редактора разносила в клочья.
Эдгар По
О том, как Демьян Бедный попал в опалу, поведала Муза Канивез, жена Федора Раскольникова:
«Демьян Бедный рассказал Раскольникову в моем присутствии следующую историю: одно время Сталин приблизил к себе Демьяна Бедного, и тот сразу стал всюду в большой чести. В то же время в круг близких друзей Демьяна затесался некий субъект, красный профессор по фамилии Презент.
Эта личность была приставлена для слежки за Демьяном. Презент вел дневник, где записывал все разговоры с Бедным, беспощадно их перевирая.
Однажды Сталин пригласил Демьяна Бедного обедать (…) Возвратясь из Кремля, Демьян рассказывал, какую чудесную землянику подавали у Сталина на десерт. Презент записал: «Демьян Бедный возмущался, что Сталин жрет землянику, когда вся страна голодает».
Дневник был доставлен «куда следует», и с этого началась опала Демьяна».
Очень может быть, что так все и было, ведь доносили же сексоты на Михаила Булгакова: мол, в «Роковых яйцах» есть злобный кивок в сторону покойного тов. Ленина: лежит мертвая жаба, у которой даже после смерти осталось злобное выражение на лице». Сексоты поступали так едва ли не с каждым, кого «пасли»: от себя добавляли все, на что способна была их фантазия.
Гадостей и оскорблений в свой адрес Сталин никому не прощал. И все же велика вероятность, что Демьян Бедный сумел объясниться со Сталиным, доказать ему несостоятельность возводимой на него клеветы.
Работник аппарата ВЦИК Михаил Яковлевич Презент (1898–1935 гг.) недолго домысливал наблюдаемые им в жизни ситуации, а Демьян прожил еще до 1945 года. Хоть и сшибли Демьяна со всех высоких постов, хоть и задело его «красное колесо», но не подмяло, не укатало в лагерную пыль.
В чем была наиболее вероятная причина ниспровержения Первого пролетарского поэта Демьяна Бедного, объяснил Н. Эвентов, исследователь его творчества: «Поэт на пороге 1930-х годов так торопился откликнуться на все события жизни, так увлекся скорописаниему что не заметил, как стал отставать от эстетических и культурных запросов читателей (…) Он решал иные темы с той простодушной прямолинейностью, какая соответствовала, скажем, задачам фронтовой агитации 1918–1919 года, но оказалась поверхностной и мало убеждающей в обстоятельствах нового, более сложного времени».
Советский литературовед говорит об ошибках Д. Бедного очень деликатно, туманно. А вот Сталин в своем письме «придворному» поэту совсем не церемонился:
«Вы вдруг зафыркали и стали кричать о «петле», В чем существо Ваших ошибок? Оно состоит в том, что критика недостатков жизни и быта СССР увлекла Вас сверх меры и, увлекши Вас, стала перерастать в Ваших произведениях в клевету на СССР, на его прошлое.
Весь мир признает теперь, что центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Революционеры всех стран с надеждой смотрят на СССР как на очаг освободительной борьбы трудящихся всего мира, признавая в нем единственное свое отечество. Революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут советскому рабочему классу и, прежде всего, русскому рабочему классу.
А вы? Вместо того, чтобы осмыслить этот величайший в истории революции процесс и подняться на высоту задач певца передового пролетариата стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения, что нынешняя Россия представляет сплошную «Перерву», что «лень» и стремление «сидеть на печке» является чуть ли не национальной чертой русских вообще».
Сталину вторил Троцкий: «Не только не надо одемьянивать литературу, но самого Демьяна надо раздемьянить до нитки».
Таким образом, Демьяну Бедному был вынесен приговор. Что же спасло пролетарского поэта? Заступничество Луначарского и Серафимовича? Покаянное письмо Сталину о признании своих ошибок, отправленное 8 декабря 1930 года? Дамоклов меч был уже занесен – Сталин подготовил статью, которая появилась в «Правде» 12 декабря 1930 года.
Статья Сталина предназначалась, конечно, не только пролетарскому поэту. Она требовала поставить в одну шеренгу всех мастеров культуры. А надоумил вождя призвать «к выравниванию» своим письмом пролетарский писатель Максим Горький. Небольшой житейский совет, данный из самых добрых побуждений, стал причиной больших драматических событий. Вот как это было.
Прошел год Великого Перелома. Страна тяжело, но с большим подъемом выбиралась из разрухи. Максим Горький убедился в этом лично, поездив по стране в 1928–1929 годах. Свои впечатления от увиденного он изложил в очерке «По Союзу Советов». Но на Западе обрапдали внимание прежде всего на критику, регулярно появлявшуюся в советских газетах. А в них преобладало самобичевание. Вот об этом «буревестник» в 1929 году и написал Сталину.
В ответном письме М. Горькому Сталин соглашается:
«Возможно, что наша печать слишком выпячивает наши недостатки, а иногда даже (невольно) афиширует их. Это возможно и даже вероятно. И это, конечно, плохо. Вы требуете поэтому уравновесить (я бы сказал, перекрыть) наши недостатки нашими достижениями».
Сказано – сделано. В прессе взят курс на отражение побед. В жизни – на окончательное искоренение инакомыслия. Для объекта травли намечены соответствующие жертвы. Стрельба по воробьям эффекта не дает. Намечены крупные птицы.
Демьян Бедный – слишком высоко вознесся и много возомнил о себе. Надо поставить на место.
Маяковский – слишком много себе позволяет: «Коммунист и человек не может быть кровожаден», – и это о расстрелянной царской семье! А «Клоп»? А «Баня»? Нет, определенно зарвался Поэт Революции. Его тоже надо обуздать.
Михаил Булгаков – этот никогда своим не был и не будет: «белая гвардия». Пьесы Булгакова запрещены, печатать его перестали, на работу не брали даже типографским рабочим. Булгаков к тому же осуждал «разнузданную антирелигиозную пропаганду, в особенности шельмование образа Христа», распространяемую журналом «Безбожник». В его дневнике есть запись от 5 января 1925 года:
«Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне (…) Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены».
Булгакова подозревали в нелояльности к советской власти. Уже в мае 1926 года при обыске на квартире у него были изъяты дневники и некоторые рукописи. Тогда же нашли и забрали есенинское «Послание…», правда, без указания авторства.
Травить всех троих начали почти одновременно, и занимались этим весь 1929 год. Травили, впрочем, не только их. Однако именно эти трое, не выдержав издевательств, написали Сталину письма, И случилось это практически в одно и то же время.
Михаил Булгаков написал письмо 28 марта 1930 года. Отправлено оно было 31 марта – 1 апреля в семь адресов. 18 апреля Сталин лично позвонил писателю, был весьма дружелюбен и предельно внимателен, вероятно, потому, что к этому времени – 14 апреля – уже застрелился Маяковский.
Вспоминает Л.Е. Белозерская-Булгакова – жена Михаила Афанасьевича:
«Вдруг узнаем: по Москве сейчас ходит якобы копия письма М.А. к правительству. Спешу оговориться, что это «эссе» на шести страницах не имеет ничего общего с подлинником. Я никак не могу сообразить, кому выгодно пустить в обращение этот опус.
Начать с того, что подлинное письмо, во-первых, было кратким, во-вторых, за границу он не просился. В-третьих, в письме не было никаких выспренных выражений, никаких философских обобщений.
Основная мысль булгаковского письма была очень проста: «Дайте писателю возможность писать. Объявив ему гражданскую смерть, вы толкаете его на самую крайнюю меру. Письмо, ныне ходящее по рукам, – это довольно развязная компиляция истины и вымысла, наглядный пример недопустимого смещения исторической правды. Можно ли представить себе, что умный человек, долго обдумывающий свой шаг, обращаясь к «грозному духу», говорит следующее: «Обо мне писали как о «литературном уборщике», подбирающем объедки после того, как наблевала дюжина гостей».
Любовь Евгеньевна ошиблась: по Москве ходило письмо Маяковского, которое пришло в Кремль одновременно с письмом Булгакова от 31 марта. Это Владимир Владимирович просился за границу, это его послание перед роковым выстрелом содержало просьбу о выезде за границу.
Об этом пишет в воспоминаниях Юрий Анненков, встречавшийся с Маяковским в Париже. О письме Маяковского упоминает и А. Мариенгоф, но как всегда цинично, по-мариенгофски, ради яркой метафоры пренебрегая чувством сострадания и деликатностью: «Ушел с дерьмом на подошвах».