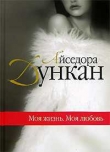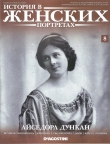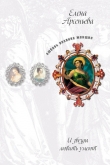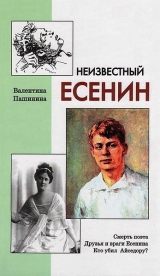
Текст книги "Неизвестный Есенин"
Автор книги: Валентина Пашинина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
Заклятые друзья
Когда Леонид Леонов работал над своим романом «Вор», большая группа молодых людей в поисках материала, следуя горьковским традициям, отправилась в знаменитую «Ермаковку» (ночлежный дом) изучать людей дна.
Сопровождал молодежь в целях безопасности работник Московского уголовного розыска (по другим данным – начальник МУРа) Кожевников Иннокентий Серафимович (1879–1931 гг.). В 1918 г. – главный комиссар по организации боевыхдружин на территории советских республик южной России. В 1918 г. – чрезвычайный комиссар Донецкого бассейна. Словесный портрет чекиста (см. воспоминания Эрлиха) сопровождавшего группу, более соответствует другому человеку: Кожевникову Якову Николаевичу, в начале 1923 г. – ответственному сотруднику ВЧК.
Известны имена участников этого похода: Леонов, Есенин, Берзинь, Казин, Эрлих, Никитин и др. Из воспоминаний Н. Никитина известно, что «ни к одному из своих выступлений Есенин не готовился так, как к этому, никогда так не волновался, как отправляясь на эту встречу».
По понятным причинам непрошеных гостей встретили без энтузиазма и радушия. Не были приняты и стихи кабацкого цикла, с которых начал Есенин:
Шум и гам в этом логове жутком.
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.
Это был их быт, который их тяготил и не устраивал. Есенин увидел сразу, как мрачнели их лица, как ниже опускались головы. Он перестроился: стал читать о юности и несбывшихся мечтах, о рязанском небе и отговорившей роще, о матери, которая ждет сына и тревожится о нем. Это касалось каждого, составляло светлую юность и утрачено, может быть, навсегда.
«Что сталось с ермаковцами в эту минуту! У женщин, у мужчин расширились очи, именно очи, а не глаза. В окружавшей нас теперь большой толпе я увидел горько всхлипывающую девушку в рваном платье. Да что она… Плакали и бородачи… Прослезился даже начальник Московского уголовного розыска.
Никто уже не валялся равнодушно на нарах. В ночлежке стало словно светлее, словно развеялся смрад нищеты и ушли тяжелые, угарные мысли.
Вот каким был Есенин.
С тех пор я поверил в миф, что за песнями Орфея шли даже деревья».
Такое восторженное описание этого выступления Есенина оставил Н.Н. Никитин.
Есенин любил читать стихи, выступал много и охотно. Чтение его было мастерское, профессиональное. Все стихи в его исполнении очень выигрывали. Подкупал необычайно выразительный глуховатый голос. Поэтому успех всегда сопровождал его выступления. В «ермаковке» обстановка была непредсказуемой и напряженной. Чем могло окончиться это выступление, неизвестно. Поэтому развязка со счастливым концом запомнилась многим.
Об этом эпизоде вспоминают и другие.
Крайне сдержанно, можно сказать – документально, сухо вспоминает Анна Берзинь:
«Мы перешли в комнату, где помещались женщины. И тут Сергей вдруг начал читать стихи. Читал очень хорошо, его слушали женщины и мужчины, которые пришли следом за нами в женскую спальню. Стоящая впереди женщина, пожилая и оборванная, плакала горючими слезами, слушая Сергея Александровича».
А вот эпизод, которого нет в воспоминаниях Никитина и о котором рассказала Анна Абрамовна:
«Когда мы покинули ночлежку, поэт, бывший с нами, товарищ Есенина, вдруг сказал:
– А эта женщина, которая плакала, она ничего не поняла…
– Почему? – встрепенулся Сергей.
– А потому, что она совсем, совсем глухая, Я задержался и попробовал с ней разговаривать, так мне все сказали, чтобы я и не пытался, она все равно ничего не слышит.
Сергей насупился и всю дорогу домой промолчал. Он молча простился с нами. А теперь мне кажется, что этот милый и славный поэт просто все придумал, чтобы рассердить Сергея Александровича.
Я все собираюсь его спросить, не помнит ли он, как это было на самом деле».
Этот славный и милый поэт – Вольф Эрлих, товарищ Есенина. Поэт, хотя никому еще не довелось познакомиться с его стихами. Может быть, вот эти, придуманные им строки, записанные в воспоминаниях как стихи, и есть его «поэзия»? Не потому ли критики назвали его, Эрлиха, «виртуозом»?
У каждого народа есть свой анекдот о глухом Рабиновиче или Петровиче. Назавтра вся Москва будет смеяться, рассказывая, как пел Орфей-Есенин, ублажая глухую проститутку. «Виртуоз» не постеснялся толпы свидетелей, не убоялся осуждения и сочинил еще «четыре последних дня Сергея Есенина», которые нам предлагают принять на веру за неимением других источников.
Не странное ли дело: воспоминания сотрудников и агентов ОГПУ – Эрлиха, Устиновых, Назарова, свидетелей последних дней Есенина – принимаются за истину, и этими воспоминаниями потчуют читателя столько лет?
– Да не убивал он (Эрлих) Есенина. Совсем взбесились! Поклонялся ему. Был истинный поэт, хотя и далеко не Есенин, – возопил Михаил Синельников (см. приложение к «Литературной газете» «Досье» № 9–10, 1995 г., стр. 31).
Допустим, не убивали Эрлих и Устинов. Просто заманили в ловушку, а затем пхвырнули в него комья грязи и умыли руки. Очистились перед палачами и потомками: написали свои «дружеские» воспоминания.
Эрлих не постеснялся извратить до неузнаваемости эпизод, которому было столько свидетелей! Свидетелей его вопиющего, наглого вранья, и он же. Эрлих, сочиняет «Четыре дня с Есениным», хотя в первый день у гроба Есенина никто из «свидетелей» ничего не говорил, ничего не рассказывал – тогда еще не успели согласовать: ведь надо было заполнить четыре дня жизни. Палачи согласовали четыре дня казни Есенина.
Оценку этим перевертышам дал Лавренев в статье «Казненный дегенератами», и все же они до сих пор числятся в друзьях поэта.
Эрлих появляется на жизненном пути Есенина, когда тот порвал дружбу с имажинистами и вышел из «Стойла».
Из воспоминаний Надежды Вольпин:
«Год 1924-й. Ленинград, Апрель. Квартира Сахаровых. Стук в дверь. Входит Владимир Ричиотти, в прошлом матрос, революционер, сегодня «воинствующий имажинист» (…) Все на месте: Григорий Шмерельсон, Семен Полоцкий, Вольф Эрлих, Афанасьев-Соловьев, ну и я с Ричиотти».
(Турутович Л.И.).
Что знал Есенин об этих молодых людях, чтоб называть своими друзьями? В друзьях у него ходили все, с кем едва познакомился. Так было, например и с Леонидом Утесовым, только что приехавшим в Москву. Представляя его Наде Вольпин, сказал:
– Мой старый друг, Леонид Утесов.
Есенин молодых не знал. Знакомство было поверхностным.
«Творческие достижения их были довольно скромны, – пишет Э.М. Шнейдерман, —все они были еще молоды, только входили в литературу… но планы были большие. Готовился к изданию журнал «Необычайное собрание друзей», составлялась антология «Российские имажинисты». Но ни то, ни другое издание осуществить не удалось. А в 1926 году деятельность «Воинствующего ордена» фактически прекратилась».
Что им помешало осуществить свои планы? Да планов-то никаких не было, никто из них поэтом не был. Под этой вывеской их собрали вместо московских имажинистов, и обязанности их были другие: следить за Есениным и доносить. А так как в 1924–1925 годы Есенин уезжает на Кавказ, сама собой необходимость в их ордене отпала.
По делам издания своих произведений Есенин с 12 апреля по 12 мая, а потом с середины июня до конца июля жил в Ленинграде на квартире Сахарова. Хозяева были на даче. Вот в это время Эрлих жил с Есениным, потом он приезжал на несколько дней в Москву. Об этих встречах, продолжавшихся не более двух-трех месяцев, вспоминает Софья Толстая.
Сочинив свои объемные воспоминания, Эрлих раздробил их на мелкие осколки – эпизоды из жизни друзей, воссоздав тем самым иллюзию длительного знакомства.
Два с половиной месяца знакомства умело растянуты на 2–3 года. Такое впечатление остается у читателя. Странным образом Эрлих пролез в число лучших друзей, которых объявилось видимо-невидимо.
Читаем воспоминания Н.Н. Захарова-Мэнского:
«Всякий, с кем Сергей выпил бутылку пива или матерно обругал в пьяном виде, стал писать о нем воспоминания (…) Откуда-то из всех нор повылезла прятавшаяся там пошлость – и ну делить посмертную славу покойного (…) и как бы эмблемой ко всему – никому-никому не ведомый в литературе и искусстве юноша, который играет первую скрипку на всех юбилеях и похоронах знаменитостей, с которыми (например с Есениным) едва ли был знаком при их жизни».
Имени, конечно, нет, но портрет узнаваемый.
В воспоминаниях Вольфа Эрлиха есть слова Есенина, на которые следует обратить особое внимание:
«Ты понимаешь? Если бы я был белогвардейцем, мне было бы легче! То, что я здесь, это не случайно. Я – здесь, потому что я должен быть здесь. Судьбу мою решаю не я, а моя кровь. Поэтому я не ропщу. Но если бы я был белогвардейцем, я бы все понимал. Да там и понимать-то, в сущности говоря, нечего! Подлость – вещь простая. А вот здесь… Я ничего не понимаю, что делается в этом мире! Я лишен понимания!»
Эрлих пишет: «Перед сном». Не иначе, как перед Вечным Сном Есенина: ведь это были последние слова Есенина Эрлиху, когда западня захлопнулась. Прочтите еще раз воспоминания Эрлиха, увидите: не было «Субботы», не было «Воскресенья», потому они и не описаны Эрлихом. Об этом пишет и Анна Берзинь, которая на следующий день бросилась в Ленинград спасать Есенина, но было уже поздно. Никто в Ленинграде не знал о приезде Есенина – да такого просто не могло быть! Никто не подходил к телефонам: всех писателей сдуло из Ленинграда накануне Рождества. Дозвонилась только Шкапской, но у нее именно в этот день, т. е. 25 числа, кто-то из близких покончил с собой. Не Есенин ли? Помочь найти Есенина отказалась, а у гроба Есенина была вместе с Софьей Толстой.
Вместе с Эрлихом сочиняла свои воспоминания и Елизавета Алексеевна Устинова, но не находят ли странным есениноведы, что ни одна душа не вспомнила о ней? Куда же она исчезла? Каким ветром замело ее следы? Ведь она могла о многом рассказать…
Если властная рука не пощадила своего человека, чекиста Эрлиха, то тем более безжалостно уничтожались другие. Почему читатель не знает Эрлиха-поэта, на этот вопрос, по существу, ответил Виктор Кузнецов в своей статье «Тайна гибели Есенина». Стихотворения его настолько идейны и тенденциозны («Мой дом – весь мир, отец мой Ленин…»), что сами по себе могут служить «Личным делом» или сексотским досье чекиста Вольфа Эрлиха. Кузнецов приводит наиболее характерный отрывок – «поэзии в нем ни на грош но фактура любопытна»:
Много слов боевых живет в стране.
Не зная, кто их сложил.
Громче и лучше на свете нет
Песни большевика.
И этой песне меня научил
Мой первый товарищ
Выборнов Михаил,
Председатель Рузаевской ЧК.
Кузнецов продолжает:«В 1925 году поднаторевший сексот, очевидно, за особые заслуги получил квартиру. В письме матери в 1930 г, пишет: «Сам я живу замечательно. Две комнаты с передней, а я один. Сам к себе в гости хожу. Шик!» Что ни говори – ценный кадр ЧК-ГПУ-НКВД.
Часть lll
ЕСЕНИНА УБИВАЛ НЕ ТРОЦКИЙ
Глава 1Вчерашние товарищи
Господин министр, я хорошо знаю Ленина и Троцкого. Многие годы мы вместе боролись за освобождение России.
Теперь они обратили ее в рабство, более страшное, чем то, в котором она пребывала раньше.
Б. Савинков – У. Черчиллю
Говоря о Есенине, мы все время возвращаемся к одной из крупнейших политических фигур того времени – Троцкому. Но перед тем, как повнимательнее всмотреться в суть их отношений, попробуем ответить на один важный вопрос. Как могло случиться, что Троцкий, имея невероятную власть и влияние в стране, после смерти Ленина потерял неожиданно все и ушел в тень?
Неоднократно дотошные репортеры задавали этот вопрос и Троцкому, и Сталину и ни разу не получали вразумительных ответов. Троцкий объяснял туманно и непонятно, злился, что его не хотят понять.
Сталин объяснял кратко и прямолинейно: мол, не для того, они, большевики, изгнали господ, чтоб теперь их место заняли другие господа. И опять было непонятно, при чем тут господа, когда у большевиков давно одни товарищи? А ведь в ответах Сталина просматривалась та самая правда, которую всегда тщательно скрывали и прятали большевики.
Похоже, что и в большевистской партии немногие знали ответ на этот вопрос, резонно полагая, что два вождя не поделили власть. Собственно говоря, так это и было, но было и другое, что не лежало на поверхности, что скрывалось от всех.
Впрочем, давайте послушаем самого Сталина из доклада на XV съезде ВКП(б):
«Вы спрашиваете: почему мы исключили Троцкого и Зиновьева из партии? Потому что мы не хотим иметь в партии дворян, пользующихся привилегиями, и крестьян, лишенных этих привилегий. Неужели мы, большевики, выкорчевавшие с корнями дворянское сословие, будем теперь восстанавливать его в нашей партии? Закон у нас в партии один, и все члены партии равны в своих правах. Условие у нас одно: оппозиция должна разоружиться целиком и полностью и в идейном, и в организационном отношении, Она должна отказаться от своих антибольшевистских взглядов открыто и честно, перед всем миром. Она должна заклеймить ошибки, ею совершенные, превратившиеся в преступление против партии, открыто и честно перед всем миром. Она должна передать нам свои ячейки для того, чтобы партия имела возможность распустить их без остатка. Либо так, либо пусть уходят из партии. А не уйдут – вышибем».
И вышибали. Прямо с трибуны. Первым – Таковского. Ему не дали связно закончить ни одной фразы… Семьдесят пять активных деятелей троцкистской оппозиции и двадцать три из группы Сапронова были на XV съезде из партии исключены. Ликвидация верхушки послужила сигналом к исключению тысяч оппозиционеров на местах в провинции. Так характеризует эту ситуацию Ю. Помпеев.
Исключали, в основном, евреев, изгоняли их из руководства и из партии. Этому факту тоже есть свидетельство – письмо Троцкого Бухарину, в котором он просит разобраться в антисемитских проявлениях. Ответом послужили издевательские слова Н. Бухарина, он списывал черносотенные проявления на «пережитки прошлого».
Изгнанный из России, Троцкий не прекратил борьбу со сталинским режимом. До самой своей насильственной кончины выпускал он «Бюллетень оппозиции большевиков-ленинцев», который внимательно читали во всех столицах мира. «Со смертью Троцкого оппозиция перестала существовать. Канул в историю и «Бюллетень оппозиции», за каждую статью из которого, найденную в СССР при обыске, расстреливали без суда и следствия», – отмечает Ю. Помпеев. Бюллетень, доставляемый в Москву самолетом, читал и Сталин и не скрывал этого, часто цитируя в статьях своего злейшего врага.
Со своей стороны, Троцкий также без всяких обиняков говорит о том, что его статьи направлены против Сталина – врага номер один:
«Сталинский режим мы будем критиковать до тех пор, пока вы нам механически не закроете рот… Мы будем критиковать этот сталинский режим, который иначе подорвет все завоевания Октябрьской революции».
Но происходило странное: чем яростнее нападал Троцкий, разоблачая своего врага, тем безнадежнее терял он свой былой авторитет. В слепой злобе и ненависти он выбалтывал всему миру вопиющие факты и разоблачения. Троцкий писал, доказывал, разоблачал, судился. И, как всегда в таких случаях бывает, чем яростнее он доказывал и опровергал, тем больше наживал врагов, тем меньше было ему веры. Газеты с ним не церемонились, и он это проглатывал.
Газета «Ла Вое де Мехико», орган компартии Мексики, в частности, писала:
«Троцкий, старый предатель, доказывает нам всякий раз, что чем больше он стареет, тем делается большей канальей и большим циником.
Троцкий должен ответить (…) и положить конец своему кретинизму (…)
Как хитер старикашка предатель! Он превосходно знает, что в 72 часа едва ли можно только начать список всех его гнусностей и преступлений, его сообщества с врагами всех народов, начиная с народов СССР, Китая и Испании (в ответ на требование Троцкого в течение 3-х суток представить конкретные обвинения в свой адрес)».
И это Троцкий, который еще недавно был кумиром молодежи России, вершитель Революции и всех ее побед! Умом, наверно, он понимал, что против него идет обыкновенная травля, в какой он сам участвовал не раз. Надо было остановиться, оглядеться, просто замолчать наконец и подумать. Но остановиться он уже не мог и замолчать тоже. В этой борьбе он потерял все. В борьбе, которую вел за освобождение своего народа. Потерял семью, власть, свободу и Россию. Но главное, он потерял дело, которому служил. У него не осталось ничего, кроме слова и остатка жизни. Он торопился отстоять, утвердить свое имя в истории революции, откуда его изгонял злейший и коварнейший враг.
Откровения Троцкого перевернули всю нашу историю революции, приглаженную и принаряженную. Думаю, что Троцкого надо не только читать, а изучать, даже в принудительном порядке, как прежде заставляли изучать «Краткий курс истории КПСС».
Современники так и делали. Следили за «дискуссией», читали листы «Оппозиции» и мотали на ус. Каждый делал выводы для себя, учился на чужих ошибках. Странная и поучительная картина представала перед читателем, отраженная в кривом зеркале истории. В каждой статье «Оппозиции» Троцкий разоблачал Сталина как фальсификатора истории, а сам при этом «раздевал» себя перед всем миром и представал в первозданном, достаточно непривлекательном обличии.
Сталин подтасовывал и «передергивал» факты, отделяя Ленина от Троцкого, Троцкий документально доказывал, что он неотделим от революции и ее Вождя. Хотел того Троцкий или нет, но в слепой злобе и ненависти к своему заклятому врагу он документально доказал, что в разорении России и в уничтожении народа России главенствующая роль принадлежит им – Ленину и Троцкому.
Троцкий признавал, что к 1932 году ГПУ разрушило почти все его связи. Трагическая гибель «трибуна революции» подтверждает его правоту: ГПУ распоряжалось даже в самых отдаленных капиталистических странах, как у себя дома, и от возмездия не ушел никто.
За неделю до своей гибели на суде, затеянном им после первого покушения 24 мая 1940 г., Троцкий будет доказывать, что коммунистическая газета «Ла Вое де Мехико», подобно всем другим агентам ГПУ, получает материальную поддержку от своего хозяина Сталина. Иначе говоря, состоит на службе Кремля.
На службе у сталинской бюрократии состояли «все вожди компартий Мексики», доказывал Троцкий на суде.
Черчилль, который, кстати сказать, и назвал Троцкого «отставным палачом», однажды пожелал:
«Да проживет он еще долгие годы в состоянии бессилия и оцепенения, разъедаемый изнутри озлобленным своим умом и беспокойным характером – это было бы для него лучгпим наказанием!»
Но последней статьей Троцкий сам себе подписал приговор. Статья называлась «Коминтерн и ГПУ». Сталин на эти откровения Троцкого коротко сказал: «Блудить языком можно, но всему есть предел». По выражению Анастаса Микояна, «взаимное раздевание вождей, взаимное их оголение» перед всей страной, а затем и перед всем миром началось на XIV съезде партии в декабре 1925 года и продолжалось до гибели Троцкого.
Глава 2«Иудушка Троцкий»
Кто же из них, Троцкий или Сталин, был более заинтересован в уничтожении Есенина?
Факты свидетельствуют, что до конца 1925 года, до укрепления своих позиций, Есенин нужен был Сталину как союзник, как единомышленник против засилья евреев в советском правительстве: «В первом советском правительстве – Совнаркоме, русских было лишь двое. А из 556 человек, стоявших на вершине советской иерархии в 1917–1925 гг., – 448 были евреи» (И. Лысцов). «Лейба Бронштейн правит Россией, а не должен ей править». Потому Сталин и спасал Есенина от агентов Троцкого, потому в свое время и отправил на Кавказ, в Грузию, под опеку Кирова. Но укрепив на XIV съезде партии свои позиции, заручившись поддержкой Зиновьева, Каменева, Бухарина, т. е. большинства в Политбюро, и замахнувшись на самого сильного своего врага – Троцкого, решил использовать Есенина в дьявольской игре. Гибель Есенина – «ярого антисемита» – должна была сослужить ему хорошую службу.
Умный и дальновидный политик Троцкий не мог не понимать, чем обернется для него и его сторонников убийство Есенина. Всем еще памятен был пресловутый «товарищеский суд» над Есениным и его друзьями. Все знали о том, какие колоссальные усилия приложил Троцкий, чтобы «перевоспитать» Есенина, научить мыслить интернациональными категориями и отказаться от «квасного» патриотизма.
Меняться Есенин не хотел. Но по-человечески Троцкий любил Есенина. Может быть, как раз за честность и бескомпромиссность. Любил и его поэзию. Конечно, за Есениным значилось много прегрешений: из «Пролеткульта» вышел («Я сам по себе»), пролетарскую литературу объявил «мерзостью в литературе» и сделал это принародно, в докладе. Страну социализма, которую отвоевали и создавали большевики, объявил Страной Негодяев. Вождю Революции Ленину приклеил ярлык сфинкса – и понимай, как хочешь, а другому вождю – Троцкому – вручил титул «черного, черного человека». Центральные газеты давно спрашивают: «Как велико долготерпение тех, кто с «попутчиками» такого сорта безусловно возится и стремится их переделать?»
А «Послание Демьяну»? Теперь Есенина осудил бы даже покойный Ленин. Своим стихотворением поэт поставил под серьезное сомнение ленинскую политику наступления на православную веру.
На Троцкого поспешили возложить грех за смерть поэта: мол, он убил Есенина, а потом «написал яркую речь, пышную, как надгробные венки из бумажных цветов» (Н. Сидорина).
Каюсь, я так же думала, пока не изучила и не сопоставила все факты.
А факты свидетельствуют: рано или поздно, но Сталин, обвинявший Троцкого во всех смертных грехах, не преминул бы упрекнуть его и в этом – в смерти Есенина. Но ни разу, повторяю, ни разу такого упрека не прозвучало. Почему? Да потому, что приговор поэту мог исходить от кого угодно, но только не от Троцкого. Троцкому нужен был живой Есенин, и именно как союзник.
А кроме того, нужно знать большевистскую систему: решения об уничтожении не могли выносить отдельные лица, даже если они члены правительства. Такие решения принимались коллегиально, в кругу членов Политбюро. Бумагу пускали по кругу, подписи подсчитывались, а документ уничтожался. Об этом есть много свидетельств: того же Ленина, Глебова-Авилова и других. Позже, когда болезни одолели вождя, решения начали принимать опросом по телефону, но процедура оставалась прежней. Потому и название появилось: принять решение «вкруговую».
Время и репрессии начисто стерли из памяти многих политических деятелей. Способствовала этому и неоднократно переписанная история ВКП (б). Но несложно установить, что Политбюро 1925 года состояло из семи членов. Вот их имена: Троцкий, Бухарин, Рыков, Томский, Зиновьев, Сталин и Каменев. Так вот: по одной из версий, Троцкий был единственным, кто не поддержал приговор Сергею Есенину.
Троцкий – единственный из членов правительства – был на панихиде по Есенину, со скорбью и горечью проводил поэта в последний путь. На вечере памяти Сергея Есенина в МХАТе зачитана его статья-некролог «Памяти Есенина», опубликованная 19 января в газете «Правда». Троцкий нашел душевные, трогательные слова о «незащищенной душе поэта» и о «жестокой эпохе», в которую он жил. «Нет, поэт не был чужд революции, – он был несроден ей (…) Короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой».
Почему Н. Бухарин был так настроен против Есенина? Только ли сатирическая рифма «Бухарин – невымытые хари» или стихи «Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве» имели такое воздействие на советского руководителя?
Среди многих версий убийства Есенина существует и такая: перед отъездом в Ленинград Есенин якобы похвастал, что имеет документ, компрометирующий большевистских руководителей. На просьбу Родионова-Тарасова показать этот документ, ответил, что не дурак носить с собой, что хранится в Ленинграде, в надежном месте. В мемуарах друзья объясняли, что такой компромат действительно был, но он касался Каменева и Зиновьева, запятнавших себя еще в 1917 г. Известен он был и Ленину. Но какое отношение имел этот документ к 1925 году? О нем написали, чтобы втереть очки и отвести подозрения от главного виновника. В 1990-е годы опубликован документ, который в Советской России стал известен в 1924 г. и имеет касательство к стихам Есенина и к его судьбе. Это неизвестное письмо Н. Бухарина другу Илие Британу в Берлин, написанное вскоре после смерти В.И. Ленина.