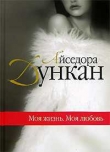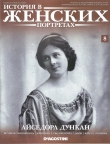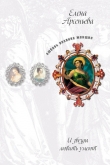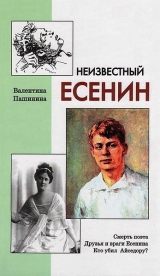
Текст книги "Неизвестный Есенин"
Автор книги: Валентина Пашинина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
Галина Бениславская
Бесконечно любя Есенина, Бениславская попыталась вырвать из сердца отравившее ее чувство. Из этого ничего не вышло – замужество с Л. не состоялось.
После смерти Есенина 1926 год она прожила, видно, только для того, чтобы написать о нем правду, хоть чуточку приоткрыть завесу из плотной ткани лжи и предательства. Закончив дневник, покончила с собой. Сама застрелилась или заставили? Известно, что из партии она вышла после гибели Есенина.
«Л.» – исследователи расшифровывали как Лев Повицкий (вместо Лев Седов, сын Троцкого). Помогать отцу Лев Седов начал с 1923 года, об этом пишет в некрологе Троцкий, впервые обдумывая нелегкий путь старшего сына, ставшего с 1923 года его преданнейшим помощником:
«Оставаясь молодым, он как бы стал нашим ровесником. По собственной воле Лев ушел из Кремля в пролетарское студенческое общежитие, чтобы не отличаться от других. Он отказывался садиться с нами в автомобиль, чтобы не пользоваться этой привилегией бюрократов. Он скоро постиг искусство конспирации: нелегальных собраний, тайного печатания и распространения документов оппозиции. Зимой 1927 года, ни минуты не колеблясь, Лев решил оторваться от своей молодой семьи и школы, чтобы разделить нашу участь в Центральной Азии. Он действовал не только как сын, но прежде всего как единомышленник: надо было во что бы то ни стало обеспечить нашу связь с Москвой. Мы называли его министром иностранных дел, министром полиции, министром почт и телеграфов»
(Ю. Помпеев).
Заметьте, в то время как Галина Бениславская рассчитывала на серьезные отношения, Лев Седов уже имел «молодую семью». Жена с ребенком приезжали к Троцким в Алма-Ату в 1928 году.
Что же касается Льва Осиповича Повицкого (1885–1974), то он в своих воспоминаниях о Есенине предельно ясно пишет, что едва был знаком с Галиной Бениславской. Знакомство их было преимущественно заочным, через Есенина, который не забывал в письмах передавать им приветы.
Кому же потребовалось «расшифровать» дневник Галины Бениславской таким образом, что едва знакомый человек сделался ее любовником? Случайно ли исследователи ошибались?
Ничего случайного в искажении фактов нет, есть целенаправленная ложь: события, факты, характер отношений, даты, имена – все искажалось, путалось, подчищалось, недоговаривалось, все сводилось к намеченным формулам: алкоголик, «психобандит» с манией преследования – самоубийца. Порциями выдаются дозволенные «находки», что десятилетиями лежат в спецхранах. Все фамилии вымараны, кроме дозволенных.
Дневники Галины Бениславской, которые могли бы пролить свет, изданы в сокращении – якобы из-за чрезмерной интимности. Нелепо и смешно читать об интимности дневников в наше время, когда печать и телеэкран заполнены порнографией.
Бениславская вела дневник, где немало досталось есенинским друзьям да и самому поэту, а в 1926 году, видно, под влиянием обрушившейся на Есенина клеветнической литературы начала писать воспоминания, где пыталась объяснить читателю, как невыносимо тяжело было жить Есенину в Москве в последнее время. Вот отрывок из ее дневника:
«Сергей – хам. При всем его богатстве – хам. Под внешней вылощенной манерностью, под внешним благородством живет хам. А ведь с него больше спрашивается, нежели с кого-либо простого смертного.
(…) Я думала, ему правда нужен настоящий друг, человек, а не собутыльник… Думала, что для него есть вещи ценнее ночлежек, вина и гонорара. А теперь усомнилась… стоил ли Сергей того богатства, которое я так безрассудно затратила.»

Галина Бениславская
Из воспоминаний: «Несмотря на все тревоги, столь непосильные моим плечам, несмотря на все раны, на всю боль – все же это была не только сказка. Все же было такое, чего можно не встретить в такую короткую жизнь, но и в очень длинную, и очень удачную жизнь».
Такой же крутой поворот сделала Галина в отношении Николая Клюева:
«Сначала я и Аня Назарова были очарованы Клюевым. Клюев завоевал нас своим необычным говором, меткими, чисто народными выражениями, своеобразной мудростью, чтением стихов (…) Мы сидели и слушали его почти буквально развесив уши».
Но уже через несколько дней мнение резко изменилось. Клюев оказался не просто плохим – отвратительным.
«Ханжество, жадность, зависть, подлость, обжорство, животное себялюбие и обуславливаемые всем этим лицемерие и хитрость – вот нравственный облик, вот сущность этого, когда-то крупного поэта».
Ну и ну! Клюева знали многие. И многие писали о нем. Но чтобы вот так, как Галя… Нет, такого не было. Все грехи смертных нашли воплощение в Клюеве.
Многие отмечают его чудачества: дескать, лицедей, двоящийся в своем актерстве между образованным европейцем и простоватым пейзанином. На люди обряжает красную рубаху и смазные сапоги, а дома сидит в «спинжаке» и при галстуке и «маракует» (изучает) в подлиннике Гейне и Маркса.
«Таинственный деревенский Клюев», по словам Анны Ахматовой, одним виделся скромным, тихим и набожным, другим, напротив, елейным, вкрадчивым, неискренним» (К. Азадовский).
Остается только удивляться и гадать, как это удалось Галине Артуровне за столь короткое время, что жил Клюев в Москве, рассмотреть в нем столько отрицательного, что на всех есенинских друзей и недругов хватило бы? А может быть, и загадки никакой нет, и ответ лежит на поверхности?
«Как приехал «Николай» да увидел, в каких условиях живет его любимый братик Сереженька, так и начал на все лады расхваливать Айседору да уговаривать, чтобы Сереженька вернулся к ней. «Вот бы мне такую бабу!..» На Сереженьку молился и вздыхал».
А после гибели Есенина сказал: «Слушался бы меня, ничего бы с ним не случилось».
Как было Гале спокойно смотреть и слушать, могла ли не возмущаться, смириться, отдать любимого, которого уже и так не чаяла никогда вернуть? В дневнике она писала:
«А. (Айседора), именно она, а не я предназначена ему, а я для него – нечто случайное. Она – роковая, неизбежная (…) Я – «не по коню овес».
Так преданно любить, так самоотверженно – до забвения себя – угождать… На все была согласна: не хочет взять женой, будет подругой. Не подходит эта роль, будет нянькой, мальчиком на побегушках, секретарем – на все готова. И все потеряла, когда явилась божественная Айседора. Конечно, кто устоит перед богиней! Поняла и безропотно ушла в тень. Не ждала и уже ни на что не надеялась. Сам пришел! Сбежал от богини. И тут явился этот «смиренный Николай».
Клюев писал в эти дни в письме: «Я живу в непробудном кабаке, пьяная есенинская свалка длится днями и ночами. Вино льется рекой, и люди кругом бескрестные, злые, неоправданные. Не знаю, когда я вырвусь из этого ужаса».
Некоторым утешением было для Клюева общение с Айседорой Дункан, подарившей поэту свою фотографию с надписью. По этому поводу Клюев сообщал в письме Архипову: «Я ей нравлюсь и гощу у нее по-царски».
Из дневника Галины Бениславской:
«Ведь что бы ни случилось с Е. и А., но возврата нет (…)
Если внешне Е. и будет около, то ведь после А. – все пигмеи, и несмотря на мою бесконечную преданность я – ничто после нее (с его точки зрения, конечно). Я могла бы быть после Л.К., З.Н. (Лидии Кашиной, Зинаиды Николаевны Райх – Авт.), но не после нее. Здесь я теряю».
Собственно говоря, так и было в их отношениях: ценил ее Сергей за преданность. Как женщину не любил никогда.
А в воспоминаниях в 1926 году Бениславская написала:
«Быть может, прав Сергей Александрович: «Клюев расчищал нам всем дорогу. Вы, Галя, не знаете, чего это стоит. Клюев пришел первым, и борьба всей тяжестью на его плечи легла (…)
Быть может, потому, несмотря на брезгливое и жалостное отношение, несмотря на отчужденность и даже презрение, Сергей Александрович не мог никак обидеть Клюева, не мог сам окончательно избавиться от присосавшегося к нему «смиренного Николая», хотя и не хотел этого.
Быть может, из благодарности, что не пришлось ему, Есенину, бороться с этим отвратительным оружием, ханжеством и притворством, в руках; что благодаря Клюеву не испоганилась вконец и его душа, а эта борьба коверкала душу – это и Сергей Александрович сам по себе почувствовал, об этом не раз он с болью вспоминал в последние годы, когда стал подводить итоги, когда понял, что нет ничего дороже, как прожить жизнь «настоящим», «хорошим», когда видел в себе, что все это гнусное все же не захлестнуло подлостью душу, и с детской радостью и гордостью говорил:

Зинаида Николаевна Райх с детьми Константином и Татьяной Есениными, 1925 г.
«Я ведь, все-таки, хороший. Немножечко – хороший и честный».
И на самом деле Сергей Александрович по существу был хорошим, но его романтика, его вера в то, что он считал добром, разбивались о бесконечные подлости окружавших и присосавшихся к его славе проходимцев, пройдох и паразитов. Они заслоняли Есенину все остальное, и только, как сквозь туман, сквозь них виделся ему остальной мир. Иногда благодаря этому туману казалось, что тот остальной мир и не существует, И он с детской обидой считал себя со своими хорошими порывами дураком. И решал не уступать этому окружению в хитрости и подлости, и почти до конца в нем шла борьба этих двух начал – ангела и демона.
А «повенчать розу белую с черной жабой» он не сумел, для этого надо очень много мудрости, ее не хватило».
Читаешь эти, такие противоречивые, строки Бе– ниславской и невольно думаешь: и это пишет женщина, которая, как все уверяют, без памяти любила Есенина?! Любила ли? Или выполняла долг – любить и воспитывать?
Исследователи считают, что перед смертью не лгут. Должно быть, так. Но тогда как понять ее любовные связи? Без памяти любила Есенина, а отдыхать на Черное море поехала с Покровским, а замуж собралась за сына Троцкого? И это все в одно и то же время. А как понять тогда ее письма Эр– лиху – теперь они опубликованы – написанные через три месяца после гибели Есенина, когда еще все раны кровоточат, письма такие пустые, бессодержательные, удручающе равнодушные, с потугами на скоморошество, словно человеку все трын-трава? Обмениваясь письмами, ни Эрлих, ни Бениславская ни словом не обмолвились о человеке, которого они так любили! Возможно ли такое?
Софья Толстая не через три месяца, а через семь лет напишет в годовщину смерти Есенина: «Господи, Сереженька мой, как я могу жить без него и думать, что я живу, когда это только гнилая, затрепанная оболочка моя живет, а я ведь с ним погибла».
Это крик души. Так пишут, когда сердце истекает кровью. Но об этой любви почему-то не принято говорить.
Такие документы, как «Послание евангелисту Демьяну», сохранили и донесли до потомков те люди, которые подверглись репрессиям: ссыльные и узники ГУЛАГа. Людмила Васильевна Занковская и ее супруг работали по распределению в Мурманской области. Однажды, после их лекции один из слушателей, расстегнув свою телогрейку, вытащил из огромного кармана, пришитого грубыми стежками, маленький клочок бумаги, на котором был отрывок из «Страны Негодяев», в те годы еще не опубликованной поэмы.
Благодаря этим людям было найдено и «Последнее письмо Галины Бениславской». Письмо впервые опубликовано в книге Л. Занковской «Новый Есенин» в 1995 г. (И тоже, как «Послание…», не включено в Полное собрание сочинений). Вот что было в письме Бениславской от 16 июля 1925 года:
«Сергей, если Приблудный когда-либо в своих мерзостях пойдет далеко, и притом окружающие забудут, кем он был до сих пор, расскажи об этом Яне (Яне Козловской – Авт.),она, быть может, поможет выявить его физиономию, но только, если это действительно будет нужно, и если он начнет именно тебе делать гадости… Яна тебе большой друг; несмотря на то, что она на жертвы не пойдет, это верный друг.
А Соня Виноградская – ты даже не представляешь, от чего она спасла тебя в 1923 году. Запомни это.
Из твоих друзей – очень умный, тонкий и хороший – Эрлих. Это, конечно, не значит, что ему ничего от тебя не нужно. Но на это, что ему надо, он имеет право. Больше среди них я никого не видела.
Знай еще: Сахаров – Сальери нашего времени, немного лучше, но и намного хуже пушкинского. Он умнее того Сальери и сумеет рассчитать, чтобы не только уничтожить тебя физически (это ему может не понадобиться), но и испортить то, что останется во времени после тебя. Не будь дураком и в дураках, не показывай беспардонную храбрость там, где ее смешно показывать. Ты не имеешь права давать волю твоему истеричному любопытству и лететь в огонь. Помни, что Сахаров может дать только плохой конец, только унизить тебя. Он хорош, пока ты силен и совсем здоров. Имей силу уйти от него. Несмотря на то, что он много отдал тебе. Ты же не виноват, что ему дано очень много, но не все, чтоб быть равным тебе. А зло против тебя у него в глубине большое, ты это как будто сам знаешь.
Ну, а остальных ты видишь? Не слишком доверяй себя Анне Абрамовне (Берзинь). Здесь можно ошибиться и в хорошую, и в плохую сторону. Хорошего она много сделала, и все же внимательно смотри. Мне кажется, тебе надо устроить свою собственную пристань, чтобы не бросать якоря в открытом море. Плавай, но знай, где твоя пристань.
И последнее: по-моему. Толстая очень хорошая (по рассказам о ней; я ведь ее не знаю), будь бережливым, если будешь с ней – не швыряйся ею; она слабее других, меньше знает тебя, ей труднее и не она тебя, а ты ее должен беречь – может статься, что в этом (в ее слабости) и твое спасение.
А зачем я это пишу? И для тебя, и для моего собственного спокойствия, чтобы, уехав, не мучиться сознанием, что не сказала, а тебе может пригодиться. Письмо порви и не болтай о нем направо и налево».
«От этой характеристики «друзей» поэта становится не по себе. Оказывается, еще в 1923 году над поэтом нависла смертельная опасность… Оказывается, что и в ближайшем окружении Есенина есть люди, которые сумеют не только уничтожить физически, но и испортить то, что останется во времени после него» (Занковская Л.В.).
Да, письмо требует осмысления и ответов на многие вопросы. И все ли соответствует мыслям Бениславской? Вот хотя бы ее характеристика Софьи Толстой: сколько в письме внимания, чуткости, деликатности. И куда подевались ее чуткость и деликатность, когда писала дневник?! А ведь дневник заполняла уже после письма – 16 ноября 1925 года.
И кто объяснит, почему Есенин его не уничтожил, как о том просила Бениславская? Не отразилось ли оно на ее судьбе, ведь она называет секретных сотрудников ОГПУ, а этого чекисты не прощали.
Глава 3Почему Есенин ушел от Айседоры?
На этот вопрос по существу ответила Галина Бениславская: не имел морального права Есенин вешать на Айседору своих сестер, своих родителей, строительство нового дома, взамен сгоревшего, и все свои проблемы.
Ей было не легче. «Хорошо откормленное советское общество» не замечало ее трудностей, и потому помощи не было ниоткуда. Спонсировавший ее АРА прекратил свое существование.
И все же интересно отметить, что «босоножка» почуяла, что-то подсказывало ей: Бениславская не та женщина, на которую Есенин мог променять ее, Айседору. Соперницу она увидела в Августе Миклашевской. К ней поехала знакомиться, ей. Августе Миклашевской, сказала то, что думала:
«Вся Европа знайт, что Есенин был мой муш, и вдруг первый раз запел про любоф – вам, нет, это мне! Там есть плохой стихотворень: «Ты такая ж простая, как все». Это вам!»
Она была права: не о ней (Августе) думал поэт, когда писал этот цикл. Тому есть подтверждение. Есенин написал в 1923 году, после возвращения из Америки:
«Сегодня я вытащил из гардероба мое весеннее пальто. Залез в карман и нашел там женские перчатки…
Некоторые гадают по рукам, а я гадаю по перчаткам. Я всматриваюсь в линии сердца и говорю: теперь она любит другого.
Это ничего, любезные читатели, мне 27 лет – завтра мне будет 28. Я хочу сказать, что ей было около 45 лет.
Я хочу сказать, что за белые пряди, спадающие с ее лба, я не взял бы золота волос самой красивой девугпки.
Фамилия моя древнерусская – Есенин. Если переводить ее на сегодняшний портовый язык, то это будет – осень.
Осень! Осень! Я кровью люблю это слово. Это слово – мое имя и моя любовь. Я люблю ее, ту, чьи перчатки держу в руках, – вся осень».
Н. Никитин написал: «Какая полынь отравила этот роман, я не знаю». А Мариенгоф, как всегда оригинальничая, в романе «Мой век…» тоже выскажет свое мнение:
«– Почему, мой друг, ты не женился на этой знаменитой и богатой женщине?
– Да потому, – ответил мужчина, – что не хотел стать женой своей жены.
Вот только не помню, в каком веке был этот разговор».
Айседора Дункан после смерти Есенина в парижской прессе объявила: «Протестую против легкомысленных высказываний, опубликованных американской прессой в Париже. Между Есениным и мною никогда не было ссор, и мы никогда не были разведены. Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием».
И это была истинная правда, которую тоже погребли под нагромождением лжи. Это ей, своей Изадоре, пишет Есенин в мае-июне 1925 года:
Айседора Дункан
Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.
Но есениноведы до сих пор адресуют эти стихи Августе Миклашевской.
Глава 4В защиту Анны Берзинь
Гулагом проверенный человек.
В. Кузнецова
Роль Анны Берзинь в судьбе Есенина до конца не понята. Несмотря на доброе отношение к ней самого поэта, исследователи, со слов «друзей», приписывают ему отрицательный отзыв о ней.
Кто же она: добрый ангел-хранитель, который помогал ему уходить от врагов в последние два года жизни, или «набитая дура и подлица»?
Известно, что сестры Есенины не жаловали Берзинь – «очередная любовница», обижались и на неполную выплату за посмертное собрание сочинений Есенина (от нее ли это зависело?).
В дневнике Софьи Толстой есть запись не в пользу Анны Абрамовны: «Говорит, «предлагаю товарообмен» – дает рукопись «36-ти» в том варианте, когда она называлась «26», и за нее просит 4 тома Гиза. Торгует бессовестно, а я даже не могу выразить ей своего отвращения – боюсь отпугнуть и потерять его рукопись. Не могу отдать последние книги, и сердце разрывается – как же быть?»
Оскорбление тяжкое: «набитая дура», «подлица» – и пусть это всего два слова, но это, по существу, два библейских гвоздя, которыми Анну Берзинь прибили к позорному столбу. Странно другое: Есенин друзей не оскорблял, разве только Мариенгофа, поссорившись, но и тому, говорят, как истинный христианин, первым протянул руку.
Вокруг Есенина не могло быть случайных людей в том смысле, что это были проверенные, преданные делу революции люди. Им, своим сотрудникам, чекисты старались обеспечить приемлемую «легенду», алиби. Не потому ли рядом с убитым Есениным не было ни Бениславской, ни Вольпин?

Анна Верзинь с дочерью, 1928 г.
Впрочем, позднее убирали всех, кто так или иначе был близок к Есенину. Поплатились все: кто – за свою дружбу, расположение, кто – за то, что укрыл когда-то, сберег от расправы, продлил ему жизнь, а кто – за то, что стал свидетелем преступления власти против поэта.
Анна Абрамовна Берзинь – русская, дочь псковских крестьян, была комиссаром в отряде героя гражданской войны Оскара Берзиня (расстрелян в 1937 года). В трудные годы войны вышла за него замуж, затем окончила Тимирязевскую академию. Много читала. И сама печаталась под псевдонимом «Ферапонт Ложкин». Работала редактором крестьянской литературы в Госиздате. Весной 1929 года в Москву приехал польский писатель и поэт Бруно Ясенский. Его она пошла встречать на вокзал вместе с сотрудниками отдела, там они познакомились и больше не расставались до самого его ареста.
Саму Анну Абрамовну арестовали за то, что она категорически отказалась отречься от мужа, которого объявили «врагом народа». Из партии исключили, хотя проголосовали не все. Фадеев лично отобрал партбилет. Судили Анну Берзинь не как члена семьи врага народа, а за связь с польской разведкой, то есть ее тоже сделали врагом народа. Приговор – 8 лет лагерей, по окончании – поселение в Коми АССР.
Две дочери остались у бабушки. Восьмилетнего Андрея отправили в детский дом (Андрей был сыном Б. Ясенского от первого брака, воспитывался Анной Берзинь).
Анна Абрамовна восемь лет отсидела в лагерях Коми и столько же, почти до 1956 года, оставалась на поселении там же, в Княжпогосте. Выжила благодаря своим качествам, за которые ее все любили, ценили, берегли по мере возможности. Сберегли, возможно, для того, чтобы сумела опубликовать рукопись своего мужа Бруно Ясенского «Заговор равнодушных» и написать воспоминания о Есенине. Мемуарная рукопись давалась ей с трудом. Годы заключения крепко подорвали здоровье. Внимания и заботы требовала и совсем больная, прикованная к постели мать Анны Абрамовны – Анастасия Панкратьевна Фаламеева. Большую переписку вела Анна Абрамовна со своими молодыми друзьями Сашей Жолондзем и его женой Ирмой. Все письма они бережно сохранили и пронесли через всю свою жизнь чувство любви к этой удивительной женщине огромной культуры, энциклопедических знании, красивои, щедрой, душевной и необыкновенно умной.
Привожу отрывок из сбереженного ими письма от 14 мая 1956 года, написанного после реабилитации, когда Берзинь уже вернулась в Москву.
«Саша, милый, все так же вокруг нас молодежь, и молодежь, конечно, очень хорошая. И я рада, что ты написал – это продолжение моей жизни и лишний раз подтверждает, что я живой, что я советский и партийный человек. Столько видеть и не свихнуться, очень трудно.
Я послала тебе отчет обо всех делах. Все это интересно и страшно, ведь так легко было пропасть морально и физически, а вот все же выбрались оттуда, кажется, даже пострадав меньше, чем деляги из теперешних писак. Вчера в два часа застрелился Фадеев. Зачем он это сделал? Все же он лучше, чем я о нем думала. Я считала его последним подлецом, без стыда и совести, а оказалось, что он все же имел еще живую душу и совесть».
После опубликования рукописи Бруно Ясенского на ее имя стали приходить письма не только от знакомых, но и от людей, которых она никогда не знала. Письма благодарности. А однажды получила телеграмму, кажется, из Южно-Сахалинска (на имя Суркова): «Прошу передать мое уважение жене Бруно» и подпись: Валентин Российский.
Каких трудов стоило Анне Абрамовне спасти и сохранить рукопись! Ведь хранила она ее в сыром бараке, на берегу р. Кылтовка, где жила после заключения. Хранила, рискуя многим, под дощатым полом. Рукопись, написанную чернилами, приходилось часто просушивать, восстанавливать расплывшиеся от влаги страницы.
Наверно, и не сберегла бы А. Берзинь труд мужа, тем более, что в 1951 году ее перевели на станцию Кола – под Мурманск. Чтобы не рисковать, она доверила ее комсомольцу Александру Жолондзю. Он был единственным не репрессированным артистом из большого коллектива художественной самодеятельности, которым руководила Анна Берзинь на Центральном отдельном лагерном пункте (ЦОЛПе) Севжелдорлага МВД СССР в поселке Княжпогост.
По воспоминаниям Александра Жолондзя, «это был странный лагерь, в нем находились в заключении видные актеры, бывшие в свое время гордостью советского театра, прекрасные музыканты, крупные ученые и очень много выдающихся врачей».
Жолондзь вспоминает случай, когда у Маши Жеуску случились преждевременные роды, она была уже в состоянии клинической смерти, Анна Абрамовна, работавшая в больнице медицинской сестрой, бросила лагерным врачам: «Не можете спасти человека!» Это было вызовом. Двое суток боролись они за жизнь Маши и двоих ее детей-близнецов. И спасли всех. Работа врачей осложнялась нежеланием женщины жить. Высланная из Польши Мария Ржевутская (Жеуску она стала в лагере – так записали фамилию на слух) приготовилась к смерти. Когда врачи выписали Машу Жеуску из больницы, идти ей было некуда. Анна Абрамовна привела ее с детьми в свой барак, где все приготовила для матери и ее малюток. Из таких же ящиков, какие служили ей мебелью, сделала кроватки. Она помогала Маше растить Петю и Алину, а те, когда научились говорить, обеих женщин звали мамами.
Когда Анну Абрамовну ссылали, к счастью для нее, не надолго, в Карело-Финскую республику, она не забывала присылать деньги на воспитание малюток. Позже М. Жеуску уехала с детьми в Польшу.
В 1951 году в места ссылок за подписью Молотова был направлен правительственный циркуляр: «Бывших политических заключенных использовать только на физической работе». А. Берзинь с ее плохим здоровьем этот циркуляр обрекал на смерть. Всеми правдами и неправдами лагерное начальство добилось возвращения А. Берзинь в Княжпогост. к тому времени в Микуни выстроили большое, красивое здание театра. И Берзинь ездила 50 км на поезде, чтобы, как и раньше, руководить художественной самодеятельностью.
А. Жолондзь рассказывает: «Мне в этом Дворце культуры поручили отвечать за художественную самодеятельность. К счастью, в Княжпогост вернулась Анна Абрамовна. Ее удалось уговорить приезжать в Микунь, чтобы она занималась подготовкой концертов и спектаклей. Ночевать она оставалась у меня вместе со своим мужем и сколько всего интересного из своей легендарной и трагической жизни рассказывала она.
В Микуни Анна Абрамовна пригласила для работы с ней чудесную молодую женщину Тамару Петкевич, которая до ссылки в Микунь была ведущей актрисой лагерного театра. Ее отец, поляк по национальности, был расстрелян, а ее, совсем молодую девушку, арестовали, и 10 лет она пробыла в лагерях без всякой вины.
К 1 мая 1952 года Анна Абрамовна решила поставить спектакль «Белый ангел» – о белой девушке, которая полюбила негра, а страшная в своей жестокости система губит их любовь. Роль негра должен был исполнять я, а белую девушку – Тамара.
Но за два дня до премьеры меня вызвали в НКВД и сказали, что Тамара как «враг народа» не имеет права играть в этом спектакле, а Анна Абрамовна не имеет права работать в Микуни.
Но так как приглашения на спектакль уже были разосланы, а срыв концерта имел нежелательные последствия, то разрешение на один спектакль было получено, хотя и предполагали, что после концерта Тамару вновь арестуют. Нервы у нас были напряжены до предела. Но спектакль прошел с большим успехом. В сцене, где я должен был оттолкнуть слегка Тамару от себя, я сделал это так сильно, что она буквально пролетела всю сцену. Этой же ночью (после спектакля) Тамара нелегально убежала из Микуни и скрывалась до самой смерти Сталина и только в 1956 году была полностью реабилитирована, затем окончила театральный институт. Сейчас она живет в Ленинграде и написала книгу о своей нелегкой судьбе и тех людях, кто был с ней в лагерях, «Жизнь – сапожок непарный».
После этого спектакля больше я никогда в жизни на сцене не выступал. В августе 1952 года я уехал в Ленинград, где поступил учиться в железнодорожный институт».
Анна Абрамовна и ее муж были реабилитированы только в 1956 году, получили прекрасную квартиру в высотном доме, где находится гостиница «Украина», но ее все время мучил вопрос, где находится Андрей – сын Бруно Ясенского от первого брака. Когда мужа и ее арестовали, мальчика отправили в детский дом, и с 1938 до 1956 года о нем ничего не было известно. Все запросы относительно судьбы Андрея оставались без ответа. И только в 1956 году после опубликования в журнале «Новый мир» романа «Заговор равнодушных» Ясенский-младший нашелся и рассказал о своей нелегкой судьбе.
Впоследствии Анна Берзинь говорила: «Я осталась жива благодаря Семену Ивановичу Шемену». Кто же в те годы не слышал этого имени! Почему он благоволил А. Берзинь? Может быть, она напоминала ему жену, так же как Берзинь, находившуюся в сталинских лагерях только за то, что она была полькой, а Семен Иванович не захотел отречься от жены, как не захотела отречься от мужа Анна Абрамовна?
Начальник управления, полковник, а впоследствии генерал С.И. Шемена в 1938 году был военным атташе в Чехословакии, а его жена, полька, была арестована как «шпионка». Семена Ивановича перевели на должность начальника Управления строительством Сев. – Печ. лагерей из центрального аппарата.
«Несмотря на работу в органах он был порядочным и культурным человеком, сделавшим много добрых дел отдельным заключенным», – так пишет о Семене Ивановиче бывший заключенный этого лагеря, впоследствии работавший директором Дома культуры, Соломон Ерухимович. У него работала Анна Абрамовна Берзинь руководителем драмкружка после своего освобождения.
Культура в те годы здесь, на Севере цвела пышным цветом, благо талантливых актеров было много. Образ начальника управления С.И. Шемена описан талантливым летописцем эпохи А. Маленьким в романе «Покорители тундры». Теперь эта книга – библиографическая редкость.
Алексей Маленький, он же Попов Алексей Георгиевич, был арестован в 1937 году тоже как «враг народа». Летопись свою вел, конечно, с разрешения высокого начальства. В 1947 году умер, не дожив трех дней до своего освобождения. Роман А. Маленького остался уникальным памятником сталинской эпохе и пока единственным подобного рода о великой стройке века – Северо-Печорской железнодорожной магистрали, протяженность которой составила 1847 км к моменту ее завершения в 1943 году. Еще шла Великая Отечественная война, а 914 человек в 1943–1944 годах были награждены орденами и медалями. Среди них, конечно, и Семен Иванович Шемена был удостоен ордена Ленина.
Ни «на подлицу», ни на «дуру», тем более «набитую», Анна Абрамовна никак не тянула, напротив, всех удивляла и поражала образованностью, необыкновенной эрудицией, энциклопедическими знаниями, добропорядочностью и человечностью.
Жолондзь и говорит о ней восторженно: «Красавица! Умница!» Посмотрев на фотографии, я усомнилась.
– Ну, что вы! Ведь это после лагеря. Она тяжело болела, У нее была слоновья болезнь, потому и располнела. Какие удивительные голубые глаза! А когда начинала говорить, умолкали все, ее можно было часами слушать.
Ирма, жена Александра Львовича, дополняет:
– Когда приезжали в Москву, я об этом даже не сообщала родным: они обижались, что мы их забыли и не заходим. А мне даже в театры ходить не хотелось. Накормим всех, уложим спать, закроемся на кухне и сидим до 4-х, до 5 часов ночи (или утра)!..
Ближе, роднее ее у нас никого не было! А скольких ее друзей узнали! С какими писателями и поэтами познакомились! Леонид Леонов каждый день звонил, а то и два раза в день. Эльза Триоле с Луи Арагоном тоже к ней приезжали! Кажется, вся писательская Москва знала и уважала ее. Здесь непременно останавливались политзеки и актеры княжпогостского театра. А письма ее! Вы читали, какое чудное письмо она написала ко дню нашей свадьбы?! Сама приехать не смогла.
Письмо я прочитала. Да, именно такие слова – напутствие молодоженам – должны звучать вместе с музыкой Мендельсона.