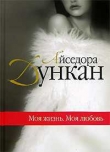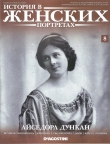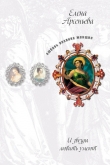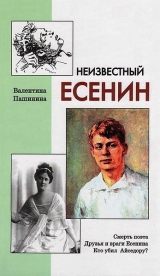
Текст книги "Неизвестный Есенин"
Автор книги: Валентина Пашинина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
Так бесполезно прошло три месяца, когда в один прекрасный день Айседоре позвонил Луначарский и сообщил радостную весть, что у него есть для нее дворец в самом центре Москвы. Эта добрая весть так подействовала на Айседору, что она заплакала от радости. Наконец-то они увидят, чего можно достигнуть. О, этого стоило ждать. Звезда ее взошла. У нее перехватило дыхание от радостных переживаний.
Теперь она получит дворец знаменитой балерины Балашовой и в нем все, что мог купить явно отвратительный вкус на неограниченные средства. К счастью, дворец несколько раз грабили, и в нем осталось очень мало мебели. Сам дом был отличной пропорции.
Айседора развесила повсюду объявления, что возьмет пятьдесят детей, способных к танцам. На следующий день ввалилась толпа детей, но, к сожалению, всех их взять Айседора не могла. Плач и душераздирающие вопли малышей, причитания и взаимные упреки матерей были ужасны. Малыши, протягивающие к ней свои ручонки скелетов с пальчиками толщиной в соломинку и кричавшие «Айседора, Айседора!», чуть не довели ее до сердечного приступа. Она приняла вдвое больше детей, чем было мест, а потом не знала, что с ними делать».
О том, что в школе Дункан было «вдвое больше детей», пишут и другие исследователи. Ясность вносит Илья Шнейдер: «На предварительные занятия ходило вдвое больше детей. Из этих детей Айседора отбирала 40 человек, раздавая на занятиях красные билеты. Илья Шнейдер дает некоторое представление о работе персонала школы, которого оказалось в полтора раза больше, чем детей. Его называли организационным комитетом школы:
«Сорок детей уже жили в школе, но сама школа еще не существовала. Распорядок дня, выработанный Дункан, соблюдался плохо. Общее образование, предусмотренное тогда в объеме семилетки, велось сумбурно. Среди набранных преподавательниц-руководительниц только две были с педагогическим опытом. Организационный комитет не мог наладить даже быт, хотя персонала было в полтора раза больше, чем детей».
С горечью и иронией вспоминала и Ирма, как школу наполнили персоналом, и вместе с персоналом прибыло огромное количество всевозможной сверкающей посуды, в которой, к сожалению, нечего было готовить.
Всех детей и персонал надо было накормить, а так как правительство из-за долгого обсуждения и волокиты еще не приняло решения о группе, она достала остатки привезенных с собой консервов. Обучение началось. О, как эта школа отличалась от ее первой школы в Грюневальде в Германии, где стояло сорок белых кроваток, украшенных изящными занавесками с голубыми бантиками! А здесь все, что Айседора могла сделать, это положить доски на прибитые вдоль стен планки, постелить одеяла и уложить на них по 3–4 человека. Одеяла Айседора достала у представителя Организации американской помощи…
Школу открыли в середине октября, через три месяца после ее приезда. Но скоро ее пришлось на время закрыть, а детей отправить домой, потому что дворец на Пречистенке не отапливался. Надо было еще поставить печь.
И все-таки 7 ноября Айседора с детьми уже выступала в Большом театре, где проходили Октябрьские торжества. В зале был Ленин, и от его имени Ирме Дункан и детям вручили букет цветов.
Рассказывает Ирма: «Большой театр в Москве вмещает свыше трех тысяч человек, но в десятки раз больше коммунистов рвались увидеть танец Дункан, о котором столько раз говорили. «Правда», «Известия» и все рабочие газеты помещали высказывания читателей о всемирно знаменитой танцовщице, которая столь мужественно покинула «гибнущую капиталистическую Европу» ради того, чтобы приехать работать для детей Советской Республики».
«Известия» писали: «Давно уже подмостки академического Большого театра не видали доподлинного праздника». Воздав хвалу ритмике и пластике и полному слиянию с музыкой, автор статьи «особливо» (слово из текста) останавливается на «Славянском марше» Чайковского, который был «гвоздем программы». «Это в полном смысле контрреволюционное произведение… Но Айседора показала, что может сделать с вещью, совершенно несозвучной современности, одаренный артист.
На фоне музыки Чайковского Дункан изобразила в захватывающей мимике и пляске согбенного, тяжко плетущегося, утомленного, скованного раба, силящегося порвать оковы и наконец падающего ниц от изнеможения. Но посмотрите, что делается с этим рабом при первых звуках проклятого царского гимна: он с усилием приподнимает голову, его лицо искажает безумная гримаса ненависти, он с силой выпрямляется, напрягает нечеловеческие усилия, чтобы порвать рабские цепи.
Это ему удается сделать в конце марша…
Раб выпрямляет искривленные пальцы, он простирает застывшие руки вперед – к новой радостной жизни.
Аллегория была понятна всем. Шествие раба по сцене – это крестный путь придавленного царским сапогом русского трудового народа, разрывающего свои цепи. В исполнении Дункан царский гимн прозвучал, как это ни парадоксально, революционно».
О том же свидетельствует И. Шнейдер: «Ленин, присутствовавший на концерте, был потрясен «Славянским маршем» и, вскочив, кричал: «Браво, браво, мисс Дункан!»
Как это ни странно, именно этот танец запретят в Кисловодске чекисты, именно из-за «Славянского марша» вспыхнет скандал после яростного сопротивления Айседоры чекистам.
И все-таки, как рассказывает Ирма, наиболее взволновалась публика, когда оркестр заиграл «Интернационал». «Айседора вышла на середину сцены и там встала твердо, неподвижно, как статуя, задрапированная в красное, и начала одной мимикой изображать крушение старого мира и приход нового – братства людей. Весь зал встал, и все горячо подхватили слова этого гимна. И в это время из глубины сцены вышла Ирма, ведя за руку ребенка, за которым вышли один за другим сто маленьких детей в красных туниках, каждый высоко поднятой правой рукой крепко сжимал левую руку следующего. На фоне синих занавесей ярким живым бордюром они окружили огромную сцену, протягивая свои детские ручонки к светлой, величавой, бесстрашной и лучезарной фигуре своей великой учительницы».
Несмотря на триумфальное выступление в Большом театре, несмотря на то, что 3 декабря 1921 года школа была открыта официально и носила теперь гордое имя Государственная школа Айседоры Дункан, ее пришлось закрыть. Не было топлива. Не была еще провозглашена Лениным и новая экономическая политика. Это случится скоро, и НЭП сразу изменит лицо страны, а пока Айседора опять была поставлена в крайне затруднительное положение. Шесть месяцев прошло со дня ее приезда, и теперь она должна была сказать: либо ее умышленно обманули, и ей остается вернуться к своей карьере в «европейском мире», либо она должна остаться в Москве и бороться за сохранение этой новой школы.
Айседора выбрала второй путь, очень нелегкий для того времени. Ей пришлось много выступать, давая платные представления в театре Зимина. «На доходы от этих выступлений она купила дрова и продукты для своих маленьких воспитанников, а на Рождество елку. Денег на игрушки не было, украшения делали сами». Как писала Ирма Дункан, «вид неподдельно, от души радующихся детей, весело пляшущих вокруг своей первой рождественской елки, по-настоящему вознаградил Айседору за ее хлопоты и помог до некоторой степени подсластить горечь ее разочарований. Великая мечта Айседоры о большой бесплатной школе, поддерживаемой мудрым и благосклонным правительством, потихоньку начала рушиться».
В апреле Айседора дает телеграмму в Америку своему импресарио Юроку, предлагая свои выступления с детьми. Юрок принимает предложение, но предлагает перенести гастроли на осенний сезон.
Советское правительство могло облегченно вздохнуть с отъездом Айседоры, но детей из страны не выпустило, резонно опасаясь их невозвращения и за свой престиж: «Нам-то на все наплевать, но перед иностранцами неудобно».
Почему так нелепо в Советской России смотрелась эта «великая босоножка», которая чудом своего искусства покорила весь мир? Может быть, она действительно привезла с собой атмосферу богемы и разложения? Может, советское правительство вынуждено было тратить деньги не на голодающих детей, а на нее и ее окружение, как об этом писали тогда и пишут до сих пор?
Нет никакого сомнения, что Айседора мешала советскому правительству, мешала со дня своего приезда.
Пригласили! А с кем согласовали? И кто из большевистских руководителей мог всерьез верить, что Айседора примет приглашение? Потому и пообещали храм и Ливадийский дворец, а на деле даже встретить приглашенную на вокзал не явился никто. Потому что никто ее не ждал.
Айседора приехала 24 июля 1921 года. Это было время, когда большевики ввели жесточайшую экономию. Экономили на всем, а страдала, как всегда, в первую очередь культура. Урезали пайки даже строителям элекстростанции, которую лично курировал Ленин. Сокращали «едоков» на заводах и фабриках. На рассмотрении комиссии стояло предложение, «не представляется ли возможным снятие с пайков всего нетрудового населения Москвы».
23 июля 1921 года (накануне приезда Дункан) Ленин подписал документ «Об аресте на одно воскресенье председателя Петроградской коммуны Бадаева и двух его ближайших сотрудников в связи с неисполнением приказа по сокращению на 30 процентов продовольственных пайков снабжаемых коммуной потребителей в связи с тяжелым продовольственным положением».
А тут явилась эта «Дунька» и требует тысячу детей. А дать ей тысячу детей, это значит – дать тысячу пайков да содержать школу, да обслуживающий персонал, да мало ли чего еще! И все этот Луначарский! Сует нос, куда его не просят.
«Айседора не была такой простушкой, как ее описывают: открытая душа и широкая натура. Жизнь научила ее всему: и хитрить, и изворачиваться, и льстить, и скрывать истинные чувства. Была она умной, наблюдательной и хорошо разбиралась в людях», – об этом свидетельствует Лола Кинел.
Что думала Айседора о большевистских руководителях на самом деле, остается только догадываться. «Вслух» в интервью она однажды сказала: «Удивительные люди, эти красные комиссары, – думала я. – В нашей разоренной стране они находят время и желание, чтобы помочь какой-то сумасбродной даме воплотить в жизнь ее фантастическую мечту!» И при этом Айседора видела, ежедневно обходя все кабинеты, тщетно добиваясь открытия школы, что у красных комиссаров не было ни времени, не желания заниматься «сумасбродной» иностранкой и воплондать в жизнь ее мечту. И не было, главное, возможности.
В день ее приезда нарком иностранных дел Чичерин пишет Ленину письмо, жалуется, что перегружен делами, а ему навязывают устройство дел артистки Дункан, приехавшей по приглашению Красина и Луначарского.
Вот история Ливадийского дворца и собольей шубы, по поводу которых так откровенно и долго издевались все, кому ни лень. По воспоминаниям Ирмы Дункан, Айседоре обепдан был Ливадийский дворец в теплом Крыму, и поэтому они не взяли с собой никаких теплых вещей. Наступили октябрьские холода, и Красин, с которым они посоветовались, достал им ордер и посоветовал самим поехать в хранилище меховых вещей и подобрать хорошие шубки. Ирма присутствовала при этом, потому подробно и занимательно поведала историю с меховыми шубами. Описание сказочного мехового царства в пещере Аладдина – это документ эпохи, он сам по себе интересен и достоен внимания. Здесь приводится только небольшой отрывок.
«Когда они добрались до склада, их ввели в настоящую пещеру Аладдина, холодную, как лед. Зрелище, представшее их глазам, могло вызвать у любого члена союза мехоторговцев апоплексический удар от зависти и алчности. На стеллажах и вешалках, ряд за рядом, размещались шубы, накидки, горжетки, палантины, шапки, пелерины и пледы из всех наиценнейших мехов мира. Тут было множество бархатных пелерин, отороченных мехом черно-бурой лисицы, использовавшихся в былые дни для того, чтобы укутывать шикарно одетых аристократок, когда те ездили в санях. Тут были в несказанном количестве длинные накидки-безрукавки из горностая, норки, соболя, персидского каракуля. Здесь были сотни шуб, сшитых из одного ценного меха и отороченных другим; и тысячи шуб попроще из всех мыслимых шкур, среди которых овчина и кролик были вульгарным исключением. Горжетки из уникальных, роскошных голубых песцов висели красочными связками, и были также и другие, из черно-бурых лисиц, горностая, соболя. Ковры для карет и саней из медвежьих шкур, рыжих и белых лисиц, норки, каменной куницы, белки и даже соболя были навалены тут высоченными штабелями».
Из мехового сказочного царства они вышли с шубами, с которыми пришлось расстаться в той же конторе того же мехового склада: предстояла оценка меха. Через неделю им сказали: «Если товарищ Дункан озаботится заплатить столько-то тысяч золотых рублей или столько-то миллиардов бумажных, то обе шубы, несомненно будут доставлены ей на дом».
Эпилог истории с меховыми шубами наступил спустя несколько дней, когда Айседора репетировала в театре. Готовилось выступление к 4-й годовщине Октябрьской революции.
«Она закончила сама репетировать с оркестром и собиралась начать репетицию с детьми, когда первый скрипач посмотрел на часы и встал, собираясь уходить. Его время вышло. Даже для самого Ленина он не стал бы работать сверхурочно.
Айседора через переводчика сказала: «Вы знаете, что дети все это время простояли на сквозняке на сцене, терпеливо дожидаясь своей репетиции?»
Дирижер (Голованов), однако, никак не прореагировал, а, напротив, дав знак остальным музыкантам, тоже поднялся уходить. Айседора начала опять:
– Я проделала весь этот путь, чтобы помочь детям России. Я с готовностью жертвую многим ради этой задачи. Конечно, товарищи, вы можете пожертвовать несколькими минутами и сыграть для этих детей.
Скрипач прорычал переводчику:
– Да, мы знаем, зачем она приехала в Россию. Она приехала за дармовой собольей шубой.
И с издевательским хохотом все они вышли из оркестровой ямы, оставив Айседору, оскорбленную до слез, продолжать репетицию представления, которое она собиралась дать бесплатно для рабочих Москвы».
Из десятка тысяч шуб красные комиссары не пожелали выделить две для приезжих артисток. И это в то время, когда Айседора давала в Большом театре бесплатные представления для рабочих Москвы.
Сам по себе факт может быть и незначительный, но, несомненно, оскорбительный для гордости Айседоры. Главы правительств всех стран мира считали за честь познакомиться с великой Айседорой. В Советской России ни Ленин, ни Троцкий в 1921 г. не нашли времени принять и выслушать Айседору. Не примет ее и Троцкий в Кисловодске, когда она будет искать у него поддержки и заступничества от вмешательства чекистов, посягнувших на ее репертуар.
Откуда пошло, что Дункан вела богемный образ жизни? Об этом пишут Анатолий Мариенгоф, Илья Шнейдер, Юрий Анненков и другие, те, кто присутствовал на ее вечерах. Об этом пишет и Ирма Дункан, правда, несколько иначе:
«Раз в две недели Жанна ходила со своей большой рыночной корзиной в кремлевский распределитель получать паек для своей товарища-хозяйки. И раз в две недели, когда паек прибывал домой, Айседора со своей обычной бездумной щедростью устраивала вечер с блинами для всех своих друзей – вечно полуголодных поэтов и артистов. Они, кажется, заранее предвкушали эти дни. Через несколько часов весь запас белой муки полностью бывал исчерпан на приготовление блинов, на которые намазывался весь запас икры».
Что ни говори, а написано не без некоторого сожаления. Да и понять это можно, ведь речь идет о холодном и голодном времени России, а Айседоре словно все трын-трава.
Блины с икрой съедались в тот же вечер, в другие дни была картошка. С юмором рассказывает Ирма, как в обычные дни повара в белых колпаках «оттачивали свое кулинарное искусство», изощряясь в приготовлении картофеля: на серебряных тарелках, украшенных гербами, чеканкой и гравировкой, «они подавали к столу картофель, жаренный в масле («сотэ»), картофель «Новый мост», суфле, картофель «Лионский», картофель «Булочник», картофель крестьянский, жареный в духовке, отваренный на пару, пюре на козьем молоке, взбитое, винегрет и т. д. и т. п. А когда их профессиональные и умственные способности полностью истоптались от придумывания новых способов, они приносили к столу на тяжелых, аристократических серебряных блюдах картошку в мундире!
Трудно поверить, что Айседоре нравилось один раз в две недели есть блины с икрой, а в остальные дни питаться одной картошкой. За блинными вечерами стояло другое. Об этом ее первая статья, опубликованная в одной английской газете. Ее, именитую танцовщицу, приехавшую в голодную Россию, с радушием встречали многие знакомые и незнакомые товарищи, часто приглашали в гости. Ирма рассказывает, как театральный антрепренер и композитор Бенедиктов в том же месяце пригласил их на завтрак и угощал такими деликатесами, что Айседора невольно воскликнула: «Но это же как в Ритце!» Вот именно, как в Ритце, как в лучших ресторанах Парижа, в то время как столица сидела на голодном пайке.
Очарованный Айседорой Бенедиктов подарил ей картину старых мастеров, на которой были изображены три ангела. Позже, познакомившись с Есениным, она нашла большое сходство с белокурым ангелом. Картина ей очень понравилась, велела повесить над кроватью, часто подолгу смотрела на нее, даже разговаривала со своим «дарлингом», а когда сердилась на Есенина, грозила ангелу пальцем.
Ирма называет Бенедиктова антрепренером и композитором, по другим источникам, он принадлежал к армии тех антикваров, которые, подобно Арманду Хаммеру, переправляли за рубеж награбленные большевиками ценности России. Кстати, Айседора была близко знакома с Армандом Хаммером и его русской женой певицей Ольгой Вадиной.
В те же дни Айседора познакомилась с большевиком, которого сразу выделила из обпдей массы руководителей и о котором тотчас захотела рассказать в зарубежной печати. Это был Николай Ильич Подвойский. «Он стал предметом громадного и продолжительного восхищения танцовщицы». Его называла в письмах не иначе, как «Божественный Подвойский».
Айседора Дункан и Николай Подвойский
Чем же привлек ее внимание этот человек? Своей порядочностью, скромностью, аскетизмом. Не позволял себе никакой роскоши, никаких излишеств, довольствовался малым. Должность военачальника и полководца Красной армии и тяжелые раны позволяли жить в роскоши, иметь персональную машину и санаторные условия, а он довольствовался тем, что имел: маленький домик из двух комнат на Воробьевых горах, жену и пятерых детишек. По ранению он отошел от командных должностей, но и будучи рядовым армии коммунистов, не отошел от важных и нужных дел в строительстве новой жизни – с юной армией молодежи он строит храм спорта на Воробьевых горах. На этом стадионе он воспитывает новую смену бойцов за идеалы социализма, строителей новой жизни.
В маленькой комнате Айседора дала его детям урок танца. Подвойский восхитился: «Айседора, это прекрасно. Я едва узнаю своих детей. В одночасье они стали неузнаваемы. Но я боюсь, что вы слишком мягко относитесь к ним. Они должны расти, как солдаты революции».
А ее Айседоре запомнились его слова, касающиеся личности педагога: чтобы научить юношей и деву шек великим героическим движениям, Айседоре самой надо жить более героически:
«Европа избаловала ваш прекрасный героический дух. Многолетние успехи изнежили вас. Вы должны прийти сюда и жить с нами, как живем мы. Тогда вы будете совершенной».
Подвойский преподал Айседоре и наглядный урок – повел ее по узкой крутой тропинке. Подошвы заскользили по камням, тропинка стала совсем трудной, почти отвесной. И когда Айседора была совсем измучена и испытывала раздражение, услышала назидательные слова своего провожатого:
– Я повел вас этой узкой извилистой тропой: это символ. Я хотел показать вам, что, если вы пожелаете остаться в России, ваш путь будет в точности как эта узкая, крутая тропа. Не театры, оркестры, аплодирующая публика – нет. Идите среди людей. Танцуйте в маленьких сараях зимой, на открытых полях летом. Учите людей постигать смысл ваших танцев. Учите детей. И не требуйте благодарности.
Был ли этот урок преподан Божественным Подвойским, или Айседора таким наглядным примером выразила свои мысли, во всяком случае в статье написала:
«Духовную правду того, что происходит здесь, я рассматриваю как блистательное видение будущего. Пророчества Бетховена, Ницше, Уолта Уитмена становятся реальностью. Все люди будут братья, подхваченные великой волной освобождения, которая родилась только что здесь, в России».
Так романтически мыслила и высокопарно выражалась Айседора в 1921 году. В 1924 из Ташкента она напишет Ирме более прозаично: «Что касается идей Подвойского о танце – наш танец выметет их прочь, как он выметает все, что стоит на его пути».
Айседора всегда была свободна и независима. Отношение к «товарищам» определилось скоро, скорей, чем можно было думать. Сблизиться и «породниться» с семьей «новой буржуазии» она не захотела, более того, осудила и порвала с ней раз и навсегда. Ответная реакция, естественно, была такой же: ее игнорировали, не замечали, замалчивали, не посещали ее концерты, не помогали школе. Свой паек «работника умственного труда», возможно, из чувства протеста, она отдавала голодной интеллигенции Москвы.
В голодной столице, сидевшей на скудном пайке, эти вечера не вызывали одобрения. Не нравилось это, конечно, и правительству. Не нравилась ее переписка с зарубежными друзьями и корреспонденция в иностранные газеты, которую она отправляла, опять же, не по почте, а с надежными людьми.
Потом появится много небылиц и скабрезностей. Раз были блинные вечера, где собиралась московская богема, значит, было вино (пили стаканами, вино лилось рекой), а хозяйка наливала «крепкий-прекрепкий чай». Завзятый трезвенник Николай Клюев хлебнул, и у него глаза на лоб полезли, потому что это был не чай, а коньяк.
– Вот, думаю, ловко. Это она с утра-то натощак и из самовара прямо! Что же за обедом делать будут?
Кто распространяет эти байки? Николай Клюев?
– Вряд ли, – возразит читатель, – Клюев всегда с почтением относился к Айседоре, никогда худого слова не говорил о ней и вдруг пустил по ее адресу пошлейший анекдот? Тогда зачем? А затем, поясняют доброхоты, что Клюев хотел отомстить Есенину за его стихотворение:
И Клюев, ладожский дьячок.
Его стихи, как телогрейка.
Но я их вслух вчера прочел,
И в клетке сдохла канарейка.
Однако, слишком уж несуразно получается – «своеобразно отомстил Есенину», а собак повесил на Дункан? Где же тут логика?
Логики действительно нет, но есть сочинитель этой «логики». Илья Шнейдер пишет: «Этой легендой Клюев ввел в заблуждение такого уважаемого и опытного литератора, как Всеволод Рождественский. У Дункан никогда не было никакого самовара, за исключением двухведерного, стоявшего внизу в детской ванной». Вот вам и сочинитель – Вс. Рождественский, который прикрылся Николаем Клюевым. Точь-в-точь, как это делал Анатолий Мариенгоф, сочиняя свои небылицы.