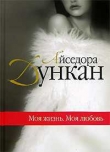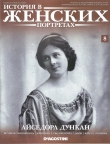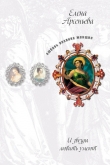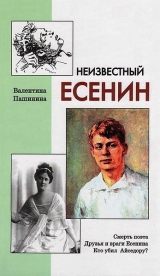
Текст книги "Неизвестный Есенин"
Автор книги: Валентина Пашинина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)
Почему уничтожены есенинские музеи
Чтобы понять это, надо рассказать о человеке, который тесно связал свою судьбу с Есениным, хотя родился после его смерти, в 1928 году. Это Иван Андреевич Синеокий. Есенина прочитал только в 17 лет, а было это в 1945 году, и заболел Есениным на всю жизнь. Недолго прожил Синеокий, всего 51 год, но сделал то, чего до него не удалось сделать ни Софье Андреевне, ни читателям, ни почитателям поэта. Синеокий создал музей Есенина. Сначала в Ялте, потом в Омске, куда переехал и перевез все экспонаты, и одну комнату выделил под музей.
Рассказывает Валентина Евгеньевна Кузнецова: «Коллекция Синеокого – в духе старой культурно-просветительской традиции русских собирателей. Это и музей, и архив, и библиотека, своего рода Есенинская Академия, с удивительной полнотой вместившая разнообразнейшие свидетельства о жизни и деятельности: почти все прижизненные издания книг Сергея Есенина, все сборники стихов, все собрания его сочинений, огромное количество фотографий поэта и тех, кто попадал в поле общения с ним. Письма, рукописи, воспоминания видевших или слышавших выступления поэта, переписка с сестрой Есенина Шурой, сыном Константином, дочерью Татьяной Есениной, с современниками…
158 адресатов находилось в постоянной многолетней переписке с Иваном Андреевичем Синеоким в 1978 году. А контакты в музее и тысячи писем… И все их хранил и считал важным как доказательство народной любви к поэту и его поэзии.
Коллекция не была достоянием одного хозяина. К Синеокому обращались в письмах ученые-литературоведы, собиратели-есениноведы, историки, учителя, студенты, школьники. В архивы в то время попасть было не так-то легко, как и в Ленинскую библиотеку, а Синеокий отвечал всем. Отвечал обстоятельно, доказательно, обосновывая свои доводы ссылками на подлинные источники.
Квартира превратилась в музей, о котором прекрасно знали в городе. Письма доходили и без указания точного адреса».
Но вот… случилось то, что должно было случиться рано или поздно: Есенинский музей «открыли» сотрудники (тайные или явные) известных органов.
8 апреля 1968 г. музей посетила Августа Миклашевская и оставила в дар Синеокому свои фотографии с подписью: «За любовь к Есенину». В мае 1969 г. музей в Ялте посетила Анна Борисовна Никритина. В книге отзывов написала: «Я просто поражена, удивлена и даже потрясена Вашей любовью, Вашей замечательной редкой коллекцией». Следом с такой же восторженностью пишет Всеволод Рождественский, что слух о ялтинской коллекции есенинских материалов по Руси идет… «Ваше собрание уже приобретает характер музейной ценности и тем самым становится явлением общественной значимости».
Потом музей посетили Илья Шнейдер и, конечно, Виктор Мануйлов. Он-то и объяснил, как появились его мемуары: «Считаю своей обязанностью и большой честью написать для Вашего собрания воспоминания о встречах с Есениным».
Свои воспоминания музею Синеокого написали В.А. Рождественский, А.Б. Никритина, Л.Миклашевская, А. Лаппа-Старженецкая, Е.Ардов.
И надо прямо сказать, что все эти мемуары «сомнительного происхождения». И потому все в большей или меньшей степени подходят под ту оценку, которую дала Александра Есенина. «Возвращаю Вам Вашу рукопись. Читала я ее с трудом и с чувством досады. Вы совершенно не знали и не поняли Есенина. Извините, что приходится давать такой отзыв, но такого Есенина, как описываете Вы, я не знаю» – так ответила Александра Есенина, возвращая рукопись Анне Алексеевне Лаппа-Старженецкой. Так можно ответить и другим.
Сын поэта Константин Есенин в 1977 г. оставил в книге такую запись: «Иван Андреевич! Ваша коллекция, поистине уникальна. Все, кто любит Есенина, а тем более носит эту фамилию, должны быть Вам «в пояс» благодарны за труд, который вложен в это собрание. Верю, что у «Есенианы» – хорошее будущее, что все, кто не «на постах», и те, кто «на постах», помогут Вам в Вашем благородном патриотическом деле».
«Ну и где же теперь этот музей?» – спросит читатель. Нет этого музея. «Иван Андреевич Синеокий скоропостижно скончался в 1979 году, а его редчайшее собрание ушло на сторону», – объясняет Валентина Евгеньевна Кузнецова. «Иван Андреевич словно предчувствовал, что жизнь его будет коротка: пытался пристроить свою коллекцию и стучался в двери администрации Москвыу предлагал свою коллекцию для будущего литературного музея Есенина в столице (его и до сих пор нет в Москве), и в Константиново стучался. Не успел пристроить… Такая была коллекция. Была. Уникальная коллекция. Первый музей Есенина. Не сберегли. Не сохранили. Не помогли…»
Не помогать и сберегать бросились эти люди. Их неожиданное вторжение вызвало панику. Музей такого диапазона и без документов спецхрана мог все рассказать и объяснить: и трагедию Есенина, и трагедию России. Должно быть, с тех пор начались все беды первого Есенинского музея и его создателя.
Музей посетили не только рядовые граждане. Здесь побывали и те деятели, от которых многое зависело, они искренне восторгались уникальным собранием и взывали о сохранении. В книге отзывов оставили запись спецкор «Известий» Берников и заведующий сектором литературных музеев НИИ культуры Н.П. Лощинин:
«Разные бывают квартиры-музеи, но эта – уникальная… Этот дом – не коллекция, не хобби. Это – наука. И человек, в совершенстве овладевший ею, вправе называться ученым, достойным самых высоких научных степеней».
«Вызывает восхищение и преклонение деятельность И.А. Синеокого, страстного энтузиаста, влюбленного в Есенина, сумевшего установить тесные контакты со многими лицами, знавшими Сергея Александровича». Но, видно, такие вопросы не они решали. В судьбе Ивана Андреевича Синеокого и его музея сконцентрированы ответы на все есенинские проблемы: почему погибли все есенинские музеи (Софье Андреевне Толстой тоже не дали открыть музей), почему многотысячными тиражами издается макулатура о Есенине, почему энтузиасты типа Синеокого пополняют список жертв. Нынче в Москве сотрудница есенинского музея сказала мне:
– Это все равно, как погиб Есенин, важно только знать его поэзию. Он тем и интересен для нас. Вот такой музей будет жить. Зачем его уничтожать?
Работая над систематизированным сводом воспоминаний современников «Есенин в жизни» (Калининград, Янтарный сказ, 2000), авторы книги Евгений Гусляров и Олег Карпухин на себе ощутили ту непомерную ношу, которую нес поэт Есенин.
«Трагический исход этой жизни объясняли по-разному. Но, в основном, не понимая его. Даже крупные проницательные умы не могли постичь этой трагедии, поскольку судили поспешно и лишь по самым ярким внешним проявлениям. Внешнее в Есенине всегда затмевало то, что скрыто было в тайниках души.
Эти поспешные суждения исказили на долгие годы и посмертную историю русского гения, принизив и опошлив драму его жизни.
У Есенина не было великой любви к женщине. Прежде, до поездки по свету, им руководили три любви: к России, поэзии и славе. Теперь осталась только любовь к России. И не любовь это была, а болезнь – безысходная и неизлечимая. И все, что касалось России, теперь входило в его сознание и душу отравой и новой мукой.
Он видел, что с Россией происходит не то. Первоначальные восторги исчезли, и он увидел, что Россию в нечистой игре выиграли шулера и проходимцы. Стала она на веки вечные страной негодяев. И ничего уже не поправить. Оставалось только кричать, пока свинцовый кляп не прервал этого крика.
И пил, и скандалил, и плакал он только об одном. Он чуял уже гибель России. И вел себя так, как должен был вести себя последний в этом мире русский. Метаться и кричать, чтобы упасть потом кровавым комком на землю и затихнуть. Возможно, и был он этим последним, поскольку один ясно ощущал те великие, непоправимые утраты, о которых мы стали подозревать только теперь. Нам, у которых нет такого отточенного талантом звериного чутья на собственную погибель, может быть, и в самом деле надо пропустить столетия, чтобы осознать, наконец, что русских после того, что с ними произошло, и в самом деле уже нет, как нужны были столетия, чтобы итальянцам догадаться, что они уже не римляне, грекам, – что они не эллины. Слеза Есенина, пополам с хмелем и кровью, не она ли была предвестием и пророчеством нашего нынешнего окончательного разора и падения, преодолеть которое, пожалуй, нет надежды.
Пусть то, что мы видели, только тень или отражение, но и тут можно было уже угадать ту жестокую муку, которая ему выпала. Мы не ожидали, что книга представит эту жизнь в таких страшных подробностях. И тогда у нас возникла даже мысль остановиться. Так ли уж понятна будет теперь эта мука? Нужно ли сейчас напоминать о непрошедшей русской боли в таких обнажающих деталях?»
Вот вам пример того, что может вдумчивому исследователю объяснить мемуарный материал, собранный таким энтузиастом, каким был Иван Андреевич Синеокий. И вот вывод, к которому пришли составители свода воспоминаний современников «Есенин в жизни» Евгений Гусляров и Олег Карпухин:
«Продолжающаяся трагедия отечества не дает нам права забывать о трагичнейшей судьбе величайшего из ее печальников и певцов».
Работники невидимого фронта
А в Ялте музей Синеокого в 1974 году посетил еще один литературный деятель – Семен Петрович Кошечкин, литературовед и критик, член Союза писателей, старший научный сотрудник ИМ ЛИ, заслуженный работник культуры. Посетил и, наверно, мог помочь сохранить уникальный музей, все же был тогда заместителем главного редактора отдела литературы и искусства центральной газеты «Правда». Нет, не помог, как и его предшественники, хотя тоже «дал высокую оценку есениниане». – так написал Синеокий Александре Есениной.
На Семена Петровича Кошечкина коллекция, видно, подействовала весьма благотворно, отныне и до конца он обращается только к Есенину. И последовали, как из рога изобилия сборники, рассказы, доклады, этюды, рецензии – книги и все выше перечисленные заслуги Семена Петровича.
Однако странно, что ведущий специалист Института мировой литературы, предлагая не отказываться от горбачевского авторства «Послания…», так и не назвал автора статьи. Случайная оплошность? Нет? Все указал: газету, город, даже число, а имя автора назвать забыл.
А назови он автора, даже несведущий читатель, едва знакомый с мемуарной литературой, тотчас воскликнет: «Тоже мне авторитет! Нашли, кого слушать!» Неизвестный автор, опубликовавший еще в 1949 году в нью-йоркской газете «Новое русское слово» статью о горбачевском авторстве «Послания…» – Родион Березов, он же Акульшин. Ни имени, ни фактов, ни доказательств, просто ссылка на эту статью. Но статьи-то никакой нет. Есть мемуары о Есенине, насквозь лживые, от слащавости которых Бунина, по его же выражению, просто тошнило. И есть мимоходом брошенное замечание якобы услышанного разговора между приятелями: на вопрос писателя Войтоловского об авторе «Послания…» Демьян Бедный ответил, что автор «Послания…» – советский служащий Горбачев, тридцатипятилетний субъект. И ненавязчиво, как бы между прочим, Р. Березов добавил:
«Привожу этот разговор для того, чтобы развеять легенду, которой уже двадцать два года: вне литературных кругов Советского Союза в Европе и Америке очень многие до сих пор думают, что стихотворный памфлет на Демьяна Бедного написан Есениным».
И уже совсем между прочим изрек маленькое добавление: «Позже я узнал, что советский служащий Горбачев был сослан на пять лет в концентрационный лагерь. За что? За то, что посмел оскорбить кремлевского поэта».
Вот эта капелька яда и сумела отравить всех неверующих. Не потребовалось Березову ничего объяснять, убеждать, доказывать. Просто придумать жалостный финал советского служащего, пострадавшего от красного кремлевского поэта, и тем окончательно убедил самых стойких и победил самых непобедимых.
Откуда же читателю было знать, что ни в каком концлагере Н.Н. Горбачев не сидел, что чекисты весьма усердно позаботились о его судьбе и потому свой 9-й Октябрь автор криминального стихотворения уже встречал на свободе. Автора досрочно освободили, ни минуты лишней не сидел, а неавторов только за хранение в списках есенинского «Послания…» сажали и даже уничтожали. Как понять такое несоответствие? Читатель, тем более зарубежный, не мог всего этого знать. Это мог знать и, конечно, знал литератор Родион Акульшин. А чтобы убедиться в том, достаточно познакомиться с фактами его биографии.
Что известно об Акульшине-Березове? Появился он в Москве в 1923 году как крестьянский писатель. С Есениным познакомился осенью 1923 года. Хорошо знал его сестер. Женился на подруге 3. Райх – Зинаиде Вениаминовне Гейман. Проявлял интерес к личности и поэзии Есенина, но в друзья Есенину не набивался. Сблизился с Василием Федоровичем Наседкиным, с которым сотрудничал в газете и о котором тепло и сердечно в воспоминаниях написал:
«Родное, деревенское сблизило, спаяло на много лет, вплоть до осени 3 7-го, когда друг исчез вместе с тысячами, миллионами других людей».
Только вот в протоколах допроса Наседкин напишет другое. Протоколы допроса, «тюремные мемуары», он писал сам. В них читаем, что он отошел от Акульшина уже в 1934 году. Именно он, Акульшин, зная о контрреволюционных настроениях Василия Федоровича, приходил к нему «с коробом новостей, одна другой страшнее». «После его ухода (я) совершенно выбивался из колеи. Я болел по три-четыре дня».
Не странно ли, что после таких признаний матерого контрреволюционера, террориста и антисоветчика друг его оставался на свободе: «несудим», «не привлекался», «не ссылался», а пострадали и погибали другие, кого Родион называл своими друзьями.
Искренно и сердечно напишет Акульшин: «Большинство из тех, кому я пел частушки на родине, умерли, сосланы или расстреляны». И такая искренность и чистосердечность весьма располагает читателя. Однако хочется спросить автора, как же ему удалось избежать репрессий, выжить в этой круговерти? Он что, был вне подозрений? Погибали все вокруг, а Акульшину почему-то необыкновенно везло. Везло в 20-е годы, в годы террора, везло в 30-е. Повезет ему и в Великую Отечественную, несмотря на то, что, будучи в ополчении, попал к немцам в плен. Был в лагере «ди-пи», затем эмигрировал в США.
Надо же, и в плену благополучно выжил, благополучно избежит Воркуты и Колымы и благополучно окажется в Америке, где присоединится к общим знакомым. Он и сотрудничать станет в той же газете – «Новое русское слово». Необыкновенно везучий человек!
Чистосердечные и искренние мемуары о Есенине расположили зарубежных читателей, но вот нашим читателям полезно знать, что Березовым он стал в Америке, скрыв свою настоящую фамилию и дав о себе неверные биографические сведения. В США приехал с фиктивными документами, о чем сам сообщил властям, когда вышел закон о «ди-пи». Власти приговорили его к депортации, но вмешались влиятельные люди. Дело Березова длилось семь лет и было названо «березовской болезнью». Об этом – в Антологии «Берега» (Филадельфия, 1992 г.) написала Валентина Алексеевна Синкевич.
В заключение следует сказать совсем невероятное: мемуары о Есенине Акульшин-Березов опубликовал еще в 1944 году. Вот как обернулся для него немецкий плен! И где бы вы думали опубликовал? В Минске! Да, в оккупированном немцами Минске, о чем написал минский журналист, есениновед Петр Иванович Радечко:
«С величайшим трудом нашел в одном из архивов Минска журнал «На переломе», вышедший в феврале 1944 года при немцах, и переписал из него очерк Р. Акульшина (Березова) «Цветок неповторимый». Еще больших трудов стоило установить, что этот журнал вышел в Минске, предыдущий – в Бобруйске, а все предыдущие выходили в Смоленске (Н.Г. Юсов знал это. А если знал он, то тем более осведомлен был Сергей Петрович Когиечкин).
Ну что тут скажешь? Не Акульгиин-Березов, а Штирлиц, да и только! Полагаю, что сведения эти вполне проявляют лицо Родиона Акульшина и могут заинтересовать не только есениноведов.
Лев Колодный назвал таких писателей «литературными работниками невидимого фронта», или просто – «искусствоведами в штатском». Вот и выходит, что написал это Наседкин в протоколах допроса неспроста, чтобы потомки знали, кто есть кто.
Есенин возвращается?
В издательстве «Поверенный» города Рязани в 2004 году вышла книга Г. Авериной «Есенин и художники». Член Петровской академии наук и искусств Владимир Крылов во вступительной статье отмечает достоинства авторского исследования.
Обладаюпдая ярким художественным талантом, Г. Аверина окончательно утвердилась в давно выношенном мнении: в явлении «Есенин» все закономерно, он был избран богами искусства в свои ученики и стал их выдающимся «подмастерьем».
Увлеченно и самозабвенно работая над темой «Есенин и художники», которую она начала еще студенткой, Галина Ивановна завершила ее, будучи зрелым исследователем изобразительного искусства.
Книга-исследование Г. Авериной – первая попытка рассказать о личных и творческих взаимоотношениях Сергея Есенина с художниками его времени. Живописцы, графики, скульпторы, театральные художники разных поколений были в числе знакомых поэта, а некоторые и друзьями. В опубликованном списке 75 имен известнейших деятелей русской культуры первой трети XX века. Талант великого лирика пестовали не менее великие живописцы. Им было суждено запечатлеть для истории облик поэта в развитии, от юного с кудряшками волос работы Бенуа до посмертного рисунка Сварога.
Г. Аверина пишет: «Читая строки Есенина: «Я теперь скупее стал в желаньях,/ Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?/ Словно я весенней гулкой ранью/ Проскакал на розовом коне», – и, рассматривая картину Петрова-Водкина «Купание красного коня», я подумала, что в этом похожем сравнении существует какая-то глубинная связь».
Галина Ивановна не ошиблась, и интуиция ее не подвела: жена художника Мария Федоровна оставила воспоминания о том, как в воскресенье 1914 года их посетил молодой человек. Ему было 19 лет. Это был Сергей Есенин. Он сам пришел к художнику познакомиться. Чрезвычайно важен вывод, к которому пришла Галина Ивановна: «Для меня совершенно неожиданным оказался тот факт, что до сих пор в научное есениноведение не было введено имя художника К, Петрова-Водкина», «Обедненный образ Есенина бытует до сих пор», – утверждает исследователь Галина Аверина и вводит в научное есениноведение 75 имен! И каких имен! Тех, что составляют гордость России!
Как археолог, бережно подняла она из небытия погребенный пласт «ускользающей есенинской эпохи». И все «новые» имена, включенные старениями исследователя в биографию Есенина, с большой любовью отзывались о поэте и человеке Есенине. А сколько прижизненных портретов Есенина вернула из небытия Галина Ивановна Аверина!
Совершенно справедливо Крылов назвал исследование Авериной «творческим подвигом во имя таланта С.А. Есенина». Исследование воссоздает не только талант Есенина, но, что особенно важно, – воссоздает живой облик поэта.
Но разве только для Г. Авериной полной неожиданностью оказался тот факт, что в научное есениноведение не включены многие и многие имена его великих современников? И разве не целенаправленно до настоящего времени показывают в научной и мемуарной литературе не «обедненный», а, попросту говоря, препарированный образ Есенина?
Вот только один пример. Художник Рыженко, с которым Есенин познакомился в Тифлисе в 1924 году, так понимал назначение Есенина:
«ТЫ, Сережа, дикарь, ты совсем не похож на европейских культурных эстетов. Для тебя не существует прошлого, оно только дремлет у тебя, как у дерева (…) Даже в «Москве кабацкой» менее всего кабака, а больше мучительного желания вырваться из векового плена (…) За тобой не деревня, сегодняшняя деревня еще не доросла до твоих стихов. Нет, к тебе тянутся простые люди города. Они видят в тебе не интеллигента Блока, не академика Брюсова, не шероховатых «кузнецов», они чувствуют в тебе родную душу русского народа, открывшего окно в светлое будущее».
«Книга должна вызвать интерес, художественное окружение поэта заслуживает изучения – без этого невозможно правильно воссоздать его образ», – пишет Владимир Крылов. Справедливое замечание, только вот тираж этой уникальной книги всего 100 экземпляров! Услышат ли это пожелание те, от кого зависит воссоздание незамутненного образа поэта? Вернут ли стране подлинного Есенина, какого любила вся Россия?
Расплата за близость к Есенину
Есенин Юрий (Изряднов), сын поэта – расстрелян в 1937 году.
Есенин-Вольпин Александр, сын поэта – помещался в психиатрическую лечебницу, эмигрировал, живет в Бостоне.
Есенин Илья Иванович – двоюродный брат (1902–1942) – был осужден, погиб на фронте.
Райх Зинаида Николаевна, жена поэта – убита в 1939 году.
Наседкин Василий Федорович – расстрелян в 1937 году.
Бениславская Галина Артуровна – покончила с собой в 1926 году.
Устинов Георгий, журналист – найден повешенным в 1932 году.
Берзинь Анна – 8 лет лагерей и 8 лет поселения.
Горбачев Г.Е. – сослан на Соловки, расстрелян.
Мариенгоф Кирилл – 16-летний сын Анатолия Мариенгофа, покончил с собой.
Дункан Айседора – погибла (убита?) в 1927 г.
Рейснер Лариса – скоропостижно скончалась в феврале 1926 года.
Фурманов Дмитрий – скоропостижно скончался в марте 1926 года.
Дести Мэри – скоропостижно скончалась после гибели Айседоры Дункан.
Судьбы
… крестьянских поэтов, друзей Есенина
Ширяевец Александр – скоропостижно скончался в 1924 году.
Ганин Алексей – расстрелян в 1925 году.
Орешин Петр – расстрелян в 1938 году.
Клычков Сергей – расстрелян.
Приблудный Иван – расстрелян.
Клюев Николай – расстрелян в 1938 году.
Наседкин Василий – расстрелян в 1938 году.
Касаткин Иван – расстрелян в 1938 году.
Сахаров Александр – репрессирован, умер в Казахстане в 1952 году.
…голубороговдев»
Яшвили Паоло – застрелился (расстрелян) в 1937 году.
Табидзе Тициан – расстрелян.
Табидзе Галактион – покончил с собой.
… имажинистов
Грузинов и. – прошел ссылку, умер от голода в годы Великой Отечественной войны.
Эрдман Н. – прошел ссылку.
Афанасьев-Соловьев – расстрелян.
Чернов – умер от чахотки.
Шершеневич – умер от чахотки.
Шмерельсон – умер от голода в годы Великой Отечественной войны.
Эрлих Вольф – расстрелян.