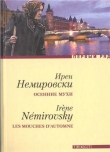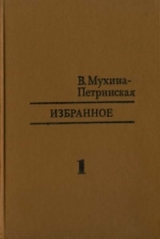
Текст книги "Избранное. Том 1"
Автор книги: Валентина Мухина-Петринская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц)
– Крупный ученый,– фыркнула Аннета Георгиевна,– живет в каком-то глухом поселке, заведует захудалой станцией!
– Бакланы – город,– поправила я.– Там строится порт. Имеется большой рыбокомбинат, консервные заводы. Кирпичный завод. Маяк. Школы. Техникумы.
– У Ренаты Алексеевны очень сложная судьба,– серьезно продолжал Арсений Петрович.– Она коренная москвичка. На Камчатку уехала за своим первым мужем, известным биологом профессором Щегловым. Ее сыну тогда и года не исполнилось. Теперь он уже кандидат наук, продолжатель дела отца и матери. Начал он с биологии моря. Но путь, которым он шел, привел его к океанологии. Сейчас он занимается течениями. Его работы известны у нас и за рубежом. Большой умница! Теоретические работы подкрепляются такими оригинальными, своеобразными экспериментальными данными, что диву даешься. Д-да...
Так вот, после смерти профессора Щеглова заведование экспериментальной станцией перешло к Ренате Алексеевне. Сначала она не могла выехать, потому что хотела закончить научный труд мужа. Но через несколько лет она вышла замуж вторично, за коренного камчадала. Коряка. У них дочь таких лет, как Марфенька.
– Какая хорошая женщина! – воскликнула я.– Как вы меня обрадовали, Арсений Петрович! Неужели я буду у нее работать? Вот повезло! Спасибо!
Аннета Георгиевна мрачно взглянула на часы, и я попрощалась. Сережа пошел меня провожать.
– Ты не обижайся,– буркнул Сергей,– что мы с отцом не избавили тебя от всей этой трепотни.
– Нет, что ты... Но скажи мне... Ты вернулся бы в институт, если б я... если б мы...
– Поженились? Конечно. Только не в свой институт. Я бы учился вместе с тобой.
– Почему?
– Чтоб тебе помогать, глупышка.
– Неужели тебе все равно, где учиться? Не понимаю.
– Чего ж тут не понять. Вот этот океанолог Щеглов, о котором рассказывал отец... Он ученый по призванию. Наука для него – все! Такие люди, если и получают всякие звания, то не ради того, что это звание даст им материально, а ради лаборатории, ради научно-исследовательского судна, чтоб легче было двигать вперед обожаемую ими науку. Понимаешь? А у меня нет призвания к науке. Будь уверена, что, окончи я институт, мать стала бы настаивать на аспирантуре. А слушай я ее, так она заставила бы меня защищать кандидатскую, а там и докторскую.
– Разве можно стать доктором наук, если нет призвания к науке?
– Сколько угодно! Было бы желание. Ну, и терпение, усидчивость, память, честолюбие. Все это есть у моей матери. Но я – не она.
– Ты очень способный, это еще в школе все знали.
– Просто у меня хорошая память. Но больше всего на свете я люблю читать. Растянуться на кровати с хорошей книгой в руках и читать. Я люблю театр, люблю музыку, но читать я люблю больше всего на свете. Работа таксиста дает мне достаточный заработок – потребности у меня скромные – и возможность читать в свободное от дежурств время. Интересно вот что, обрати внимание: в школе нам внушали, что всякая работа почетна. Но когда я предпочел стать шофером, а не инженером, то не только родители, но и учителя ужаснулись. Почему?
– Черт знает почему! – пробормотала я сконфуженно.
– Я, Марфенька, люблю Москву. Люблю колесить по ней в своем такси. А в свободное время я читаю. Большего наслаждения для меня нет. Особенно фантастику. Ты ведь тоже любишь читать.
– Да, люблю. Но я еще хочу повидать далекие края. Океан. Поработать с настоящими учеными.
– Ты мне будешь писать, Марфенька?
– Буду. Обязательно. И тебе и Августине. Я обещала Августине писать ей через день.
– А я буду заходить к ней... через день...
– Спасибо, Сережа. Ей будет не так одиноко.
На другой день, только что мы с Августиной пообедали, позвонил Арсений Петрович и попросил разрешения зайти к нам с одной девушкой. Он хотел нас познакомить.
Августина бросилась готовить чай, а я наскоро прибрала в комнате. Сами знаете, какой раскрардаш, когда собираются уезжать.
Видимо, Козырев звонил из автомата, так как они явились очень скоро.
...Рядом с улыбающимся Арсением Петровичем стояла крепкая, загорелая девушка в спортивном полотняном платье до колен и с доброжелательным любопытством смотрела на меня. У нее были неулыбчивые, косо посаженные темные глаза, чуть приплюснутый нос, детски припухлые губы. Прямые черные волосы, зачесанные назад, свободно и густо падали на плечи. В смугловатом лице ее даже при первом взгляде чувствовалась какая-то загадочность. Уверенно и спокойно ступала по земле Рената Тутава, ничего и никого не боясь, сама естественность, безыскусственность и... сложность. В ней чувствовалась скрытая сила, упорство, ум наравне со способностью страдать и сострадать. Чувствовалась неповторимая индивидуальность, богатый духовный мир, и, хотя впервые видела ее, почему-то я поняла, сразу поверила безоговорочно: она талантливый человек. Сильное впечатление произвела на меня Рената Тутава.
Молчаливое и восхищенное рассматривание явно затянулось. Рената вдруг улыбнулась, и до чего же эта внезапная улыбка преобразила ее лицо. Столько в нем проявилось доверчивости, доброты и доброй усмешливости.
– Надеюсь, что вы подружитесь,– сказал Арсений Петрович, садясь в кресло, которое ему услужливо пододвинула Августина.
– Дочка Ренаты Алексеевны Щегловой,– сообщил он с укоризной,– чуть не месяц в Москве и вот объявилась только теперь.
– Экзамены были у меня,– пояснила Рената,– я сдавала в художественный институт. Даже Москву не посмотрела еще.
У нее был удивительный тембр голоса, низкий и чистый. Необыкновенно выразительный. Если бы она сдавала в театральный, то за один голос ее должны были бы принять.
Я переспросила: куда именно она сдавала?
– На отделение живописи... Имени Сурикова. Станковая и монументальная живопись.
– Туда ведь очень трудно попасть,– ужаснулась я.
– Принята. Узнала сегодня утром.
– Реночка привезла с собой много работ – этюды, портреты, пейзажи,– сказал Арсений Петрович.– Педагоги в восторг пришли.
Августина робко, как всегда при чужих, предложила выпить чайку. И уже набросила на стол скатерть.
– С удовольствием бы, но я тороплюсь...– Арсений Петрович взглянул на часы. Ему и вправду не хотелось от нас уходить, по лицу было видно.
– Выпьете чашечку и пойдете. Можно на кухне, быстрее будет.
Августина даже ойкнула, укоризненно взглянув на меня. Но Арсений Петрович охотно согласился. У них-то никогда не пили чай на кухне, там возилась очередная домработница.
У нас на кухне уютно, светло и чисто. Зеленые, много раз стиранные занавески качались от ветра. Мы с Августиной живо уставили крытый пластиком стол всякой всячиной из холодильника, и все четверо уселись на разноцветные табуретки.
– Какая уютная кухонька,– заметил Арсений Петрович, разглядывая морские пейзажи по стенам. Затем он выпил стакан крепкого индийского чая, съел кусок пирога с вишней и, распрощавшись, уехал. Мы пили и ели не торопясь. Рената не стеснялась, ела с аппетитом.
– Страшно было сдавать экзамены? – поинтересовалась я.
– Очень. Словно в море со скалы бросалась.
– А почему у вас такая странная фамилия – Тутава? Японская?
Рената улыбнулась.
– Нет, это корякская. Я ведь по отцу корячка. И в паспорте у меня стоит национальность – корячка. Вот мой брат Иннокентий Щеглов – по маме брат – он русский. Он тоже ученый. Очень способный. В двадцать четыре года защитил кандидатскую степень. У него уже и докторская готова... Но по совету мамы не торопится ее защищать. А то скажут: из молодых, да ранний. Он написал по ней монографию. Книга скоро выйдет в издательстве «Наука».
– А ваше имя... разве тоже корякское?
– Нет, конечно. Это меня отец назвал в честь мамы. Он ее очень любит. Мама ведь тоже – Рената.
– Очень красивое имя!
– Да? А вы знаете, что оно означает в буквальном переводе?
– В буквальном... н-нет.
– Вторично рожденная на свет. Это точный перевод с латинского. А вас зовут Марфа? В литературе я встречала это имя, а в жизни еще не пришлось.
Я рассказала, почему меня назвали Марфой. Как раз перед моим рождением газеты много писали о подвиге пилота Марфы Ефремовой. С научной целью был организован перелет на воздушном шаре через Каспийское море. В корзине находились трое: профессор-метеоролог, его ассистент Лиза и пилот Марфенька. Было много ценных приборов. Авария произошла, когда перелет был почти уже закончен, внизу показалась земля – горы и лес. Из лопнувшего воздушного шара стремительно уходил газ...
Пилот Марфа Ефремова приказала профессору и ассистенту прыгать. Затем, вместо того чтобы прыгать скорее самой, она стала спасать приборы и результаты наблюдений. Упаковала в мешок и отправила с парашютом.
Когда она наконец прыгнула, шар уже слишком снизился.
Парашют раскрылся не до конца. Марфа Ефремова разбилась. Она осталась жива, но повредила позвоночник. Говорили, что она никогда не будет ходить. Моя мама – молодая журналистка – брала у нее интервью. Потом ее очерк был напечатан в «Комсомольской правде».
Эта девушка произвела на маму такое сильное впечатление, что она решила: если будет дочь, назвать ее Марфой... Папа выполнил ее желание.
Рената смотрела на меня широко раскрытыми блестящими глазами.
– Марфа Евгеньевна Ефремова? Ведь я ее хорошо знаю! А ты ее видела хоть раз?
– Нет, никогда.
Рената даже руками всплеснула:
– Но ведь вы живете в одном городе! Как же так? Вот уж у нас на Камчатке это невозможно. Не повидать такого интересного человека!
– В Москве живет много интересных людей,– резонно возразила я,– есть гении, которых мне очень хотелось бы повидать, но... их можно увидеть в театре, лекционном зале, по телевизору... Домой же к ним не пойдешь?.. А откуда ты знаешь Марфу Ефремову?
– Она с мужем была на Сахалине, на Камчатке. Они гостили у нас. Хочешь, я вас познакомлю?
– Еще бы не хотеть! Только мне уже уезжать... А где ты остановилась? У Козыревых?
– Нет, конечно, разве Аннета Георгиевна располагает к тому, чтоб у них останавливаться?
Мы обе расхохотались. Улыбнулась и Августина, немного знавшая мать Сережи.
– Я остановилась у Кучеринер Ангелины Ефимовны. Они с мамой школьные подруги. Но теперь я буду искать себе постоянное жилище. Они с мужем привыкли вдвоем... И хотя они меня любят, все же я им мешаю. Мешаю состредоточиться – они же научные работники. Марфенька, пойдем походим по Москве? Я ведь плохо ее знаю.
Я обрадовалась и поспешила согласиться. Мы спустились на лифте. Лифт у нас старенький. Тарахтит, вздрагивает. Рената вышла из него с явным облегчением. Зато двор наш, заросший кустарником – смородина и сирень,– со скамейками под кленами и каштанами очень ей понравился. Когда вышли на улицу и Рената увидела напротив магазин «Синтетика», ей сразу захотелось посмотреть, что в нем продается. Зашли, протискались к прилавку. Рената купила нарядную блузку для матери («ты и отвезешь, блузка легкая, как пушинка»), себе летнюю белую сумочку, и мы направились в Парк культуры и отдыха.
Когда мы проходили мимо церкви Николы, Рената захотела осмотреть и церковь, снаружи и внутри, и пришла в восторг.
– Построена в 1680 году,– сообщила я, беря на себя роль экскурсовода.
Вдоволь налюбовавшись, Рената потащила меня дальше.
– А ты знаешь, Марфенька, коряки никогда не были христианами. Когда русские проникли на Камчатку, началась насильственная христианизация. Интельмены, чукчи, эвены, алеуты – все народности Камчатки стали христианами, кроме коряков. А коряков нельзя было ни убедить, ни запугать.
Когда пришла Советская власть, ни с кем не было столько хлопот, как с моими сородичами. Любое мероприятие они встречали так: «Однако, надо сначала попробовать». Никаких нововведений, пока не покажут реальных результатов. Ничего на веру. Организовывали, например, пробные колхозы. Убедятся, что так лучше,– принимают. Не убедятся – что хочешь с ними делай! У меня тетка – папина сестра – корячка. Известная личность в Корякском округе. Я туда ездила не раз в каникулы погостить. Мама скрепя сердце отпускала. Тетка ненавидит моего отца, осуждает его...
– Почему?
– Долго рассказывать, да и скучно.
– А мне интересно. Мне все о Камчатке интересно.
Я бы уже могла сказать и так: «Мне интересно все, что касается тебя и твоих родных». Я уже любила эту необычную девушку.
Крымский подвесной мост привел Ренату в буйный восторг. Она долго разглядывала его во всех подробностях еще на подходе к нему. («Он же висит в воздухе! Может же быть такое чудо!»)
Вид с моста привел ее в еще большее восхищение. Мы долго разглядывали Кропоткинскую набережную, Кремль, Большой каменный мост, потом пошли в парк. Стемнело, и зажглись огни, а мы все ходили и разговаривали.
Рената засыпала меня вопросами о Москве. Какие театры мне больше нравятся, видела ли я Смоктуновского, Ефремова, Доронину? Ходила ли прощаться с Королевым, пускали ли туда детей? Видела ли хоть раз живого Гагарина? Была ли в Ленинской библиотеке?
Рената свободно читала и говорила на английском и корякском, но родным языком считала русский.
– Видишь ли, Марфенька, мама у меня русская, папа – коряк, но он вырос среди русских. Даже корякский язык знает плохо. Для него родные места – это вся Чукотка, родная национальность... русские. Вот тетя Ланге – та настоящая корячка.
– Ты хотела рассказать... Но прежде я задам тебе один вопрос, а то он весь вечер вертится у меня в голове. Скажи, ты, случайно не знаешь доктора Петрова Михаила Михайловича? Он тоже живет в Бакланах. Это дядя моего отца.
– Так ведь я по его поручению и пришла к тебе. Мне только не хотелось сразу говорить об этом. Хотелось сначала узнать тебя.
– Как по его поручению?.. Рената рассмеялась и обняла меня.
– Мир тесен, Марфенька. Доктор Михаил Михайлович усыновил моего отца, когда ему было четыре года. Я долго не знала, что Михаил Михайлович не родной мой дедушка. Когда я уезжала в Москву, дедушка просил меня зайти к тебе.
Я была, что называется, ошарашена:
– Почему же ты сразу не остановилась у нас? Почему тебя привел Арсений Петрович? Ничего не понимаю...
– А Арсения Петровича я тоже знаю с детства. Он не раз бывал у нас на Камчатке, сегодня я позвонила Арсению Петровичу, но сказала, что прийти к ним не смогу, мне надо еще разыскать одну девушку. Он спросил какую, я назвала тебя – и он предложил нас познакомить. Вот и все.
– Чудеса в решете! Мы знали, что дядя Миша (так его всегда называл отец) воспитывал мальчика-коряка. Так это и был твой отец? Удивительно!
– О, ты еще не знаешь, как папа попал к дедушке... к Михаилу Михайловичу. Он же спас ему жизнь.
– Так расскажи скорей.
– Слушай. Папе было четыре года, когда умерла его мать. Отец его утонул за год до того на глазах всего стойбища, стоило бросить конец веревки, и он был бы спасен...
– Почему же...
– Ты слушай. По корякским верованиям – ты пойми, у них еще тогда, в начале тридцатых годов, были орудия каменного века,– так они считали, если человек утонет, его ждет там огромное счастье. Зачем же мешать ему стать счастливым? Так мой дед утонул.
Остался сын Тутава. А через год опасно заболела его мать. Умирая, она решила, что мальчику лучше будет с отцом и матерью там – на том свете, чем на этом сиротою. И попросила сжечь сынишку вместе с ней. У коряков был такой обычай.
– Сжечь... с ней? Какой ужас!
– Папе было тогда лишь четыре года, но он все отлично помнит. Только не любит рассказывать об этом.
Я была потрясена.
– Его бы, конечно, сожгли, не вмешайся молодой врач Михаил Михайлович Петров. Да, твой дедушка (и мой дедушка!). Так вот, он схватил мальчика и заявил, что не даст его сжечь. Он залез с Тутавой на скалу, где только с одной стороны можно подойти. У него была с собой винтовка, но ни еды, ни питья... Надо сказать, что доктора Петрова коряки очень любили. Он многих спас от смерти, от тяжких болезней. Помогал всем, чем мог, не только как врач. Его называли: высокий мельгитанин. Он знал, что коряки не сделают ему ничего плохого, как и они знали, что он не будет в них стрелять. Но они могли хитростью или силой отнять ребенка, чтоб исполнить волю умершей.
Коряки стояли под скалой и убеждали высокого мельгитанина отдать мальчика.
– Разве можно сжигать живых людей! – корил их со скалы доктор.
Они охотно соглашались.
– Однако, людей нельзя жечь живыми, твоя правда, мельгитанин. Но если мать хочет взять сына с собой, как ей можно помешать, сам подумай?
Высокий мельгитанин согласился подумать и просил, пока он «думает», не трогать мальчика, пусть он побудет с ним. Ему дали подумать до завтра и даже принесли еды и чая. Ночью доктор Петров бежал вместе с маленьким Тутавой. Он пошел путем, который внушал всем непреодолимый страх,– легенды были с ним связаны.
Видно, в стойбище решили, что они оба там погибнут, и не пытались преследовать. А может, не в состоянии были еще убеждать... Надо сказать, что коряки не терпят многословия, оно их утомляет и раздражает.
Путь этот через непроходимые горы был так тяжел и долог, что о нем можно было бы написать целую повесть.
– С ребенком... как же он?
– Думаю, что если бы это был русский, да еще городской ребенок, они бы погибли. Но это был корякский мальчик, выросший среди суровой неуступчивой природы, и он знал, что ему грозит там позади, в родном стойбище.
Воды было сколько угодно. Молодой доктор охотился. И они дошли. Измученные, оборванные, но дошли. До населенного пункта, где был исполком, райком, милиция, райздрав. Им помогли. Назад Петров уже не вернулся. Он взял назначение в другое место. С мальчиком он не расстался. Воспитал его сам. В Бакланах они живут с самого возникновения рыбацкого поселка. Дедушка несколько раз собирался вернуться в Москву, где он родился и вырос, но в последний момент сдавал билет. Привык к Камчатке. Полюбил ее. Север привораживает. Берегись, Марфенька!
– А как же ты... смогла же уехать?
– Искусство завораживает еще сильнее. Я родилась художницей. К тому же... Кто знает... быть может, именно мне суждено увековечить свой народ и свою родину на полотне... Где бы я ни была, я буду всю жизнь возвращаться на Камчатку.
– А я в Москву. Я хочу видеть океан, вулканы, северные сияния, птичьи базары, корабли, но... разве можно что-нибудь любить сильнее, чем Москву?
– Я понимаю,– сказала Рената и крепко сжала мне руки.
Мы с ней то ходили по аллеям парка, то садились на скамьи и говорили, говорили...
Я рассказала о своем отце и маме, об их работе, и о том, что мое рождение стоило жизни маме.
– ...Моя мама была способная журналистка. Я постоянно думаю, как мне жить, чтобы искупить свою, пусть невольную, вину? Как заменить ушедшую из-за меня? Ведь Александра Петрова была бы куда полезнее обществу, чем я.
– Это еще не известно,– возразила Рената.
– У меня же нет никаких талантов. И я всегда думала о том, как мне суметь заменить ее хоть отчасти. Готовилась к этому...
– С каких лет?
– Примерно с двенадцати.
– Ух ты! А я в двенадцать лет в куклы играла и с санками бегала. Правда, рисовала еще. Мои рисунки получили первую премию на всекамчатской выставке детских рисунков в Петропавловске. Озоровала я тогда отчаянно. Марфенька, а почему ты не пошла на факультет журналистики, как твоя мама?
– Не знаю. Я очень рада, что получила назначение на научно-исследовательскую станцию. Рада, что буду работать метеорологом-наблюдателем. Рената, идем к нам ночевать!
– Ангелина Ефимовна будет беспокоиться.
– А ты ей позвони.
Во втором часу ночи мы пришли к нам домой. Августина не спала, все подогревала чай и пироги с мясом.
Она обрадовалась, что Рената у нас ночует. Рената ей очень понравилась. Как ни одна из моих подруг.
Мы проговорили втроем до утра и встали в одиннадцать. На следующий день я должна была ехать.
Рената кляла себя, что не пришла раньше. Она и надоумила меня сдать железнодорожный билет и заказать новый, на три недели позже, что я и сделала.
Рената на это время переселилась к нам.
Она все присматривалась к Августине. Очень та ее заинтересовала, но Рената не понимала ее. Ей сразу захотелось написать портрет Августины, но сначала хотелось понять этого человека.
Августина была бы красива, если б не испуганное, почти глупое выражение глаз. В этом нервном тонком лице навсегда застыла мольба: не надо меня обижать. Говорит неуверенно, полувопросительные интонации. И во всем облике ожидание удара, который придет неизвестно откуда и за что. Трепещет, как осиновый лист. И вместе с тем в ней разлита гармония, ясность. Выпуклые голубые глаза смотрят кротко и застенчиво – наивна, трогательна и беззащитна. Слабость и душевная незащищенность одновременно с духовной неуступчивостью.
– Кто ее так запугал? – спрашивала меня Рената.
С каким напряженным лицом выходит Августина из дома, как облегченно вздыхает, «благополучно» вернувшись домой!
У нее было крайне тяжелое детство. Алкоголик отец, измученная, озлобленная мать, вымещающая горе на детях, хулиганы братья. Августина рано вышла замуж, чтоб уйти из семьи, но муж ее оказался законченным мерзавцем.
– В сущности, Августина – твоя мать! – заметила Рената.
– Конечно! Меня все время терзает, что я оставляю ее одну.
– Я буду за ней присматривать.
– Ох, вот спасибо!
Мы обнялись. Мне сразу стало легче. Я чуть не предложила Ренате поселиться в моей комнате, но вовремя удержалась: следовало сначала спросить Августину.
Но Августина сама додумалась до того же:
– Пусть Реночка живет в твоей комнате, пока ты будешь далеко. Я присмотрю за ней, все же молоденькая девушка, одна в Москве... Ох, кто-то за тобой присмотрит!
– Я взрослая, милая Августина.
– Все вы взрослые... а совсем еще дети.
Рената обрадовалась, но согласилась лишь с условием, что будет платить Августине за комнату по «московской таксе».
– Ведь я все равно бы платила квартирной хозяйке, а Августине деньги пригодятся.
– Но я буду ей присылать.
– Ну и что ж, присылай. И еще я буду платить. Мои родители хорошо зарабатывают. Они так и наказывали мне: снимешь комнату у хорошей женщины. Мама часто бывает в Москве. Ей Августина тоже понравится.
– И твоя мама может у нас останавливаться, в гостиницу не нужно идти.
Мы все трое были очень довольны, особенно Августина, видно, она боялась остаться одна. Ренате она сразу и навсегда поверила.
Эти три недели промчались, как большой праздник. Ночью мы болтали с Ренатой до трех-четырех часов. Рената явно уродилась не в коряков, которые не терпят многословия.
Утром, отоспавшись, выпив кофе и съев завтрак, приготовленный Августиной, мы бродили по Москве.
Никогда не знала, какое это счастье – показывать родной город любимому другу. Мы исколесили и исходили пешком всю Москву.
К моему удивлению и некоторой обиде, Рената наотрез отказалась идти со мной в картинные галереи и на выставки художников.
– Я должна их осмотреть исподволь и одна...
– Но почему не со мной?
– Не знаю, не сердись. Должна быть наедине с картиной художника.
– Но там полно народа!
– Незнакомые. Все равно что их нет. В толпе человек – один.
Рената показала нам фотографии своих родных. (А картины ее посмотреть не удалось. Их задержала у себя вулканолог Кучеринер – хотела показать кому-то.) Прежде всего фотографию моего дяди. Точнее, дедушки, но я привыкла думать о нем как о дяде. У нас была его фотография, где он еще молодой врач, только окончивший институт: веселый, симпатичный спортсмен, с благодушной улыбкой взирающий на мир, который ему, в общем-то, нравится. Комсомолец двадцатых годов! Я вытащила эту старую фотографию для сравнения. Со второй фотографии смотрел на нас худощавый старик – грустные глаза, много видевшие; морщинистый лоб, много думавший; горько сжатый рот человека, умевшего сочувствовать людям; заострившийся нос – тень надвигавшейся старости. Лишь густые волосы пощадило время, чуть посеребрив их, да зубы, по словам Реночки, сохранились свои.
– Сколько лежит между этими двумя непохожими друг на друга людьми?
– Всего лишь полвека – и два разных лица! – горестно воскликнула я.
Рената задумчиво взглянула на меня, ей взгрустнулось. Может, подумала, что когда-нибудь и ее не узнают. Она вздохнула и ответила на мой вопрос:
– Целая жизнь, которой можно позавидовать, столько в ней доброты, честности, человеколюбия. Высокого мельгитанина знают по всей Камчатке. Врач – он никогда не был только врачом,– краевед, этнограф, изучающий нрав, быт, обычаи народностей Камчатки, чтоб им помочь. И сколько он помогал людям за свою долгую жизнь! Все надеются, что он проживет еще долго-долго. Он нужен людям.
Потом Рената показала фотографии родителей. Отец не очень походил на коряка, скорее на русского. Может, потому, что был одет в хорошо сшитый костюм, с белой сорочкой и галстуком. На другой фотографии он был на лыжах, в свитере и вязаной шапке. Улыбался открыто и радостно.
Мать Ренаты была хороша. Умное, обаятельное, доброе лицо. На другой фотографии она была с внуком Юрой, прелестным мальчуганом лет шести с выразительным нервным лицом.
– Наверно, любит бабушку,– заметила я, разглядывая снимок.
– Очень любит. Он и всех нас любит. И вечно боится нас потерять...
В ее словах послышалось что-то тревожное, но меня отвлекла следующая фотография.
– О, кто это?! – неожиданно для себя воскликнула я.
Августина и Рената с любопытством взглянули на меня.
Вам приходилось рассматривать фотографии артистов или писателей, ученых? Рассмотришь с интересом одно лицо, другое, третье, иногда и всю подборку, но душа твоя не задета. И вдруг наткнешься на лицо, которое чем-то так захватит тебя, что отложишь снимок, чтоб еще и еще посмотреть на него.
Как у Достоевского, когда князь Мышкин в вагоне поезда впервые увидел изображение Настасьи Филипповны. Вот так же поразила меня фотография старшего брата Ренаты Иннокентия Щеглова. (Он был сыном Ренаты Алексеевны от первого брака.) Оба нисколько не похожи на родную мать, но поразительно схожи между собою. Черты лица совсем разные, особенно глаза – темные, косо посаженные у Ренаты и светлые (синие, как узнала потом) у Иннокентия. У сестры черные прямые волосы, у брата – русые, чуть вьющиеся, довольно длинные. И лицо у него было узкое, у Ренаты – широкое. Разные, а до чего же похожие! Щемяще похожие, но чем?
И вдруг я поняла, что у них общее. Это непередаваемое выражение ранимости, что таилось возле губ и носа, эта слишком очевидная способность страдать и сострадать.
Сердце мое сжалось, словно его стиснули рукой, и вдруг – о позор, о глупость – глаза мои наполнились слезами. Рената вопросительно смотрела на меня.
– Почему-то мне до слез стало жалко твоего брата. Глупо, да? – призналась я честно.
Рената, нахмурившись, смотрела на меня.
– Как странно... Ведь я ничего не рассказывала тебе о нем... А почему жалко?
– Не знаю. Но мне кажется... Я теперь понимаю, какое это есть материнское чувство?
– Иннокентий старше тебя на целых восемь лет. Ты хочешь сказать, что при виде этого снимка в тебе проснулись материнские чувства?
– Да.
Рената глянула на Августину, та на нее, и обе принялись хохотать. Я присоединилась к ним.
Но Рената вдруг сделалась серьезной, даже грустной.
– Он несчастлив, мой брат. Жена Иннокентия – черствая, бессердечная женщина. Низкая. Дурная. Сколько в ней злобы! Такой, знаешь, наглый тон, громкий, резкий голос. Она работает бухгалтером в порту. Нас, всех его родных, она ненавидит лишь за то, что он нас любит. Она даже сына своего не любит – ревнует к нему мужа.
– Разве можно не любить своего ребенка? – недоверчиво спросила Августина.
– Это трудно понять нормальным людям. Она ревнует мужа к сыну. Она хочет, чтоб муж любил только ее. В детстве ее необузданно баловали. Единственная дочка. Центр Вселенной.
В день свадьбы она сказала маме... свекрови своей: «Я знаю, что Иннокентий очень вас любит. Но больше этого не будет. Я не позволю».
– Господи, какая глупая! – не выдержала Августина.
– Да, не умна. Мама ей сказала мягко: «Бедная девочка. Не советую это говорить моему сыну. Я ему не передам».
С первых дней их совместной жизни Лариса только и делала, что пыталась поссорить мужа с его родными. Когда родился Юрка, Лариса училась в Петропавловске в морском рыбопромышленном техникуме. Юрку она оставила нам. Мы все его сообща и вынянчили... нашего Юрку.
– А где учился брат?
– В университете во Владивостоке, на биологическом факультете. Но поскольку его интересовала биология моря и он знал, что без знания океанологии ему не обойтись, Иннокентий одновременно закончил и отделение океанологии. Его диссертация на стыке этих двух наук.
– И работал под руководством матери?
– Да. На экспериментальной станции. Кент стал работать примерно с седьмого класса. Готов был не только всякие пробирки, мензурки, колбы, но и пол мыть, лишь бы его допускали в лабораторию. С девятого класса он уже был неплохим лаборантом. Теперь нашей станции дают специальное судно – сегодня от мамы письмо получила,– Иннокентий назначен начальником экспедиции. Будут уходить далеко в океан... Лариса этим недовольна и со злости запретила Юрке ходить к нам. Иннокентий, разумеется, это приказание отменил... Плохо у них, очень плохо, Марфенька!
– Зачем же он на ней женился, твой брат? Разве он не видел...
– Конечно же, не видел! Когда они поженились, им было по девятнадцати лет. Первое увлечение он принял за любовь. А теперь, кроме неприязни, ничего к Ларисе не испытывает. Лариса знает это. Знает, что он не берет развода только из-за Юрки... И... вымещает свою злобу на мальчике. Эх, Юрик, бедняжка!
Рената расстроенно умолкла.
Три недели миновали быстро.
Перед отъездом Рената повела меня в гости к подруге матери Ангелине Ефимовне Кучеринер, профессору-вулканологу. Был день ее рождения, в доме собирались друзья, и должна была прийти Марфа Евгеньевна Ефремова, в честь которой мне дали имя. Рената хотела нас познакомить. Обо мне она уже рассказала, и я была приглашена.
Никогда не забуду этот вечер, этих людей!
Какие милые и славные хозяева! Ангелина Ефимовна – смуглая, худая, несколько резкая женщина, похожая в своем цветастом темно-вишневом платье на старую цыганку. Ее муж – высокий, молчаливый человек с кротким и счастливым выражением голубых, выцветших глаз. Чувствовалось, что они глубоко любят друг друга и как нельзя лучше уживаются, при всем различии их натур.
Они приветливо встретили нас с Реной, перезнакомили с друзьями. В комнате было много народу.
Когда мы вошли, все были увлечены каким-то спором. Говорил молодой еще профессор Филипп Михайлович Мальшет, океанолог. Высокий, властный, он что-то уверенно доказывал собеседнику. У него были яркие зеленые глаза, резко подчеркнутые черными ресницами.
По-моему, Мальшет был из тех, кто легко наживает себе врагов: непосредственный и прямой. Но здесь у него не было врагов, только друзья, которые слушали его затаив дыхание.