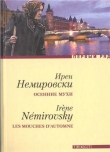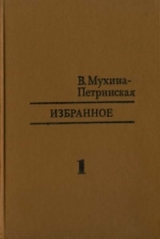
Текст книги "Избранное. Том 1"
Автор книги: Валентина Мухина-Петринская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 40 страниц)
Девушка хорошая его полюбила здесь. Чудесная девушка. Лиза Олесова. Комсомолка, агротехником в колхозе работает. Харитону тоже она по душе пришлась. Собирались жениться, он даже в колхоз заявление подал, но... забрал назад. И свадьба расстроилась.
– Почему?
– Мать отговорила. Да и он сам понял, что при такой жене с прежней жизнью кончать придется. Даже и думать нечего! А меняться он не хочет. Еще до загса и поругались. Разные люди!!! Для Лизы и лучше, что они разошлись. Ну, а Харитон... плохо кончит!
5. ХАРИТОН СВОДИТ СЧЕТЫ
Жара стояла невыносимая, будто мы находились не на Севере, а где-нибудь под Батуми. Но белые ночи холодны. Так же светит солнце, а холодно. Почти все члены экспедиции разошлись по тайге небольшими группами. Плот наш готов. Ефрем Георгиевич сам его сделал. Отличный плот, большой, устойчивый.
Утром я проснулась с мыслью: завтра мы отправимся на плоту по Ыйдыге – Мария Кирилловна, я, Кузя и рабочие – Стрельцов и Ярышкин.
Все этого Ярышкина звали «расстрига», и я сначала думала, что это его фамилия. Но оказалось, что он бывший поп, только перестал верить в бога и «расстригся». Он работает в лесхозе лесорубом, но сам попросился в экспедицию. Каких только людей не встретишь!
Очень просился с нами в экспедицию Даня. Отец ему разрешил, но Мария Кирилловна категорически воспротивилась. Хотя мальчик крепок и вынослив, но ведь единственный сын, а путешествие по бурливой порожистой Ыйдыге опасно.
Михаил Герасимович целые дни носился в вертолете над тайгой, самолично сверяя аэроснимки с данными таксаторов. В этот день я летела с ним, помогая уточнять план.
Тайга, когда смотришь на нее сверху, еще прекраснее. Был ветреный день, и по лесному океану ходили гигантские волны, отливающие голубовато-зеленым, серо-зеленым, черно-зеленым, золотисто-зеленым, лиловым и фиолетовым. Словно растаяла радуга, пролилась сверкающим дождем и окрасила тайгу во все свои цвета. Что же здесь будет осенью? Дух захватило от такой красоты, величавой и торжественной. Ыйдыга настолько прозрачна, что даже с вертолета отчетливо видны камни на дне. А глубокое небо чистейшей бирюзы, и по небу, словно корабли с белыми парусами, плывут облака. До чего хорошо!!!
В пять часов мы приземлились на лесхозовском аэродроме. Профессор пошел, как всегда, обедать к директору лесхоза, а я домой. Обед был уже готов, Мария Кирилловна и Даня ждали Ефрема Георгиевича.
– Будем обедать,– сказала Мария Кирилловна.– Ефрем иногда задерживается допоздна. Сердится, если его ждут.
Мы сели обедать. Разговор не клеился. Поели молча. Я убрала со стола, помыла посуду и прилегла с книгой на диване. Даня ушел, захватив футбольный мяч. Мария Кирилловна присела к письменному столу – ей нужно было закончить кое-какие расчеты.
Я не заметила, как уснула. Проснулась в 9 часов вечера. Мария Кирилловна нервно ходила по комнате.
– Ефрем Георгиевич еще не вернулся? – испугалась я.
– Нет.
Я не знала, что сказать. Только посмотрела на Пинегину. Сейчас было заметно, что ей под сорок. Обычно она выглядела лет на десять моложе. Уголки ее рта, всегда задорно приподнятые как бы в лукавой улыбке, теперь в тревоге и унынии опустились. Серо-голубые глаза ввалились, в них застыл ужас. Я бросилась к ней.
– Мария Кирилловна, дорогая, надо его искать. Поднять тревогу!
– Надо подождать до полуночи. Лесники иногда заезжают далеко. Территория с целое государство...
Ох! Ей мучиться целых три часа. Может, гораздо больше.
– Это вы каждый раз так волнуетесь, когда он задерживается? – спросила я.
– Каждый раз... Особенно последнее время. Вы не знаете, Тася, какой это чудесный человек! Выйдем на крыльцо, мне душно!
Мы сели на ступеньках. К вечеру выпал туман, и я подумала, если придется искать, это осложнит поиски. У меня тоже заныло сердце. Уже скрылись в тумане небо, река, вершины сосен, даже сарай, который был в двадцати шагах от дома.
– Сколько лет вы женаты? – попыталась я разговорить Марию Кирилловну, чтоб отвлечь ее от этого тяжелого ожидания. Она сидела, задумавшись, обняв руками колени.
Я невольно заметила, сколько в ней женственности, которая так изредчала теперь. Хоть бы и я – мальчишка в юбке! Занятия спортом, тяжелая практика в лесах, общество мальчишек с самого детства. Я была забиякой, и все мальчишки в школе меня побаивались и уважали. Я хоть не ходила никогда в брюках, как мои подруги, и у меня две толстые длинные косы. Возни с ними много, мама удивляется, почему я их не остригу. «Тася, это же немодно, наконец!» А мне жалко с ними расставаться, волосы – лучшее, что у меня есть: скуластая, глаза небольшие и глубоко посажены, серо-зеленого «кошачьего» цвета, губы толстые, высокий рост («дылда»!). Не понимаю, за что меня полюбил Василий? И почему я нравилась ребятам? Наверное, просто потому, что им со мной весело – я всегда шучу! И – современные юноши ничего не понимают в женской красоте. Это сказал Брачко-Яворский, и я с ним вполне согласна. А вот Мария Кирилловна – красавица. Тяжелый мужской труд лесничего, ежедневные поездки верхом на лошади, слышит крепкую ругань, может, и самой приходится ругаться и «разносить», а какая женственная, мягкая, ласковая, несмотря ни на что.
Какие чудесные большие синие глаза!
– Семнадцать лет женаты! – сказала она.– Мне было девятнадцать, ему двадцать пять, когда мы поженились. Ефрем ведь здешний. Родился-то он, собственно, на Байкале, но отец его – фельдшер, был послан сюда, в Кедровое, когда открыли больницу, и здесь осел навсегда. Когда Ефрем кончил среднюю школу, началась война. Ушел на фронт, был несколько раз ранен. После войны вернулся сюда, на Ыйдыгу, но уже не застал отца в живых. Он подался на Ангару. Сначала работал плотовщиком, потом стал водником, водил буксиры с плотом. В отпуск приехал навестить мать и познакомился со мной. Мы поженились...
– А вы тоже здешняя?
– Нет, что вы! Я родилась в Саратове. И мать моя была саратовская. Врач. А отец из Ленинграда. Он был лесничим – коммунист. Сам попросился сюда работать. Терпеть, говорит, не могу клочья! Люблю цельные лесные массивы. Он и организовал здешний лесхоз. До этого тайга действительно была ничья. Губили ее жутко. Одни пожары сколько уносили ценнейшей древесины. Каждый год. А как безжалостно губили кедры во время сбора орехов! Слышали про этот метод: околачивание? Большая деревянная кувалда-колот. Обрубок сырого бревна... Ударяют по дереву, пока не упадут шишки. Живая ткань дерева омертвляется, ствол деформируется, древесина загнивает...
А какая техника была: ручные грабли, бутылка для высева семян, мотыга, лопата, топор да ручная пила. Эх, кабы отец видел, какие машины пришли к нам в лесхоз. Вот бы порадовался! А авиация! Отец умер от болезни сердца. В городе умер бы раньше... Его даже в армию не брали из-за сердца. Мама умерла давно, я ее почти не помню. Ну вот, я осталась одна. Такое горе!!! Думала, не переживу. Признаться, растерялась. Мне предложили работу в лесничестве, помощником таксатора. Я немного разбиралась в этом. Отцу часто помогала. Конечно, согласилась. Очень мне было тяжело в тот год, невыносимо! Одинокой чувствовала я себя. Ефрем дал мне то, в чем я больше всего тогда нуждалась,– человеческое тепло! Добрый он. Проводил меня из кино и вдруг у калитки погладил по голове... В точности, как это делал покойный отец. Я разрыдалась. А Ефрем говорит: «Вы не одна! Знайте, вы не одна!» Когда мы поженились, Ефрем через месяц спросил меня: «Какие у тебя были планы на жизнь, ну, если бы не умер отец?» – «Учиться! Я бы пошла в лесной институт».– «Иди и учись,– говорит,– я буду тебе помогать». Вот он какой, мой Ефрем! Я училась в Москве, а он помогал мне. Не всегда и летом мы виделись. Иногда посылали на практику в другие лесничества, где было чему поучиться. И он терпеливо ждал меня все годы. Всегда верил мне! А я ему. Разве может быть иначе, если любишь? Он водил баркасы по Ангаре и Ыйдыге – там, где она судоходна. Он, третий помощник штурмана, конечно, стал бы капитаном...
Мы долго молчали.
– Пойду приготовлю ужин,– сказала Мария Кирилловна, поднимаясь.– Нет, не помогайте. Я сама. Мне необходимо чем-то заняться!
Она ушла в дом. Я осталась на крыльце, все сильнее и сильнее ощущала тревогу. Так я сидела, растерянно смотря в туман, пока меня кто-то тихонечко не позвал. Это был Андрей Филиппович.
– Что делает Мария Кирилловна? – спросил он шепотом, и от этого шепота у меня упало сердце.
– Готовит ужин. Что-нибудь случилось с Ефремом Георгиевичем?
– Боюсь, что да... Рабочие лесхоза встретили его лошадь и отвели ко мне, боясь испугать Марию Кирилловну. Не знаю, говорить ей или пока не надо? Мы начинаем поиски.
– Если бы это была я – лучше говорить все.
– Я тоже так думаю.
Андрей Филиппович долго смотрел на меня, как бы разглядывая, но он, наверное, меня и не видел. Заржала его лошадь, оставленная у ограды, Мария Кирилловна выскочила на крыльцо. Как раз подошел Даня, она его не видела. Мальчик был очень встревожен. Наверное, уже знал.
Жаров рассказал Марии Кирилловне про лошадь. Она отшатнулась и медленно-медленно поднесла руки к лицу.
– Вот оно – пришло! – прошептала она горько. Я думала, она начнет плакать, но она пошла седлать свою лошадь, не сказав больше ни слова.
Когда они уехали, бледный и дрожащий Даня предложил запереть дом и идти искать отца. Я согласилась, но предложила сначала зайти в контору лесничества.
В ярко освещенной конторе мы застали Брачко-Яворского, Жарова, Владимира Афанасьевича, его жену (она уже, видимо, всплакнула), начальника милиции, нескольких лесников, рабочих и Марию Кирилловну. Она была очень бледна, но крепилась. Меня поразило, как спокойно и деловито она себя держала. Пришел председатель колхоза из Кедрового, здоровенный дядя с черной бородой. Он был в сапогах и бушлате. Дверь беспрерывно хлопала – входили и выходили.
– Придется прочесать всю окрестную тайгу,– расстроенно сказал начальник милиции, худощавый пожилой человек. Он ходил крупными шагами по комнате.
На мальчугана все смотрели с сожалением. Что меня поразило: все до одного подозревали убийство. Больше того, были уверены, что убил именно Харитон.
Михаил Герасимович сидел за письменным столом и хмурился.
– Все ждали убийства и не приняли никаких мер,– сказал он на ухо, когда я села рядом с ним.
Вошел запыхавшийся милиционер, совсем молодой паренек с капельками пота на вздернутом носу.
– Чугунов бежал! —отрапортовал он, вытянувшись, начальнику милиции.– С Чугунихой удар. Возле нее кума. Врача вызвал. Будем искать Харитошку?
– По какому обвинению? – огрызнулся начальник.– Надо сначала найти мертвое тело.– Он поймал взгляд Марии Кирилловны и осекся.– Может, он жив и здоров... Мало ли какие бывают дела. Задержался – и все!
– Лошадь-то пришла...– тихо проронил милиционер.
– Лошадь, лошадь! – передразнил начальник.– Пошли, товарищи, будем прочесывать тайгу. Разделимся на группы.
Всю ночь шли поиски. Это была бесконечная, жуткая ночь, какие бывают только в тяжелых снах. На всю жизнь мне запомнятся сырой и душный сумрак тайги, мелькающий свет фонарей, то приближающийся, то удаляющийся, глухие голоса, перекликающиеся в тумане, лай собак, невольный ужас, когда гниющее дерево во мраке принималось за то, что мы искали.
Бедный Даня все крепче и крепче сжимал мою руку. Я поняла, что непосильная эта нагрузка на душу мальчика: поиски трупа отца в лесу. Но разве уведешь его домой, разве усидит он сейчас дома?
– Слышишь, Даня! – сказала я строго и даже потрясла его за плечи.– Твой отец жив! Ты меня слышишь? Он жив!
И мы снова искали, искали, искали – в каждой балочке, под деревьями, кустами, на болоте. Мы несколько раз видели Марию Кирилловну. Верхом на своей Рыжухе она руководила поисками и не обратила на нас внимания. Несколько раз к нам подъезжал Андрей Филиппович и уговаривал уйти домой, отдохнуть.
– Я не уйду, пока не найду папу! – отчаянно возражал Даня.– Ведь это мой отец, и я должен его найти!
Было ли это уже утро, или ветер разогнал туман, и проявилась во всей красоте своей белая ночь, только стало в тайге светло. Мы шли сосновым бором, ломая кусты можжевельника, росшего здесь, как подлесок. Вместе с нами искали под каждым кустом Стрельцов и Ярышкин, рабочие экспедиции.
Они не отставали от нас с Даней ни на шаг, из чего я заключила, что их послал «охранять» нас профессор. Теперь, когда рассветало, я видела, как они устали. Возможно, уже сутки на ногах, ведь они работали накануне, упаковывая вещи, получая продукты для экспедиции. Я совсем не чувствовала усталости, должно быть, от нервного возбуждения.
Мы остановились перевести дыхание перед тем, как начать пробираться сквозь заросли в гору, когда услышали треск сучьев, и едва успела я подумать: «не медведь ли?», к нам вышел незнакомый молодой человек, одетый в какую-то форму – я сразу не разглядела, в какую именно. Он запыхался, густые рыжеватые волосы растрепались, фуражку он, вероятно, потерял. На щеке краснела свежая царапина.
У него было такое своеобразное лицо – тонкое, узкое, нервное, настойчивое, что, встреть я его на самой людной московской площади, я бы несколько раз оглянулась на него. А потом еще долго бы вспоминала это незнакомое лицо, жалея, что больше не увижу.
– Идите за мной! – сказал он негромко и, не оглядываясь на нас, быстро пошел влево, обходя гору. И мы заторопились за ним.
– Пинегин должен быть у серебряного болотца,– бросил он на ходу, когда мы его догнали. Никто не спросил незнакомца, откуда он знает. Это мне он был незнаком, а рабочие и Даня отлично знали его. Он оказался тем самым летчиком, о котором Мария Кирилловна сказала~«Он любит людей!» Это был Марк Александрович Лосев, летчик-наблюдатель из северной авиабазы.
...Мы нашли его под высокой сосной на краю болота, заросшего седым зеленоватым мхом. Ефрем Георгиевич лежал спокойно и удобно, глядя в небо, где разгоралась красная, как отблеск пожара, заря. Он был еще жив и терпеливо ждал, когда за ним придут. Рану он заткнул мхом. Это и остановило кровотечение. Я отошла в сторону и заплакала.
Когда я вытерла слезы и обернулась, мужчины уже делали что-то вроде носилок, а Даня сидел на корточках возле отца. Он не плакал.
– Вертолет неподалеку. Сейчас мы тебя подбросим, Ефрем Георгиевич,– успокаивающе сказал летчик.
Когда «носилки» были готовы, мы осторожно положили на них Пинегина и понесли. Он закрыл глаза. Кажется, потерял сознание. Мужчины несли носилки, болезненно морщась, когда задевали за куст или сучья деревьев, как будто это им было больно. Не так легко пронести раненого сквозь чащу. Мы подошли к вертолету, стоявшему на небольшой поляне. Осторожно внесли и положили Пинегина прямо с носилками на пол. Снова открылось кровотечение. Пинегин не приходил в себя. Стрельцов положил побольше мха на рану и перевязал, разорвав для этого свою рубаху.
Мы с Даней сели в вертолет, а Стрельцов и Ярышкин отправились искать Марию Кирилловну.
Странное чувство нереальности происходящего снова охватило меня. Будто я двигалась, что-то делала и думала во сне. И во сне видела тайгу, раненого, этих сибиряков и странного летчика. Чем-то он был странен, но я никак не могла понять чем...
– Папа! – позвал Даня.– Папа! У мальчика задрожали губы.
– Он не умрет? – спросил он меня.
– Нет, нет, он будет жить! – сказала я вслух, а про себя подумала: «Только бы не умер! А убийца – брат Василия. Какой ужас, какой ужас!»
Мы пролетели над кордоном, над центральной усадьбой лесничества, над Кедровым – бревенчатые дома то появлялись, то исчезали в тайге, будто она прятала их. Вертолет приземлился на площади у районной больницы.
Пинегина так без сознания и положили на операционный стол... Мы вышли в больничный сад – просто участок невырубленной тайги, расчищенный и ухоженный, и сели на длинную скамью.
Даня наконец заплакал и, стыдясь слез (мужчина!), сделал вид, что хочет подремать. Но, когда прилег на скамейку, подложив руку под голову, сразу уснул.
Ощущение нереальности все продолжалось. Я что-то хотела понять, сообразить, но мысль ускользнула. Вдруг я поняла, вот оно: откуда пилот узнал?
– Вам сказал сам Харитон,– сказала я тихо. Марк быстро взглянул на меня и смотрел долго, пока я не смутилась.
– А вы кто? – спросил он.
– Тася... Терехова.
– Почему вы подумали, что мне сказал Харитон?
– Не знаю. Вам он мог сказать. Вы его... видели? Летчик помолчал.
– Да, я его видел,– наконец вымолвил он неохотно.– Именно он и сказал мне, где лежит лесник. Харитон думает, что убил. Может, так оно и есть.
Мы сидели под старой кряжистой лиственницей. Марк посмотрел на часы: было ровно пять утра. Интересно, сказали ли уже Марии Кирилловне? Или еще ищут ее? Даня тихонько застонал во сне. Он спал, сморенный усталостью, но сознание беды не оставляло его. Бедный мальчуган!
– Этот Харитон не такой уж плохой парень, мы с ним не раз ездили на рыбалку,– с досадой сказал Марк.– Жалко и его. Что с ним будет?
– Он убежал?
– Да.
– Он знает, что его мать разбил паралич?
– Что? Он мне ничего об этом не сказал.
– Милиционер говорил. Когда кончится операция, я схожу к ней.
– Неприятная женщина!
– Да. Но я должна к ней сходить. Возможно, придется дать телеграмму другому ее сыну... Нельзя же бросить...
– Вы знаете Василия?
– Да.
Кажется, я покраснела – ни к селу ни к городу. Марк отвел глаза и нахмурился.
– Он хороший человек?
– Не очень.
– Ах, вот что! Теперь я начинаю понимать. Вы сказали о Харитоне не как посторонняя... хотя только что приехали и не могли его знать. Вы что... любите его брата? Простите.
– Нет, нет. Любила прежде.
– Гм. Не смею спрашивать.
А спросить ему явно хотелось. Все равно весь институт знал. И я вдруг рассказала ему – незнакомому человеку – всю историю моей неудавшейся любви. Поплакала в жилетку!
– Да, такое глубокое чувство может либо обогатить, либо опустошить – зависит от самого человека,– заметил Марк.– Как же вы перед ним устояли —такая малышка?
– Ох, я бы не устояла, если б он тогда добивался меня открыто и честно: вот она – я ее люблю! А он трусил и колебался.
– И вы не можете забыть... теперь, когда он овдовел?
– Я его не уважаю! Я рассказывала вам о прошлом.
– Вот оно что!
На меня вдруг напал «болтун», как выразилась бы мама, и я говорила, говорила без конца. Будто год перед тем молчала. Пожалуй, так оно и было. Наверное, Марк тогда подумал: «Ну же и болтуха!» Я рассказала ему о Михаиле Герасимовиче, о папе, маме, Родьке, его невесте. Рассказала, как мама ходила к наркому. Лицо Марка вдруг окаменело, потемнели зеленоватые глаза.
– Какая хорошая женщина ваша мама! Это, действительно, уникальный случай. Как бы я любил и уважал такую вот мать. Гордился ею...
Я вдруг подумала: вот все рассказала я ему о себе. А о нем ничего не знаю – незнакомец!
Марк словно прочитал мои мысли.
– Я редко рассказываю о себе... Никогда о матери... Но вам коротко скажу. Когда арестовали моего отца, мне было двенадцать лет. В пятом классе учился. Я безумно любил отца, как люблю и теперь! Когда за ним пришли – я это хорошо помню,– на меня словно умопомешательство нашло. Ни уговоры отца, ни окрик матери, ни угрозы тех, кто за ним пришел. Я... дрался! Пришлось запереть меня в ванной комнате. Отцу не разрешили со мной проститься. Так и увели. Мать моя... она директор одного научно-исследовательского института в Москве. Ну да, я тоже из Москвы! Она отреклась от мужа. Не носила ему передачи, не писала писем. От омерзения и злобы я превратился в зверёныша. Я ходил по знакомым и просил взаймы денег на передачу отцу. Когда буду работать – отдам! Давали. А один из папиных друзей ходил со мной в тюрьму... два раза в месяц... когда на букву «л»... Когда отца увезли, я с ним переписывался. У него было право переписки. От матери я ушел. Я просил директора школы устроить меня в детдом или на работу. Никакие уговоры не помогли. Домой я не вернулся. Пришлось определить меня в интернат. Как только я получил паспорт, я бросил школу и уехал на Север. Поселился неподалеку от отца. Нашел работу по душе!
Марк вдруг рассмеялся.
– На этой самой лесной авиабазе. В шестнадцать лет не допускают к парашюту, но для меня сделали исключение. Сначала, конечно, отказывали, но я не уходил с аэродрома. Таскал со склада ящики со взрывчаткой, ранцы, мотыги, лопаты, топоры. Помогал снаряжать самолеты. Меня полюбили. Инструктор парашютно-пожарной службы взял надо мной шефство. Даже жить пригласил к себе. Поместил в одной комнате с сыном.
С тех пор я работаю в лесной авиации. Окончил среднюю школу, летные курсы, техникум – все это заочно. Налетал многие тысячи километров, совершая патрульные рейсы над тайгой. Нет, пока врачи на спишут на землю, из лесной авиации не уйду. Люблю это дело! Люблю русский лес. Живем вдвоем с отцом на Вечном Пороге. Там наша авиабаза. Здесь, в Кедровом, оперативное отделение. Вот и патрулируем северные леса. Отец давно реабилитирован, восстановлен в партии. Работает на строительстве плотины на Ыйдыге. Он ведь у меня инженер-энергетик.
– И вы не простили матери? – почему-то с робостью спросила я.
– Она не нуждается в прощении. Она вышла замуж, у нее другой сын, еще маленький. Брата я никогда не видел. Раз или два в год она присылает письма, я отвечаю. Иногда говорим по телефону. Вот вам и вся моя история. Несложная!
Он улыбнулся – своеобразная у него улыбка – и осторожно поднял свесившуюся до земли руку Дани.
– Устал бедняга! – заметил он ласково.– Пусть спит. Пойдем узнаем, как Ефрем Георгиевич.
Мы пошли к больнице. В это время подъехала машина и из нее выскочили бледная Мария Кирилловна и Жаров.
– Ефрем? – спросила она. Губы ее прыгали, и она никак не могла удержать их. Я, как могла, успокоила ее. Мы все вошли в больничный вестибюль. Минут через пять к нам вышла хирург – худощавая пожилая женщина с желтыми от йода руками.
– Будет жить! – поспешно крикнула она Марии Кирилловне.– Ну-ну, не плачьте, милая!
Когда Мария Кирилловна немного успокоилась, хирург рассказала: у Ефрема Георгиевича огнестрельная рана, выстрел был с близкого расстояния. Отдельные дробины проникли довольно глубоко. Он мог бы истечь кровью, но мох прекратил кровотечение. У Марии Кирилловны опять брызнули из глаз слезы, но она улыбнулась светло и благодарно.
– Все годы Ефрем отдавал лесу свою жизнь, и лес пришел ему на помощь в смертный час. Можно мне пройти к нему?
– Конечно. Его положили в отдельной палате. Ефрем Георгиевич еще спит после операции. Сейчас поставим туда вторую кровать. Вам тоже надо отдохнуть, вы же еле на ногах держитесь.
Врач увела Пинегину. Мария Кирилловна даже забыла спросить о Дане. Мы пошли разбудить его.
Директор лесхоза взял Даню с собой в машину.
– Пусть пока поживет у нас,– сказал он,– мама о нем позаботится. Вы поедете с нами, Таиса Константиновна?
Я объяснила, что мне надо сходить к Чугуновой. Он скользнул взглядом по стоявшему рядом Лосеву, кивнул нам приветливо головой, и машина тронулась, поднимая пыль. Жаров правил сам. Славный директор лесхоза, бывший акробат.
– Если разрешите, я пойду с вами,– подумав, сказал Марк,– Если Виринея Егоровна в сознании, я хочу успокоить ее насчет Харитона.
– Его найдут?
– Не знаю. Во всяком случае, раз Пинегин жив...
Дом Чугуновой стоял неподалеку от больницы, как раз с этого конца села. Но мы опоздали.
Ее тело обмывали, когда мы пришли. Полон дом старух – охающих, причитающих. Косо они посмотрели на нас. Одна мне показалась доброй и приветливой (чем-то напомнила московскую соседку Пелагею Спиридоновну), я спросила у нее, послали ли старшему сыну телеграмму. Оказалось, что адреса никто не знает, будут искать письма. Вероятно, они в сундуке, но сундук заперт, и его еще не открывали. Я обещала дать телеграмму, старушки подобрели. Рассказали, как умерла Виринея Егоровна. Так и не пришла в сознание. Врач сказал: кровоизлияние в мозг.
– Она, сердешная, как услышала, что Харитонушка – убивец, так ее и хватило,– сказала та, что похожа на Пелагею Спиридоновну. Ее звали тетя Флена, так к ней обращались все без исключения, даже кто был старше ее лет на двадцать.
– Как же вы ей так сразу и сказали? А если бы не Харитон стрелял... вы же не могли знать.
– Так он же ей сказал – Харитонушка! – Тетя Флена горестно покачала головой в белом платочке, повязанном под подбородком.– Сам ей сказал. Должно, думал, она крепкая, выдюжит. Ан нет! Он ее положил на кровать, собрал, что нужно с собой в бега, и сходил за мной. Дескать, тетя Флена, иди к матери, а я ухожу в тайгу. Я, говорит, убил– лесника.
– Вы думаете, его не поймают?
– В тайге-то? Она, матушка, хоть кого скроет. Разве сама от него откажется... Бывает и такое. Тогда выдаст или самолично казнит. Да Харитон с ней в дружбе. Он с начальством никак не ладит, а медведь ему друг и брат.
Тетя Флена говорила певучим северным говорком. Тайга для нее была живой, разумной, справедливой. Видно было, что человек этот родился, вырос и состарился в тайге.
Мы собрались уходить.
– Зайдите проститься, ее уже обрядили! – предложила тетя Флена и раскрыла перед нами дверь в «залу».
Виринея Егоровна лежала на том самом столе, за которым мы еще недавно пили чай. На ней был сарафан и белая, пожелтевшая от времени шелковая кофта с пышными рукавами. Вероятно, давно приготовленный «на смерть» старообрядческий костюм. Виринея Егоровна казалась более живой, чем при жизни, хотя были закрыты яркие глаза ее. Пергаментная кожа уже потеряла последний блеск – след живого, но в чертах лица разлилось спокойствие и скрытая при жизни доброта. Может, обманчивая.
Я стояла у изголовья мертвой и думала: вот была женщина, тоже звали Виринея, как у Сейфуллиной. Но эта Виринея не приняла ничего от новой жизни и неизвестно для чего жила.
Просто мучилась, гневалась, злобилась, уставала, мало радовалась, возможно, завидовала в душе тем, кого осуждала, не могла никак принять! Правда, она дала жизнь двум сыновьям. Но и мать она была плохая. Прокляла и оттолкнула старшего сына, направила на ложную дорогу любимца-младшего и не перенесла его духовной гибели, погибла сама. Зряшная жизнь – к чему, для чего? Словно сорная трава, синий василек во ржи: хоть и не выпололи, дали самому увясть, а зачем цвел и увядал, неизвестно. Но ведь это был человек! Хороший или плохой, но человек! Целый Мир, Вселенная – и вдруг впустую, как пустоцвет. Впустую было все – обаяние молодости, ум, воля, энергия, способность творить, приобретать опыт и мудрость. Это было трагично.
Что видела и знала она? Видела ли она красоту Земли? Или некогда было ее разглядывать за тяжелой работой – без творчества, без радости – преждевременно состарившей ее. Знала ли, какую огромную, чистую радость дает искусство? Откуда ей было это знать. Все события мира прошли, не касаясь ее, как если бы она жила на дне озера. Как страшно обеднила и обездолила она свою жизнь! Но почему? Ведь революция произошла почти полвека тому назад. Она была маленькой девочкой тогда. Она и не помнит старого мира. Но она искусственно окружила себя всем, что можно было взять из старого мира,– в нем жила и в нем умерла. Почему это так получилось? Наверно, с ней никто не поговорил по душам– кто-нибудь умный и добрый. Не растолковали, не разъяснили, не приласкали в горе, не утешили в обиде, не научили надеяться, верить будущему, радоваться настоящему – тому, что есть в нем хорошего! Не попался на ее жизненном пути настоящий человек!!! И так прожила она век Чугунихой, бывшей кулачкой. И вот – жизнь попусту!
Я поцеловала бедную женщину в еще не остывшую щеку и пошла. Марк вышел за мной. Ничего не сказав, он повел меня через какой-то проулок.
– Куда мы идем?
– На почту. Вы же хотели дать телеграмму.
6. ОПЯТЬ ВАСИЛИЙ
К похоронам матери Василий приехать не смог, телеграфировал, чтоб его не ждали. Но через несколько дней прилетел самолетом.
Я еще все не трогалась с места – ждала Марию Кирилловну. Муж ее быстро поправлялся: лесной воздух, богатырский организм, дробины все вынуты, по счастью, в сердце не попала ни одна. 320
Мы скоро должны были выехать в экспедицию. А пока я помогала профессору. Ему на весь сезон выделили специальный вертолет и прикрепили летчика. Но теперь этого летчика почему-то заменил Марк. Я была очень довольна, Марк, кажется, тоже. Настроение у меня было самое праздничное. Давно я не чувствовала себя такой счастливой.
Василий это сразу прочел на моем лице и, кажется, обиделся. Конечно, нехорошо. У него такое горе, а я радовалась, да еще сама не знала чему.
Он стоял на посадочной площадке и ждал, когда приземлится наш вертолет. Василий мрачно поздоровался с Михаилом Герасимовичем, настороженно кивнул летчику и, словно имел на это полное право, молча взял меня под руку и увел. Я заметила, что Марка всего передернуло, и мое настроение повысилось еще на несколько градусов. От радости я едва не запрыгала, как маленькая.
– Чему ты радуешься? – буркнул Чугунов.
– Всему. Жизни!
Он пожал плечами. Однако как он научился одеваться! Словно из рижского журнала мод. Прекрасный серый костюм, импортные туфли, белая выутюженная рубашка. Интересно, кто ему гладил? Ведь в чемодане должно было все помяться. Но лицо у него отнюдь не с журнала мод. Сейчас он очень походил на Харитона, особенно серые глаза – диковатые, злые. Он сильно осунулся и похудел. Мне стало жаль Василия, и я невольно прижала его руку. Лицо его прояснилось.
– Плохо дело, Таиска, с моим братухой. Говорил с начальником милиции... Харитона ищут. Если найдут, будут судить за покушение на убийство. Учтут и злостное браконьерство. Если не найдут – скитание по тайге, бродяжничество. Выйдет к людям – поймают, как волка. Плохо дело!
Я хотела ему сказать, что о младшем брате надо было думать раньше, помочь ему учиться, вырвать из-под влияния Виринеи Егоровны. Но жестоко было говорить это теперь, когда он и без того, наверно, раскаивался в своем эгоизме. И я промолчала.
Он остановился в доме матери. Там хозяйничала тетя Флена. Она поздоровалась со мной, как со знакомой, сказала, что самовар на столе, и ушла: у нее телилась олениха. Самовар мурлыкал так уютно, будто знал, что его ставила уже тетя Флена, пахло травами, на тарелках аппетитно лежали пироги, лепешки, вареные яйца, мед, кислое молоко в ледяной запотевшей крынке (наверное, только из погреба!), сверху запеклась румяная пеночка.
– Есть хочешь? – спросил Василий.
– Ужасно!
– Так хозяйничай. Кстати, в печи есть борщ. Хочешь? И я бы заодно поел.– Он снял пиджак и повесил его на спинку стула.
Я достала ухватом огромный чугун с борщом, налила ему и себе. Борщ был вкусный, хотя я не люблю с квашеной капустой. Мы поели, убрали со стола и стали пить чай.