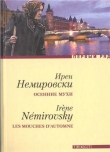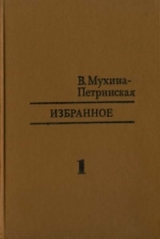
Текст книги "Избранное. Том 1"
Автор книги: Валентина Мухина-Петринская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 40 страниц)
– Слушай... я не знаю, как тебя звать...
– Меня зовут Сергей. Сергей Авессаломов. Я...
На этом он убежал, не попрощавшись, опрокинув по пути стул.
В следующий раз Сергей привел с собой всю компанию. В белых халатах, в одних носках (тапочек в больнице не хватало, в сапогах не пускали), в непривычной обстановке они явно смущались. Чувствовалось, что вожаком у них Сергей. (Без вожака они никак не могут. Обязательно нужно, чтобы ими кто-то распоряжался!)
Они выложили на тумбочку передачу: яблоки, шоколад, орехи. Сергей всех представил – не по кличкам, а по именам (вот это достижение: вспомнили наконец, что у них есть имена) – и хотел заставить каждого просить прощения. Но с меня было довольно, и я сразу заявил, что давно простил. Все заметно повеселели. Неужели им действительно нужно мое прощение? Или просто боятся осложнений со стороны юридической?
Мы немножко побеседовали. Они меня называли «друг Коля», я их по именам. Попрощались честь честью, за руку.
После них явилась делегация от рудника: секретарь комсомольской организации, председатель месткома. Тоже принесли яблок, шоколада и орехов. За ними группа хихикающих девушек. Эти принесли мне блинчики с вареньем, кисель и пельмени со сметаной.
Я представил, как они пекли на общей кухне в общежитии эти блинчики, как их старательно мазали вареньем, и от души извинил неуместное хихиканье. Они смущались, оттого и хихикали. Одна из девушек побойчее, крепкая, грудастая брюнетка Настя Годунова, была известна по газетам как знатная крановщица. Остальные – просто милые, скромные, стесняющиеся девушки – русые, темноволосые, одна рыженькая. Они не знали, о чем со мной говорить, и молча таращили на меня глаза.
Говорила одна Настя, громко, будто с трибуны. Она рассказала, как на руднике сейчас борются с хулиганством. А потом, должно быть вспомнив по ассоциации, рассказала, как у них на селе хулиганы «отбили печенки» одному парню и он, когда «оживел», переехал в город, так как уже не годился для крестьянской работы. В городе он окончил институт и теперь работает фармацевтом. А жена у него зубной врач.
Девушки посматривали на Настю неодобрительно и скоро начали прощаться. Они пожали мне руку, а рыженькая даже поцеловала меня.
В последующие дни меня навестил, кажется, весь рудник. Моими передачами угощались все больные и медперсонал в придачу. А у меня не было аппетита. (Только те блинчики я и съел: не хотелось обижать девчат.)
Конечно, навещали и наши обсерваторские.
Валя Герасимова, обняв меня, всплакнула.
– Что я скажу Дмитрию Николаевичу! – твердила она в отчаянии.– Не уберегла его единственного сына!
Как она могла меня уберечь? Чудачка!
Приходил Барабаш. Клял себя, что не проводил нас тогда.
– Понимаешь, сынок, постеснялся навязываться. Дело молодое у вас... Я ведь понял, что любишь ты абакумовскую дочку.
Лиза была серьезная и замкнутая. Поцеловала меня и села рядом. Что-то ее угнетало, тревожило. Мы оба испытывали неловкость. Беседа не вязалась. Лиза расспросила меня о здоровье. Рассказала, какие работы проводятся в обсерватории. Сообщила, что завтра у Марка выходной и сегодня он придет ночевать. Я обрадовался. Лиза вздохнула, опять поцеловала меня в щеку и ушла...
Когда за ней закрылась дверь, меня охватило такое отчаяние, что захотелось умереть. Я понял, что по-прежнему – нет, больше – люблю ее. «Будет ласковый дождь».
Глава десятая
«ТЫ ТЕПЕРЬ НЕ СОЛДАТ»
Утром, сразу после обхода врача, пришел Абакумов. Вот кто меня любил больше всех – Алексей Харитонович. Он судорожно обнял меня:
– Сыночек!
Мы оба растроганно смотрели друг на друга. За это время, что я его не видел, Абакумов снова потерял обретенную жизнерадостность. Но он не жаловался. Был молчалив и полон сочувствия. Рассказал, что подыскивает себе работу...
– Даже если бы Казаков вас уволил, чего без основания делать не имеет права,– возмутился я,– с плато он не может вас согнать, у вас же собственный дом! (Я поразился прозорливости Ангелины Ефимовны, настоявшей на купчей.)
– Это так, спасибо профессорше,– согласился Абакумов.– Можно, конечно, в случае чего и на руднике найти работу. Работой меня не удивишь. Мы ко всему привычны.
– Он не придирается к вам? – спросил я.
– Евгений Михайлович-то? Нет, вроде бы как не придирается. Ему слово-то мне сказать зазорно. Брезгует он мной. Это ведь не Дмитрий Николаевич...
Гарри Боцманов принес мой любимый пирог. Он меня просто заговорил.
– Думаю уезжать, милый Коля. Ты сам знаешь, что я прирожденный моряк. И фамилия морская: Боцманов. Какой-то прапрадед был боцман во славу русского флота. Может, при Петре Великом жил и трудился на его кораблях? Мне рассказывал такое мой дедушка. Ну, а я морской кок по призванию. Мне на одном месте сидеть никак невозможно. Если бы я тогда не проворовался, разве я попал бы на это плато.
– Да, но теперь-то зачем приехал?
– Охмурил меня твой отец, профессор Черкасов, а сам взял да в Антарктиду подался! А Гарри ему не нужен. Разве бы я не мог работать поваром в Антарктиде? Вот я и решил: увольняюсь! Да еще при таком начальничке работать, как этот психованный Женечка? Ни за что! Помяни мое слово, будет на плато смертоубийство. Я не я, если Алексей Харитонович не пристукнет его за дочку. Ведь даже постороннему человеку видно, что Женечка воспылал страстью кое к кому.
– Что ты говоришь! – недовольно пробормотал я.
– Есть у меня друзья на китобое,– продолжал как ни в чем не бывало Гарри.– Ихний кок просто сухопутная крыса: добавки жалеет лишний раз плеснуть моряку! – и скучный такой, словно нафталином его посыпали. Этот нафталинный кок хочет осесть в Одессе. Ну, а раз так – вся команда спит и видит снова заполучить к себе Гарри Боцманова. Будешь мне писать на китобойное судно?
– Буду, если не забудешь прислать адрес.
– Это намек на то, что в прошлый раз забыл? Тогда же ты был маленький, о чем бы я тебе писал? А теперь ты взрослый, умный человек. Не совсем, положим, умный... Я бы лучше тысячу раз кукарекнул... Черт с ним, лучше кукарекать, чем потом лежать и кашлять. Разве не так?
– Может, и так, но я лучше бы умер, чем стал терпеть издевательства какого-то подонка.
– Гм, понимаю тебя, браток! Со мной было нечто подобное, когда я плавал на «Морском коте»...
Гарри так и не рассказал свою историю. Вошла Зинаида Владимировна, пощупала пульс и нашла, что на сегодня посещений хватит. Уходя, Гарри шепнул мне:
– Насчет Лизы ты, браток, не бойся – сто пар глаз за ней доглядывают. Ничего плохого с ней не случится. Я еще погуляю на вашей свадьбе, если, конечно, пригласите и если я не буду в это время в далеком плавании. Поправляйся, Коля!
После него стало тихо и тоскливо. В соседней палате сестра звенела пузырьками. Пахло лекарством и дезинфекцией. В коридоре переругивались санитарки. Ко мне было зашел больной из соседней палаты, но я сделал вид, что сплю.
Выздоровление затягивалось, больница надоела мне до чертиков, и я стал настойчиво просить Зинаиду Владимировну, чтобы меня выписали.
– Но ты еще температуришь,– с досадой возражала она.
– Оттого и температурю, что в больнице,– резонно доказывал я.
– Тебе вообще теперь противопоказано Заполярье. Надо возвращаться в Москву.
Глаза ее смотрели на меня с жалостью. Она размышляла вслух.
– Отец работает в Антарктиде... Гм, думаю, мать сумеет устроить тебя в хорошую больницу? Там тебя подлечат. Потом в санаторий месяца на три... куда-нибудь на берег моря. Да, похоже, ты у нас не поправишься... Ладно, я тебя выпишу, буду навещать. А пока мы изыщем способ отправить тебя в Москву. Что ты так побледнел?
– Зачем же в Москву... Дома... ну, в обсерватории я быстро поправлюсь и приступлю к работе.
Зинаида Владимировна отвела глаза.
– Разве я уже и работать... не смогу? Как же...
– Не волнуйся. В этом году не сможешь. Пройдешь комиссию... Тебе дадут вторую группу. Может, первую.
– Какую... вторую? – не понял я.
– Инвалидности. Вторую группу. Что ты так все воспринимаешь? Это же временно. Тебе необходим щадящий климат. Средняя полоса России. Ни жары, ни холода... А пока мы выпишем тебе бюллетень. Не расстраивайся. Все идет нормально.
Марк прилетел за мной на вертолете. Утром я принял ванну, побрился. С чувством освобождения надел свой костюм. С Марком были и Абакумов и Бехлер. Оба сияли от радости, что я возвращаюсь. Я старался не делать резких движений: чего доброго, пойдет горлом кровь и меня не выпустят из больницы. Утром я нарочно не додержал термометр – получилась нормальная температура.
Провожать высыпала вся больница: санитарки, врачи и сестры. Больные приникли к стеклам и махали руками. Я изо всех сил крепился. Но когда вертолет поднялся, в изнеможении закрыл глаза.
– Устал! – крякнул Абакумов с сокрушением. Так с закрытыми глазами долетел до плато.
Встретили меня буквально все. Я чуть не заплакал – так был растроган общей радостью. За что они, собственно, меня любят?
В кают-компании был накрыт стол для праздничного обеда. Женя крепко пожал мне руку. Он немного загорел, лицо его обветрело. Валя Герасимова, не стесняясь, целовала меня, словно родная сестра. Лиза стояла в отдалении и смотрела грустно и пристально. Внутри у меня будто что-то оборвалось. Но я улыбнулся ей. Гарри в белом колпаке и халате помахал мне разливательной ложкой.
– Напоминаю, товарищи, через час обед,– сказал Женя.
– Сегодня у нас выходной в твою честь,– пояснил Марк, когда мы вошли в нашу комнату.– Ты очень устал, полежи пока.
Марк помог мне раздеться и уложил в постель.
– Может, тебе не надо идти на этот обед? – спросил он встревоженно.
– Ничего, Марк, я отдохну.
– Можно и там лежать... Стол мы придвинем к дивану.
– Буду возлежать как древний римлянин?
Обед прошел благополучно. Они не очень приставали, чтобы я ел. Я выпил немного шампанского, несколько глотков. С радостью всматривался в дорогие лица, такие оживленные и веселые. Разговор за столом велся на самые разные темы. Как всегда, больше всех острили бородачи геологи.
После обеда меня уложили на диван, стол убрали и начались танцы. Конечно, первым делом, твист. Они и Лизу научили. Она отплясывала по очереди со всеми ребятами. Женя «твистовал» с Валей Герасимовой, да так, что все бросили танцевать и смотрели, смеясь, на двух директоров. Поскольку женщин явно не хватало, танцевали и без оных – друг с другом.
В общем, было как будто весело и дружно. И все же у меня создалось впечатление, что это все камуфляж. Искусственное примирение между коллективом и директором, чтоб создать видимость истинного праздника. Им всем давно требовалось отдохнуть и повеселиться. При Ангелине Ефимовне каждый день немного танцевали, пели под гитару, а иногда веселились напропалую. Она сама, хоть ей под пятьдесят, очень веселая. А Женя сухой и холодный. Прежде он не был таким.
Вечером, уже лежа в постели, я спросил у Марка:
"– Почему не любят Казакова?
– Я тоже думал об этом. Почему? Истинным директором здесь является Валентина Владимировна. Только благодаря ей и сохраняется видимость благополучия. Она – буфер между коллективом и директором. А почему его не любят, ответ прост: несимпатичный он человек. Талантливый, но эгоцентричный, умный, но холодный. Нет в нем душевного тепла, что особенно ценится в условиях зимовки. Можно ли о нем сказать, что он карьерист? Не знаю... Честолюбив, конечно. Знаешь, что мне лично в нем не нравится?
– Что? – заинтересованный, я быстро приподнялся на локте. О, как закололо в боку!
– Осторожнее! Лежи спокойно. Он не борется с тем, что презирает. Ты заметил, плохое в жизни всегда почему-то и неумное. А Евгений Михайлович очень умен и не борется он по принципу: дуракам не закажешь. То, что я ненавижу всем существом, с чем буду бороться, пока жив, он лишь презирает. Думаешь, он не встречал в науке таких людей?
– Подожди, Марк, я еще смутно, но начинаю понимать. Но где факты?
– Факты на поверхности. Они не скрыты – вот, гляди! Казаков будет защищать докторскую. Кроме снисходительной иронии, эта тема в нем ничего не вызывает, но он защитит ее блестяще (вот увидишь!) и получит звание доктора наук. Я ведь не ученый, а всего лишь пилот. Видимо, эта тема апробирована. Выигрышна. А лучшие работы свои он делает негласно, для души, вроде это у него хобби. Почему же он не пошлет к чертовой матери то, к чему снисходит, и не отдаст себя целиком тому, чем захвачена его душа**
– Ты ему это говорил?
– Еще нет.
– И не советую. Наживешь врага. Он будет тем сильнее тебя ненавидеть, чем больше правды в твоих словах.
– Еще рано. Я не совсем разобрался в нем. Он ведь сложнее, чем кажется. А я так мало знаю... Коля, я хочу снова учиться!
Я уставился на него во все глаза:
– Да ну! На каком факультете?
Марк поморгал ресницами... До чего я любил этого парня! Как я радовался, что он мне друг.
– Видишь ли, меня не удовлетворяет моя работа.
– Почему? Неужели ошибся в выборе?
– Может, и ошибся. Вообще-то, каждому не мешает уметь управлять вертолетом, это всегда пригодится. Человек может уметь водить машину, но это не значит ведь, что всю жизнь надо только и делать, что водить автомобиль. Я бы хотел быть... астрономом. Почему тебя это так удивляет?
– Не то что удивляет...
Я был поражен и восхищен!
– Марк! Ведь это же замечательно! Я всегда увлекался астрономией, но мне и в голову не приходило самому быть астрономом. А разве есть заочный астрономический?
Марк грустно покачал головой.
– В том-то и дело, что нет. В Московском университете на Ленинских горах есть физический факультет. Я узнавал. Там пять отделений: физики, геофизики, астрономии и другие. Это на дневном факультете. На вечернем и на заочном отделениях физического факультета нет. Я писал ректору университета, спрашивал, нельзя ли сдать экстерном сразу за два курса. Я бы подготовился и сдал.
– Ну и что?
– Он пишет, что это не разрешается. Показать письмо? Марк полез в чемодан и достал довольно потрепанное письмо.
Видно, часто его перечитывал. Отвечал сам ректор (не поручил ответить секретарше!). Очень доброе, хорошее письмо. Приглашал Марка приезжать и держать экзамены.
– Хороший человек, должно быть, этот ректор, не поленился прочесть мое письмо.
– А разве такое длинное?
– Целая ученическая тетрадка.
– Ох!
Мы оба стали хохотать.
– Чего же ты там писал?
– Объяснял, почему хочу сдавать экстерном. Хочется поработать в обсерватории. Учиться пока и здесь можно. Люди вокруг ученые, помогли бы.
В тот вечер мы, как всегда, проговорили долго. С Марком не соскучишься! Перед сном Марк достал магнитофон и поставил голоса птиц. Я лежал весь в поту, преодолевая удушье – как мне не хватало воздуха! – и слушал щебетанье птиц.
Потом Марк спросил, понизив голос:
– У вас с Лизой плохо?
– Хуже некуда, Марк.
– Лиза очень страдает. Она думает, что все ее презирают за то, что она бросила тебя в беде.
– Какая ерунда! Чем бы она мне помогла?
– Она не может себе простить, что даже не попыталась. Обрадовалась, что ее отпустили.
– Она испугалась. Это так понятно.
– Конечно! Но это противно всем ее убеждениям. Я ее разубеждал, но никакого толка.
– Самолюбие ее ущемлено. Она была о себе другого мнения.
– Как у вас все неладно получается... с самого начала. За столом сегодня сели далеко друг от друга... Что же будет?
В последующие дни мне вроде стало легче, но все равно угнетали слабость и постоянное удушье.
Все работали, а я бродил по обсерватории. Несколько раз я вызывался кому-нибудь помочь, но меня мягко, но решительно отстраняли.
Тогда я, чтобы не мешать, шел на камбуз к Гарри. Он усаживал меня, как когда-то в детстве, на табурет в уголке, сбивал мне гоголь-моголь и, пока я ел, готовил обед и говорил:
– Помяни мое слово, Коля, этого Гуся не найдут. Они же его ищут не там, где надо. Подряд прочесывают тайгу, тратят драгоценное время.
– А ты знаешь, где его искать?
– Безусловно знаю. У теплых источников. Где горячие ключи, там он и прячется. А где еще можно спрятаться зимой? Был у нас на флоте такой случай...
Он рассказывал очередной случай, и я, выслушав, брел к себе в комнату. Там ложился поудобнее и читал фантастику. Или просматривал газеты. Свежие газеты и журналы теперь приносили ко мне в комнату.
Лиза, сделав очередное наблюдение, отсиживалась в метеорологическом кабинете либо уходила на лыжах в горы. Казакова она заметно избегала. Он ее, впрочем, тоже. До плато доносились глухие взрывы – это производили глубинное сейсмическое зондирование. Без меня.
Как-то вечером ко мне зашел Женя. Сел на стул. Внимательно посмотрел на меня.
– Не придумаем, с кем отправить тебя в Москву,– произнес он озабоченно.
– Зачем меня отправлять,– возразил я угрюмо.– Вот поправлюсь, приступлю к работе.
– Тебе надо лечиться. Ты сам знаешь. Врачи говорят, этот климат тебе противопоказан.
– Мало ли что они говорят. Не понимаю, почему вам так хочется от меня избавиться!
– Что ты, Колька! Ты же знаешь, как я люблю и тебя, и всю вашу семью!
Я увидел его расстроенное лицо и пристыженно умолк. Он великодушно потрепал меня по плечу.
– Кроме того, тебе надо учиться. Еще лет восемь, не меньше.
– С аспирантурой, что ли?
– Да. Наука потребует от тебя всей жизни. Для науки – не жаль. Жалко растрачивать время и силы попусту, черт те на что...
Женя горько махнул рукой и задумался, словно бы забыл обо мне.
– С волками жить, по-волчьи выть,– сказал он наконец,– иначе тебя съедят. Не дадут работать, двигаться вперед.
– Вы о чем, Женя? – не понял я его. И не мог понять тогда.
– Так... У меня были большие неприятности в Москве. Оттого я и решил приехать годика на два сюда. Кстати, и материал на докторскую собрать.
– Какие же неприятности?
– Узнаешь в свое время. Чем позже, тем лучше для меня. Ну, поправляйся.
Он ушел. А вслед за ним прибежал взволнованный донельзя Гарри.
– Коля, иди скорее в радиорубку. Там тебе Марк приготовил сюрприз.
Я наскоро оделся и поспешил в радиорубку. Там уже сидели Валя, Леша, Иннокентий, Бехлер, Олег Краснов – взбудораженные и сияющие. Вслед за мной вошло еще несколько человек. Марк в наушниках сидел перед пультом. Я знал, что он любитель-коротковолновик, но мне и в голову не приходило, что он такой мастер. Именно Марк, а не штатный радист, сумел установить радиосвязь с островом Грина в Антарктиде, где зимовали мой отец и Ермак. Кто-то подвинул мне стул. Я сел рядом с Марком, пробормотал благодарность. Марк работал ключом так быстро и непринужденно, словно был классным радистом.
Радист Валерий Ведерников развалился в кресле. Шкиперская бородка, яркие серые глаза, густые черные брови – Валерий почему-то на всех смотрел иронически, но сейчас впервые ирония ему явно не удавалась. Видно было, что он по-мальчишески восхищен и немного завидует даже. Оказалось, что с его разрешения Марк уже давно пытался связаться с островом Грина.
Я очень разволновался тогда, и так как переговоры шли по азбуке Морзе, в которой я ничего ровным счетом не понимал, то я волновался все сильнее и стал умолять Марка не сообщать обо мне.
Марк понимающе кивнул. Лицо его было радостно-сосредоточенным. Отец с противоположного полюса спрашивал прерывающимся голосом морзянки, как у меня дела и что пишет мама. Писем от мамы я не получал давно, а бабушка писала как-то туманно – не поймешь. Мне казалось – там неблагополучно.
– Скажи, что я здоров и работаю, слышишь, работаю! – Я вскочил и кричал Марку в самое ухо.– А мама здорова, скучает о нем и часто пишет. Хорошо сыграла новую роль. Скажи, что директор обсерватории Женя Казаков – папа удивится.
Марк нажал ладонью на ухо – я, кажется, его оглушил – и стал легко и быстро стучать ключом. Тем временем в рубку набилось битком народа, все просили передавать от них привет. Сквозь толпу протискался сам Казаков.
– Неужели Антарктида? – спросил он ошарашенно.– Молодец, Русанов!
Марк уже кончил разговор и, улыбаясь во весь рот, повернулся к нам.
– Будем беседовать два раза в неделю,– сообщил он.– На острове Грина зимуют семеро. Шесть советских людей и один англичанин. Они все здоровы. Скучают по своим близким. Я передал, что у нас тоже все здоровы. Научные исследования идут благополучно. Передал, что приступили к глубокому сейсмическому зондированию.
– Молодец! – еще раз одобрительно сказал Женя и вышел. А мы еще долго обсуждали событие. Договорились, что на следующую связь Валя и я приготовим написанный текст. А потом кто-то крикнул: «Какое сияние, товарищи!» – и все высыпали наружу.
Небо колыхалось, меняя цвета. Плато вдруг залило ярким рубиновым светом. Мне показалось, что «старики» по ту сторону теплого озера подняли голову. Но я вдруг закашлялся, и Марк, словно заботливая нянька, поспешно увел меня домой, в комнату. Остальные перешли в кают-компанию, и скоро до нас донеслись звуки гитары и песня:
Сырая тяжесть в сапогах,
Роса на карабине,
Кругом снега, одни снега,
И мы – посередине...
Глава одиннадцатая
МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ
На другое утро, после завтрака, в кают-компании появилась Зинаида Владимировна с грубоватой девицей в сапогах, которая оказалась заведующей паспортным столом. Да, теперь на плато прописывали приезжающих и выписывали отъезжающих.
– Собирайся, Коля! – беспокойно сказала мой лечащий врач.– Завтра Михаил Михайлович вылетает в Москву и доставит тебя прямо на руки маме.
Это было сказано в присутствии Лизы и скалозубов-геологов. Спасибо им, ни один не улыбнулся.
– Никуда я не поеду! – закричал я возмущенно.
– Но тебе противопоказан здешний климат, Коля! Понимаешь или нет? Теперь тебе уже здесь не работать...– попробовала урезонить меня Зинаида Владимировна.
– Давай-ка твой паспорт! – потребовала девица резким голосом.
– Ты здесь не поправишься, надо ехать,– назидательно сказал Женя. Он их и привел сюда.
– Я не поеду. Я не собираюсь увольняться из обсерватории,– повторил я гневно.
Марк стоял рядом со мной. Он-то знал, как мне не ко времени было уезжать отсюда...
Подошла Валя Герасимова.
– Тебе совсем не надо увольняться, Коля! – Валя неприязненно взглянула на Казакова.– Тебе дали временно вторую группу инвалидности. Надо эту возможность использовать для лечения. А через полгода ждем тебя здесь.
– Никто его не собирается увольнять! – зло бросил ей Женя. Уговаривали меня долго и нудно. Паспортистка подчеркнуто смотрела на часы-браслетку. Я упирался. Все равно бы они меня не уговорили, но вмешалась сама судьба. Валерий Ведерников принес мне радиограмму от бабушки.
Все смотрели, как я, бледнея, читал радиограмму, а потом быстро спрятал ее в карман.
– Ладно, сейчас принесу паспорт,– не своим голосом сказал я,– можете выписывать.
Кажется, им всем очень хотелось узнать, что было в радиограмме. Но я отнюдь не собирался это разглашать. На Ведерникова можно положиться. Радиограмму я показал только Марку. Вечером, когда он вернулся с работы. Но об этом потом. Вечер еще не скоро наступит. День был очень долгий...
Я ушел к себе, как только все оформил. Выдвинул из-под кровати чемодан. Надо было собраться.
Вот уж воистину: пришла беда, отворяй ворота! До чего же все плохо складывается! А Лиза... Я посмотрел на часы. Как раз сейчас свободна. Почему она не зайдет ко мне? Знает, что уезжаю. Разве ей не о чем поговорить со мной перед отъездом? Я прислушался, злясь на себя, что прислушиваюсь, жду. Самому пойти к ней... Но это бесполезно. Я уже приходил так, поговорил с Алексеем Харитоновичем, Лиза грустно молчала, опустив глаза.
Кто-то остановился перед моей дверью. Постучали.
– Войдите! – крикнул я, зная, что это не Лиза. Это был Сергей Авессаломов.
– Не помешал? – спросил он.– Я слышал, ты завтра уезжаешь, и вот зашел проститься.
Он неуверенно смотрел на меня – как-то его примут? В обсерватории он не был ни разу. Сергей был одет в короткий полушубок из оленьего меха, на голове шапка-ушанка, обычная на Севере. Я предложил ему раздеться, и он повесил то и другое на вешалке за дверью. Остался в поношенном сером костюме и черной шелковой рубашке, аккуратно застегнутой на все пуговички. Галстук он не носил. Волосы он, видимо, накануне вымыл, и они еще больше, чем всегда, походили цветом на спелую пшеницу и, рассыпаясь, падали на лоб и на глаза. Он нетерпеливо дергал головой. Я его усадил, а сам сбегал на камбуз за чаем и кое-какой закуской. Конфеты и печенье у меня были. Накрыл на стол, убрав книги и тетради на полку.
– Сколько у тебя книг! – сказал Сергей, с восторгом оглядывая стеллажи.
– Здесь и мои, и Марка. А ты любишь читать?
– Романы не очень, там ведь все выдумано. Я больше люблю про животных...
Сергей внимательно смотрел на меня. Глаза у него были большие, синие, чуть выпуклые. Вообще это был красивый парень! Его портило только выражение не то что затравленности, а какого-то ожидания плохого. Будто он ждал, что его сейчас вот-вот ударят. Он даже втягивал иногда голову в плечи и щурился. Несомненно одно, жизнь отнюдь не баловала этого парня.
Я налил ему и себе чаю, сделал бутерброды. Он стал есть, посматривая на меня исподлобья, и вдруг спросил:
– Ты, конечно, не веришь в бога?
– Нет.
– Но ты же не можешь знать точно, есть он или нет?
– А ты верующий? – Я не удержался от улыбки.
– Прежде не верил,– серьезно сказал Сергей.– Рос-то я среди неверующих. А сейчас меня вопросы одолели. Если по-ученому на них не ответить, то значит... Случай с тобой вот тоже...
Кажется, я покраснел.
– При чем здесь случай со мной?
– У тебя дух оказался выше телесной немощи.
– Но когда фашисты пытали партизан, требуя выдать...
– Понимаю,– перебил он,– и у них дух был сильнее тела, если они шли на смерть. Когда Гусь бил тебя смертным боем, я вдруг подумал: «А если бог есть и все видит?»
– Однако за меня вступился цыган Мору, а не ты! – не удержался я.
– Ну, правильно. Я же еще был прежний, скот и подонок. Но когда Гусь бросился с ножом на Мишку, я первым вступился...
Сергей вздохнул прерывисто, как вздыхают дети, наплакавшись.
– Не могу больше ни ругаться, ни слушать. Обрыдло. Почему же обрыдло вот так сразу? Если бога нет, то откуда произошло угрызение совести? Может наука объяснить?
– Может,– мрачно сказал я. Меня грызло свое горе. Сергей немного подождал, что я скажу, но я молчал, и он продолжал:
– Люди – везде люди, плохое переплелось с хорошим так, что не растащишь. Но есть же просто хорошие? Целиком?
– Конечно, есть. Когда человека что-нибудь захватит целиком и он уже о себе не думает, о своей выгоде, а лишь о том, чему посвятил свою жизнь.
– Кабы ты знал, Коля, как мне хочется жить спокойно. В монастырь бы ушел. Ты только представь. Тишина... Кругом лес, огороды, пасека. Все любят друг друга, как братья. Да вот насчет бога-то еще сомненье берет...
– «Братья» – усмехнулся я.– Сергей, а за что ты в колонию попал?
– А за хулиганство же! Я малый-то был озорной, а как подрос, просто спасу нет. Вся семья у нас какая-то пропащая.
– Что ты!
– Да. Всяк по-своему пропал. Мы же деревенские, с Ветлуги. Село Рождественское. Весь наш род испокон веков жил в деревне. Не уехали бы из Рождественского, ничего бы этого не случилось. Корни у нас слишком глубоко проросли в землю: на новом месте уже не приросли.
Отец работал на заводе честно, но без души, душа там осталась, на Ветлуге,– стал пить и скоро помер. Остались мы четверо: дедушка, маманя, четырнадцатилетний балбес – я да грудная сестренка Танюшка. И мать, и дед работали на строительстве. Мать – каменщицей, дед – плотником. Работали неплохо. Квартиру им дали отдельную, двухкомнатную (еще при отце). Внизу магазин, за углом кино, напротив школа, куда я ходил. Все удобства под рукой. Только не в коня корм. От тоски чахли. Так и не привыкли к городу. Матери все воздуху не хватало. Плакала... А деду Рождественское мерещилось. Сна совсем лишился. Начнут они с матерью вспоминать корову Буренушку. Как телилась; как заболела раз, и дед в метель за ветеринарным фельдшером ездил. С дороги сбился. Чуть не замерз. Все-таки привез этого фельдшера. Спасли Буренку. Хорошая корова была. Выйдешь ночью на двор, а она тыкается теплой мордой в руку. Дед, бывало, начнет рассуждать, а мать ему поддакивает. «Какая это, говорит, жизнь в городе? Живем на пятом этаже. Квартир этих как сот в улье».
Не легче и мне было. Учителя говорили: трудный, озорник. А тут еще ребята насмехаются: говорю не так. У нас ведь заместо «ч» выговаривают «ц»: «Поцему? Зацем?» Начну у доски отвечать – класс со смеху так и грохнет.
Все чаще вспоминал деревенских... Как мы озоровали, по огородам лазили, по садам. В лесу каждый кустик знали. Где какое гнездо. А то засучим штаны выше колен да ищем броду. А не найдем – вплавь через Ветлугу. На той стороне ягод больше в лесу было. Когда в город переезжали, дед вырезал себе на память ясеневый посох... Держал его в изголовье. Все мечтал: возьмет этот посох и пойдет с ним домой, на Ветлугу, умирать.
– Ну, а почему не вернулись? Сейчас же лучше стало в деревне.
– Кому возвращаться-то? Ни матери, ни деда сейчас в живых нет. Они без меня уже умерли.
– Подожди... А где же твоя сестренка?
– Танюшка-то?
Сергей смущенно посмотрел на меня.
– В детдоме она. Я, видишь, какой шалопутный. Куда я ее возьму? При моей жизни... В общежитие?
– А кем ты работаешь на руднике?
– Сейчас в плотничьей бригаде. Я же хороший плотник: дед научил. Я и слесарить умею. Могу машину водить, но правое нет. Думал на лето с геологами уйти.
Я задумался. Сергей смотрел на меня с надеждой. Он, видимо, верил, что я могу ему помочь.
На руднике его знают прежнего... И поступков от него ждут прежних. И распить бутылку запрещенного на руднике спирта позовут в первую очередь его.
– Сергей, а почему бы тебе не поступить в обсерваторию рабочим. У нас матом не ругаются...
– Неужели не ругаются? Как же они выдерживают? Выходит, монастырь-то рядом? Нечего и в Троицко-Сергиеву ехать?
Он окончательно развеселился. «Может, издевается?» – промелькнуло у меня. Парень с закавыкой.
Волосы все падали ему на глаз, он их приглаживал. Руки у него были красивые, под стать пианисту, а не плотнику, хотя ладони огрубели, как подошва.
– Добрый ты, Николай! – вздохнул Сергей.– Меня ведь в обсерваторию вашу не возьмут.
– Я пойду спрошу. Посиди здесь.
Я отправился к Жене, рассказал ему про Сергея. Только про монастырь умолчал. Блажь это, пройдет. Просто парень мечтал о тихом месте, где можно отдохнуть душой.
Просить не пришлось. Подходила весна, и в обсерватории позарез были нужны рабочие для полевых исследований.
– Ладно, прикомандируем его к Иннокентию. Или к Леше Гурвичу – они никогда не ругаются.
– Иди оформляйся! – объявил я Сергею с торжеством.
– Да ну... в обсерваторию? – Сергей так обрадовался, что даже побледнел.
Он долго жал мне руку и благодарил. Перед уходом, уже в дверях, сказал как-то несмело, что было непохоже на него: