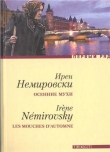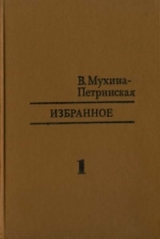
Текст книги "Избранное. Том 1"
Автор книги: Валентина Мухина-Петринская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 40 страниц)
– Просто не знаю, что делать! – признался он.
– На могиле матери был?
– Был. Тетя Флена водила. Надо было сделать старухе удовольствие.
Василий угрюмо, почти не глядя на меня, выпил две чашки чая.
– Мать я не любил никогда.
– Как можно не любить мать?
– Значит, иногда можно. Она была ко мне суровая. Когда был мальчонкой, наказывала меня жестоко. Ставила в угол на колени на горох. А я, видно, был слишком нервный для этого. Просто не переносил этой боли. Коленки чувствительные, что ли. А если самовольно вставал, когда уже не мог больше вытерпеть, она запирала меня за ослушание в погреб. А там я просто с ума сходил от страха. Темноты до сих пор боюсь. Раз жена задернула в спальне плотные занавески... проснулся – тьма, я – бегом. Зеркало разбил, пока выбрался. У меня ночью всегда окна открыты – свежий воздух и свет месяца, звезд. В темные осенние ночи сплю с ночником.
Когда я вступил, вопреки ее запрещению, в пионерский отряд, она заперла меня в погреб на целую неделю... Хорошо, что ребята пронюхали об этом и сообщили учительнице. Понадобилась целая комиссия, чтоб меня вызволить оттуда. А мне тогда было всего-то десять лет!
– Чего же смотрел отец?
– А его годами не было дома. Он тогда золотишком увлекался. Фарт свой искал. До нас ли ему было? Между собой они жили недружно, мои родители. Оба крутые характером... Как говорится, нашла коса на камень... Ну, хватит о них. Таиска!
– Что?
– А ты, поди, только в темноте можешь спать?
– Мне все равно, я не страдаю бессонницей и ничего не боюсь. Но это ведь неважно, Василий...
– Ты хочешь сказать, что нам все равно вместе не спать? Подожди, не отвечай. Я не в состоянии сейчас убеждать, спорить. А, черт! Будь что будет! Тяжело мне, Таиска, устал я.
Он поставил локти на стол, подпер курчавую голову – жест безнадежности и уныния. Все-таки я еще любила его... или просто жалела. Так захотелось по-женски приголубить его, успокоить. Неуютно ему было в жизни. Но ведь я знала его. Стань я его женой – и все войдет в норму, он будет самим собой: жадным, напористым, эгоистичным. Он был стяжатель, только в более широком смысле. Он хотел захватить для себя не только деньги и вещи, но и положение в обществе, научные звания, общее признание и... мою любовь. Он и меня хотел корыстно. Он был собственник по натуре своей, как Форсайт. По природе своей он был жесток, но ненавидел жестокость, потому что ребенком страдал от нее.
– И долго мать наказывала тебя? – вдруг спросила я.
– До двенадцати лет. Когда мне исполнилось двенадцать, я сказал ей, что не буду больше стоять в углу, не позволю себя тронуть пальцем. А если она меня тронет или запрет еще в погреб, я спалю ей дом. Вот перед самым этим киотом я поклялся, что спалю дом, если она меня ударит еще раз. Мальчонкой я верил в бога, иначе быть не могло, там меня воспитывали. Ужо бог тебя накажет! Умела она рисовать ад. Когда я в школе столкнулся с другим мировоззрением, я просто опьянел от счастья. Четырнадцати лет я вступил в комсомол. А когда мы под пасху организовали в клубе антирелигиозный вечер, Виринея Егоровна прокляла меня и выгнала из дома. Она уже ненавидела меня. Главным образом за то, что не смела меня наказывать. Она знала, что я сдержу свое слово.
Я ушел из дома. И знаешь, кто меня приютил? Вот эта самая тетя Флена. Она тоже верующая, но она терпимая, а главное, добрая и, пожалуй, умная. Она любила слушать радио, любила, когда я читал ей вслух газеты. Она говорила: «Времена теперь другие, а тебе, Васенька, жить долго... Живи, как душа просит!» Хорошая старуха! Хочу взять ее с собой в Москву. Раньше бы взял, да у жены ей было бы плохо.
– Опять женишься.
– Если ты не пойдешь, вряд ли... Пока другой не присмотрел.
– Присмотришь.
– Ладно. Давай об этом не говорить. Не могу. Ты меня еще в Москве так измотала, что до сих пор не опомнюсь.
– Как дети?
– Спасибо! Им хорошо. Дед с бабушкой души в них не чают. Ребятки славные! Таиска! Иди сядь вот сюда, пожалуйста.
Он показал мне на лежанку, накрытую рядном. Я пересела. Василий прилег, положив голову мне на колени, и закрыл глаза. Мы так долго молчали, что я решила: он задремал.
На сердце у меня было смутно. Радость уже схлынула, навалилась забота. Я чувствовала, что теперь я совершаю по отношению к Василию жестокость. Не слишком много я требую от него? Все же он так далеко ушел от Виринеи Егоровны. Коммунист, научный работник. И ему сейчас очень тяжело и одиноко. И, видимо, он любит меня по-настоящему. А ведь я, скорее, дурнушка.
Как я любила Василия! Это было какое-то сумасшествие. Вдруг я подумала: почему-то никогда рядом с ним не посещала меня Радость. Ни разу! Радость – самое человеческое из всех чувств, и рядом с ним – никогда.
Мне кажется, что самая большая заслуга—дать радость другому человеку. Но не каждому можно дать радость. Не все способны испытывать радость – возвышенную, прекрасную, бескорыстную.
А вот Марк может! Михаил Герасимович тоже. Сегодня мы летали над тайгой, и все трое радовались, как дети. Всему! Голубому небу, простору, ветру, колыхающемуся зеленому океану внизу, блеску реки, желтым ослепительным отмелям, солнцу, но больше всего мы радовались друг другу.
Мы проводили так называемый аэровизуальный метод обследования лесов. Высота полета всего 300 метров – близко к земле, близко к небу. Мы наносили на карту маршруты полетов и ориентиры для составления экспедицией карты лесов Ыйдыги. Труднодоступные это были места, и без помощи авиации их не обследовать, не закартографировать. На аэроснимках, в которых непривычному глазу и не разобраться, все изменения, вся жизнь леса: ветровалы, гари, болота, молодняк и старый лес, умирающий стоя, рельеф песков. Я уже сама сняла с самолета весь маршрут нашего следования по Ыйдыге. Сегодня мы производили цветную спектрозональную аэрофотосъемку – замечательное достижение техники!
В два часа дня мы приземлились на песчаном острове. В зарослях камыша и осоки гнездились утки, гуси и кулики. Вокруг стояла настоящая темнохвойная тайга – одни кедры, пихты и ели. Мы осмотрели островок – птицы не очень пугались – и сели подкрепиться.
Было как-то особенно хорошо на душе – чисто и добро. А Василий всегда так ухитрялся разбередить мою душу, что становилась она мутной, как пожелтевшие воды, полные песка.
Михаил Герасимович и Марк говорили о лесных пожарах, изучению которых профессор отдал много лет. Собственно, он разработал основы лесной пирологии в СССР. Его книга «Лесные пожары и борьба с ними» издавалась раз десять. А у Марка было множество интереснейших наблюдений. Неудивительно, что они разговорились.
Я уплетала копченый омуль и любовалась ими обоими. Удивительно, как легко, хорошо чувствуешь себя в обществе хороших людей, которые к тому же умнее тебя, людей интересных, бывалых, знающих, благородных. По-моему, это самая большая радость!
Все студенты любили Михаила Герасимовича больше, чем других институтских преподавателей. Поэтому многие завидовали мне. Еще бы – стать любимой ученицей такого большого ученого! Профессор поверил в меня, возлагал на меня большие надежды, вот оставил при кафедре! Смотрит на меня, как на продолжателя своего дела. Многие удивлялись: «почем у?» – и я их вполне понимаю. Разве я достойна? Пока еще нет. Надо еще доказать, что ученый не ошибся, выдав мне авансом уважение и внимание.
А Марк Александрович Лосев... Он, прежде всего, принципиальный! Он показал себя настоящим Человеком уже в двенадцать лет, в истории с отцом. Такой не струсит, не изменит своим убеждениям. И он мыслит самостоятельно – то, что я больше всего ценю в людях.
Весь сегодняшний день я любовалась ими обоими, и мне было так хорошо. А вот теперь я сидела в мрачном и затхлом доме староверки Чугуновой. И опять в моей душе все взбаламутилось. Потому что так всегда было от малейшего прикосновения Василия. Но, не уважая его, я тянулась к нему, только он появлялся. Черт те что!
Когда я сидела в расстроенных чувствах на лежанке, а измученный Василий дремал, положив косматую, как у цыгана, голову мне на колени, за раскрытым окном показались две головы: седая профессорская и рыжеватая Марка. Они обеспокоенно и сконфуженно смотрели на нас.
Ну, уж знаете – заглядывать в чужие окна! Никогда от них этого не ожидала. Просто некультурно!
Василий сонно повернулся и только что не всхрапнул. Он, видимо, не досыпал ночей и теперь отдыхал так спокойно. Я была возмущена непрошеным заглядыванием в окна и сердито замахала руками. Михаил Герасимович и Марк медлили уходить, укоризненно поглядывая на меня. Василий открыл глаза.
– Кто там? – спросил он сонно.
– К тебе гости.
– А-а!!
Василий встал, потянулся и вразвалку пошел к окну.
– Это вы, профессор? Проходите!
Так же вразвалку он пошел открывать дверь. Гости смущенно вошли. Василий подвинул им стулья, они сели.
– Беспокоитесь за Таиску? – спросил он угрюмо.– Ну, конечно, раз один брат убийца, значит, другой насильник. Естественно ожидать... Таиска, скажи им, что такие возможности у меня были и в Москве.
– Не говори глупостей. Лучше подогрей самовар. Хозяин тоже мне. К тебе же гости пришли.
– Самовар еще горячий. Хотите чаю, гости?
– Пожалуй, выпьем чайку? – сказал профессор Марку.
– Спасибо.
Так как мы со стола еще ничего не убирали, кроме тарелок от щей, то сразу налили им чаю, подвинули закуску – вернее, это сделала я, так как Василий закурил папиросу. Гости не чинились. Марк выбрал кусок пирога побольше, а профессор наложил себе полную тарелку кислого молока и густо посыпал сахаром. Я тоже почувствовала голод, налила себе чаю и положила шанежку.
Мы сидели в переднем углу под киотом, пили чай и беседовали о международных событиях – они всегда волнующие, и мужчины весьма любят эту тему. Папа и Родион тоже. А я задумалась о том о сем... Меня вдруг сильно стало клонить ко сну. Все-таки я встаю эти дни рано, в шесть часов утра, и работаю по девять часов! Глаза у меня стали слипаться...
– Девочке пора спать! – услышала я голос Михаила Герасимовича.– Она сегодня хорошо поработала. Вставай, Тасенька! Здесь директор лесхоза с машиной. Обещал подвезти нас.
– Может, останешься ночевать? – спросил меня Василий.
– Благодарю. Ты не боишься один?
– Нет.
– Ну и прекрасно, советую отоспаться хорошенько!
Мы попрощались с Василием, а пять минут спустя и с Марком.
Спала я без снов, без просыпу, пока в окошко не стукнул Михаил Герасимович: пора лететь. Оказывается, я проспала. Лесной воздух!
И все-таки серьезного разговора с Василием я не избежала. Он пришел ко мне вечером в квартиру Марии Кирилловны; Пинегина все еще ночевала в больнице, а Даня – у Франсуазы Гастоновны. От ужина Василий отказался: сыт по горло.
– Будем говорить! – сказал он твердо.
– Выйдем на крыльцо?
– А там комары.
Он схватил меня за плечи и целовал, пока я не задохнулась. Когда я, опомнившись, стала вырываться, он сразу отпустил меня и, закурив, сел на стул возле окна.
– Я люблю тебя, Таиска! – сказал он, тяжело дыша.– Одну тебя только и любил в жизни. Ты мне нужна. Понимаешь? В чем дело? Разве я не вижу, как ты вся тянешься ко мне. Ты же любишь меня! Нам ничто не мешает. Я свободен. Ты – тоже! Завтра пойдем и зарегистрируемся.
– Не огорчайся, Василий, но я уже не люблю тебя больше.
– Неправда!
– Это правда, Вася! Я уже говорила тебе в Москве. Мне тяжело с тобой. Что-то давит, как чугун.
– Не переменить ли мне фамилию?
– Ну, как камень. Мне очень тяжело, когда мы вместе. Я не могу быть с тобой долго.
– Но почему?
– Не знаю.
– Давай разберемся. Ты не можешь простить, что я тогда...
– Давно забыла! Об этом не надо. Ладно, Василий, давай разбираться... Скажи мне только по правде, для чего ты живешь? Какая цель у тебя?
– Гм... Построение коммунизма во всем мире.
– Какие насмешливые и колючие стали у тебя глаза. Ты циник, Василий!
– Какая ты дура, Таиска! Набили тебе мозги.– Он ухмыльнулся.– Я ж тебе предложение делаю, а ты сразу мне устную анкету. В школе, что ли, вас так натаскали? Приходилось мне присутствовать на приемных экзаменах в институт... Такой низкий культурный уровень и такой высокий идейный – удавиться можно! Все эти высокие слова – чепуха на постном масле! На самом деле каждый живет для себя, для своей семьи и в жизни ищет только успеха да благополучия. И прикрывает это высокими словами. На собраниях выступают, а ты на самом деле так думаешь. Потому ты и есть дура. Но я тебя и дурочку люблю! Я вышла на крыльцо. Комаров не было. Дул ветер. Я села на ступеньки. Василий вышел вслед за мной, сел рядом.
– Что же будем делать? – спросил он уныло.
– Расставаться, Василий. Не могу понять, зачем тебе именно я?
– Ты меня освежаешь, как утро, как ветерок, Таиска! Не представляю, как я буду жить без тебя... Я бы мог обмануть... Прикинуться дурачком. Но учти, я тебя не обманывал никогда. Я – весь тут! Полюби меня черненьким, а беленького всякая полюбит.
Я не выдержала и заплакала.
– Ну, не плачь, я завтра уеду. Все-таки я еще буду ждать тебя год, два, три... не знаю сколько. Подумай! Потом, наверно, женюсь. Если решишь – позови меня.
– Я... не позову.
– Ну, ладно, не плачь. Завтра ведь уезжаю. Чего еще там! Разве я тебе причинил зло?
– Нет.– Слезы у меня так и лились. Носовой платок я оставила в сумке и вытирала слезы подолом широкой юбки.
– Зачем ты юбкой-то? Эх! – Он вытащил носовой платок и сам вытер мне слезы со щек и подбородка.
Мы долго сидели, обнявшись на прощанье. Шумели на ветру сосны. Василий рассказывал о своих ребятишках, о работе, о людях, которые его окружали. По безмолвному договору мы не касались больше острых тем.
Когда он далеко за полночь собрался уходить, я неожиданно для себя сказала:
– Если хочешь, оставайся до утра. Это ведь не имеет значения.
Он с любопытством посмотрел на меня и вдруг улыбнулся добро и хорошо. Мы стояли посреди комнаты.
– Какой щедрый дар! Жалко меня стало! Ты добрая, Таиска. Но я в милостыне не нуждаюсь. Да и жаль тебя. Знаешь, Таиса, что-то есть в тебе от Дон Кихота – беззащитное, ранимое. Потому я никогда не мог тебя обидеть. До свидания. Не говорю – прощай. Не поминай лихом.– Он низко, по-деревенски как-то, поклонился.
– До свидания, Василий!!!
Я проводила его до дороги. Он ушел.
7. НА ПЛОТУ ПО ЫЙДЫГЕ
Третья неделя на исходе. Река, быстрое течение, холодные брызги, солнечный блеск, ветер, рябь, отражение темных кедров в воде, острые камни, песчаные перекаты, водоросли на дне, мелькание рыб, тени от птиц, прозрачное небо, белые и холодные, как сугробы снега, облака.
Мы загорели, обветрели, похудели, ладони в мозолях. Кузя и я у передней греби, наш лоцман Григорий Иванович Стрельцов и Автоном Викентьевич Ярышкин у задней греби. Мария Кирилловна подменяет – чаще всего меня, иногда Кузю.
Рана Ефрема Георгиевича затянулась, и его отправили самолетом в санаторий. Там он поправится окончательно и наберется сил. Мария Кирилловна решила его проводить, но Пинегин, зная, как ей хотелось участвовать в экспедиции, отказался наотрез и уехал один. Даня остался у гостеприимной Франсуазы Гастоновны.
Интересные люди – рабочие экспедиции. Стрельцов – человек бывалый, про таких говорят: прошел огонь, воду и медные трубы. До революции он был десять лет на каторге за нечаянное убийство кума – в драке, «во хмелю». После революции ему дали десять лет за вооруженный грабеж. Был в какой-то банде. Они грабили прииски – намытое золото, приготовленное к отправке в жилуху*. Нападали обычно по дороге на станцию: железная дорога от города Незаметного километров семьсот или около того. Главарей банды расстреляли, а Стрельцов отделался десятью годами, да и те полностью не отсидел: отпустили по зачету, то есть за хорошую работу в лагере. После этого он бродяжил, искал золотишко в тайге, находил, прогуливал в жилухе и снова искал. Вообще всю жизнь «промышлял» в тайге.
*Так на воровском жаргоне называется европейская часть СССР
Если б только бедная мама знала, с кем я еду! Но Мария Кирилловна уверяет, что он отличный проводник и лоцман; уже много лет ходит с разными экспедициями по тайге, а что касается прошлого, то он давно «завязал».
Григорий Иванович – высокий, жилистый старик с глубоко посаженными пронзительными голубыми глазами. В черных, как смола, волосах ни одного седого волоса, но густую бороду уже запушил иней. Это сильный и ловкий таежный волк. Лучшего лоцмана нам, конечно, не найти. Как он управляет плотом – залюбуешься! А управлять плотом на таежной реке не такое легкое дело. Правда, Ефрем Георгиевич сделал нам очень хороший плот: прочный, устойчивый, ходкий, с хорошей оснасткой, отлично управляемый. Я прежде думала, что плот – это просто несколько бревен, скрепленных вместе, а это– судно.
Посреди плота шалаш на случай дождя, перед шалашом очаг – камни, гравий, песок. Основной груз – продукты, одежда,
.
спальные принадлежности, тщательно упакованные в рюкзаки и мешки,– мы разместили на грузовой площадке у задней подгребицы и накрыли сверху палаткой. Посуду, консервы, резиновую лодку и походную метеорологическую станцию мы привязывали у передней подгребицы. Середина плота вокруг очага свободна. Некоторые ценные приборы хранятся в шалаше.
За первые два дня мы научились хорошо понимать команду лоцмана.
– Нос вправо!
Я изо всех сих налегаю на переднюю гребь – плот смещается вправо.
– Ош!
Мы с Кузей разом прекращаем греблю.
– Гребь на плот!
Мы вытаскиваем гребь на плот и закрепляем специальными веревками.
– Сушить гребь!
Мы поднимаем гребь горизонтально и закрепляем петлей за рукоятку.
– Пошел!
Мы спрыгиваем с плота при швартовке.
Если я по неразумению своему и предполагала, что, спускаясь на плоту по Ыйдыге, можно любоваться пейзажем, то в первый же день путешествия убедилась, что это далеко не так. Сплав на плоту по таежной реке, конечно, полон неожиданностей и приключений, но прежде всего это тяжелый, очень тяжелый труд, осилить который могут, по выражению Стрельцова, лишь люди «первой категории здоровья». Перекаты, мели, завалы, подводные и надводные камни, скалы, валуны, буруны, пороги, шиверы, встречный ветер... Кроме здоровья, здесь нужна сноровка и опыт. А приобретение опыта – весьма трудоемкий процесс!
Но закончу про рабочих экспедиции. История Автонома Викентьевича Ярышкина произвела на меня потрясающее впечатление. Вы читали у Вашингтона Ирвинга историю о Рип-Ван-Винкле, проспавшем целых двадцать лет? Автоном Викентьевич – тот же Рип-Ван-Винкль!
На ночь мы останавливались у какого-нибудь песчаного островка или пологого берега, мужчины разбивали палатку – Мария Кирилловна и я спали на плоту в шалаше,– разводили костер, готовили ужин, а после ужина, невыразимо вкусного, еще беседовали с часок у костра. Вот я и спросила раз у Автонома Викентьевича, откуда он родом. Оказалось, земляк – москвич. Из Москвы только два года. Я оживилась.
– А где вы там работали?
– В Сергиевской лавре я служил,– простодушно ответил Ярышкин.
Я совсем запамятовала, что его в лесхозе звали расстригой, и удивилась:
– Не понимаю... кем?
– Разве вы не знаете, Таисия Константиновна? Я же расстрига. Сан у меня был священнический.
Кузя от удивления присвистнул.
– Простите... Вы – поп?
– Бывший... Я в прошлом году сложил сан.
Кажется, Кузя был шокирован. А на меня напал неуместный смех – едва подавила его.
– Автоном Викентьевич имеет университетское образование,– почему-то строго сказала Мария Кирилловна.– Его исключили с последнего курса, когда он почти закончил дипломную работу. Девушка, которую он любил, узнала, что он верующий, и сообщила в дирекцию. Она была очень принципиальная, ей только не хватало ума и великодушия. Мать Автонома Викентьевича – глубоко религиозная женщина, сын ее очень любил, всю ночь умоляла Автонома Викентьевича сказать, что он не верит. Но он не мог «отречься». Шуму было на весь университет. Никто не подозревал, что он верующий. Естественник, биолог!! Его исключили из университета, чем толкнули прямо в объятья церковников. Пострадал за религию, вы шутите! Сам епископ обучал его. Автоном Викентьевич и опомниться не успел, как его посвятили. И он...
Мария Кирилловна запнулась.
– Я пошел в монастырь,– сказал Ярышкин.
– Черт те что! – не выдержала я.– Как вы, культурный человек, можете верить во всю эту чушь?!
– Я ж теперь и не верю,– тихо возразил Ярышкин.– У меня уже прошло.
– Двадцать лет жизни! – с ужасом воскликнул Кузя.
– Двадцать пять... вроде из больницы вышел,– проронил Ярышкин упавшим голосом.
– Как же вы перестали верить – сразу или постепенно? – поинтересовалась я. Кузя пожал плечами – наверно, вопрос показался ему глупым. Но Ярышкин меня понял.
– Сразу! Конечно, подготавливалось постепенно, но произошло сразу, как отрезало. Однажды вечером я хотел молиться и не смог: вдруг стало некому... Я не спал всю ночь. Ходил по улицам Загорска, останавливался, смотрел на звезды. Я был растерян... Вера вдруг оставила меня. Вчера еще верил, сегодня нет. И больше не вернулось.
Утром надо было идти служить. Я же в Сергиевской лавре... а уже не мог. Сначала сказался больным. Надо было обдумать, что же мне теперь делать. И я принял решение: снял с себя сан и уехал сюда на Север, на Ыйдыгу.
– Почему именно на Север? Сами себя наказали ссылкой? – спросил Кузя.
– Мне не за что было себя наказывать,– сухо ответил Ярышкин.– Я никого не обманывал. Был честным с собой и людьми. Когда я верил – служил богу, потерял веру – решил послужить людям. Буду работать, пока есть силы. А Север выбрал потому, что здесь больше требуются рабочие руки, значит, и я буду нужнее. Ну, и еще потому, что всегда мечтал побывать на Севере, увидеть северное сияние, простору порадоваться и тишине. Благостно здесь!.. А насчет ссылки вы напрасно, Кузьма Олегович... Вот Мария Кирилловна, поди, обиделась за ссылку-то...
– Обиделась,– подтвердила Мария Кирилловна.– Никакая тут не ссылка. Разве может красота быть местом ссылки? Прислушайтесь и посмотрите, молодой человек!
Пристыженный Кузя послушно огляделся вокруг. Все замолчали. Тихо-тихо плескалась Ыйдыга, журча быстрее и громче на каменных перекатах. Шумели сосны – видно, ветер запутался в вершинах. Спросонок закричали цапли, спугнутые каким-то зверьком. Поскрипывал плот, покачиваясь на воде. И вдруг я подумала, что удивительно сочетается на севере темное и светлое...
Светлая ночь и темный лес, темно-синяя вода и светло-желтая отмель. Высокие скалы, испещренные черными и белыми лишайниками. Скалистый берег прорезали распадки-ущельца, с которых водопадиками свергались ручьи, и их журчание вплеталось в симфонию белой ночи, как мелодичное звучание флейты. Воздух, омытый дождями и солнцем, напитанный запахом трав и хвои, был так чист и прозрачен, что на расстоянии ста километров отчетливо белели заснеженные горы.
А небо было темно-лиловое у горизонта, там, где оно касалось леса, и голубое в высоте и такое глубокое, чистое и прекрасное, что замирало сердце, когда вглядывалась в него, и оторопь брала. Никогда в Москве не бывает такого неба! По сравнению с этим оно мутное, пыльное, как непромытые окна. В Москве мне оно казалось чистым, но в тайге я поняла, что это не так. Эх, отцу бы посмотреть!
Как бы привезти всех наших сюда?
А зимой, наверное, еще прекраснее!.. Безмолвие, снега, лес в снегу, всполохи северных сияний, зажигающих снег во все цвета радуги. Я начинаю понимать Марию Кирилловну, предавшуюся этой Красоте, этому дивному краю всей душой.
Это был край контрастов! Не так ли здесь было и с людьми?
Сказать честно, не знаю, как бы я восприняла биографии Стрельцова и Ярышкина в Москве, но здесь, у подножия древних и мудрых кедров, я только посочувствовала этим людям в их страданиях, заблуждениях и поисках.
Долго они оба блуждали по окольным и темным тропам, пока вышли на просторную дорогу и пошли по ней – уже в старости.
Старость! Хотела бы я знать, что это такое? Болезнь? Вынужденный отказ от полной и яркой жизни? Почему старый человек не чувствует себя старым? Я спросила одну очень старую женщину – ей было девяносто два года,– чувствует ли она себя старой? Она решительно ответила: нет! Она сказала: «Мне кажется, я просто больна, но что это еще пройдет!» Это была моя родная прабабушка. Она умерла на девяносто шестом году, так и не почувствовав себя старой, ей все казалось, что это еще пройдет.
Неужели и я когда-нибудь буду старой? Мне не верится. Как не верится, что я когда-нибудь умру. Знаю, но не верю!!!
Было утро, и я стояла возле старой-старой ели... Ей было около пятисот лет!
До ста лет кора у ели гладкая, бронзовая, словно кожа здорового загорелого юноши; хвоя зеленая, сочная; крона густая – ветер треплет ее, как волосы. После ста двадцати пяти лет кора трескается, на ней появляется серый налет. К ста пятидесяти годам кора делается чешуйчатой, крона изреживается, появляются мертвые ветви. К ста восьмидесяти годам чешуя укрупняется, трещины превращаются в глубокие непрерывные борозды, кора – мертвенно-серая. К двумстам годам кора как пепел, хвоя – как пепел, на искривленных сучьях утолщения у разветвлений, похожие на ревматические суставы стариков...
Надо научиться спокойно воспринимать это, а то слишком больно.
Я отошла и еще раз посмотрела на старую ель. Все же она была прекрасна: гордая, несгибаемая. Величаво и торжественно держала она свои ветви. А хвоя отливала серебром, совсем не пеплом. И старая ель определенно радовалась солнцу и ветру – жизни. И ей тоже, наверно, казалось, что это еще пройдет и она снова будет цвести и плодоносить. Может, действительно пройдет? Какие причины вызывают старость дерева? А что, если дереву помочь?
Весь день заполнен трудом. Каждые полкилометра мы останавливаемся для научно-исследовательских наблюдений. У каждого свои обязанности.
Стрельцов берет пеньковую промасленную веревку-лот и приступает к промерам реки – ширины и глубины. Кузя кидается искать щуп (который всегда почему-то теряет) для взятия образцов донных грунтов. Кузя описывает речное русло.
Я начинаю с белого диска для определения прозрачности воды, затем измеряю скорость течения, температуру воды и воздуха, скорость ветра, облаков, записываю визуальные наблюдения. Мария Кирилловна, по существу, продолжает свою работу лесничего: ее интересует только состояние леса. Ярышкину мы отдали ботанизирки для растений, папки для гербаризации, фильтровальную бумагу, в которую заворачивать растения, и он теперь совмещает обязанности рабочего экспедиции и внештатного ботаника.
Работа, что называется, кипит; кто освобождается раньше, помогает другому. Вечером, после ужина, я обобщаю наблюдения товарищей, заполняю полевой дневник.
Погода стоит жаркая, знойная, ни разу не выпал дождь, и все время дует ветер из пустынь Азии – горячий и сухой.
Комаров почти нет. Мария Кирилловна говорит, что в этих местах вообще гнуса мало, лишь кое-где по низинам да болотам. И такая тишина! Только стрекот кузнечиков, крики птиц да рокот патрульного самолета лесной авиации. Все лето тайгу обрабатывают гербицидами и стимуляторами. Воздушная лесная служба обрабатывает даже «белые пятна», куда еще ни один лесничий не заезжал.
До чего же здесь дико! Ни одного еще селения не встретили на берегу. Река считается не сплавной. Закончится строительство плотины на Вечном Пороге, и лес будут сплавлять по Ыйдыге. А пока – безлюдье, девственный первобытный лес.
Однажды мы услышали женские голоса... Не забуду ужаса, охватившего меня. На сотни километров ни одного человека – и вдруг эти голоса купающихся женщин, странные, неприятные: не то громко хохотали, не то бранились... Потом раздался громкий плач и опять брань, хохот. Эхо язвительно и зловеще передразнило. Оказалось, что это гагары!
Никогда мне так не работалось легко, так радостно.
Все время хочется петь – и я пою, хочется смеяться – и я смеюсь по всякому поводу и без повода. Хочется говорить людям только доброе, чтоб и им тоже было весело на душе.
До чего же я счастлива! Так мне хорошо, что не хочется думать о причине этого. Может, это не надолго, а потом придут заботы, обиды, разочарования... Пусть! Я всей душой благодарна за эти дни радости. Слишком было бы прекрасно, если б такое вот ощущение радостной приподнятости над обыденным сохранилось надолго, на всю жизнь. Наверно, так не бывает?
С самого начала я знала, почему мне так хорошо. Марк! Не знаю только, любовь ли это или что? И уж во всяком случае не знаю, будет ли эта любовь взаимной. Потому что Марк ни словом, ни взглядом не показал этого. Но он мой друг... Это не мало.
Я счастлива, что есть на свете такой человек, как Марк Александрович Лосев, и что он мой друг. И не хочу думать о том, как мы расстанемся, когда я осенью возвращусь в Москву. Расстанемся, очевидно, на всю жизнь... В Москве нет такого человека. Нигде нет. Он один такой во всем мире. И пока я вижу его два-три раза неделю. Ура!!!
Вертолет всегда показывается неожиданно. Пока ждешь – его и нет, и нет, и нет. А только забудешься, отвлечешься чем-нибудь – как уже доносится издали его рокот. Все посмотрят на меня и улыбнутся. Я не смущаюсь и не краснею, просто делаюсь еще счастливей – если это возможно.
Вертолет покружится над лесом, как гигантская фантастическая стрекоза, пролетит над плотом, вперед – назад, пока Марк выберет место для посадки и приземлится где-нибудь на островке или песчаной отмели. Мы торопливо гребем к нему.
– Сушить гребь! Пошел! – Я кое-как закрепляю свою гребь, спрыгиваю с плота и бегу изо всех сил к вертолету. Все идут за мной. Марк уже улыбается нам из стеклянной кабины. Еще момент – и он выпрыгивает на песок.
Это маленький учебный вертолет (для стрекозы он большой, для вертолета – маленький!) Ми-1– на одном трехлопастном несущем винте. Но Марк очень его любит. Поздоровавшись со всеми за руку, Марк, словно дед-мороз, начинает выкладывать гостинцы из мешка: письма, газеты, журналы, свежий хлеб, мясо или молоко.
Довольный Стрельцов (он у нас и за повара) уносит продукты и тут же начинает готовить обед. Раз Марк – значит, стоянка, пока он не улетит. А мы не отпустим его, пока он не пообедает с нами. В ожидании обеда Марк сидит на плоту и тихо – у него негромкий голос – рассказывает новости или мы ему рассказываем про свои происшествия. Их немало. Что ни день – приключения. То мы чуть не перевернулись на шивере, то был очередной порог, и мы спустили плот порожним, а сами тащили на спине вещи, приборы и продукты в обход, по каменистому берегу. А плот потом пониже порога вылавливал Стрельцов на резиновой лодке. Марк сердится, почему не подождали его. Он уже несколько раз переносил нас через трудные барьеры.