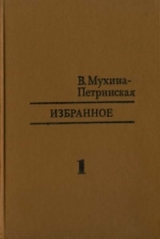
Текст книги "Избранное. Том 1"
Автор книги: Валентина Мухина-Петринская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 40 страниц)
Валентина Михайловна Мухина-Петринская
Путешествие вокруг вулкана

Саратов
Приволжское
книжное издательство
1987

1. ДО СВИДАНИЯ, МОСКВА!
Меня собирают в экспедицию. Несколько раз на день приходится просматривать вещевой мешок, так как мама подкладывает туда массу лишних вещей.
– Как же можно без пледа? – удивляется она.
– Но ты уже положила мне пуховое одеяло. К тому же спальный мешок...
– На Север ведь едешь! – Мама в изнеможении плюхается на стул.
Папа, засучив рукава, составляет мне аптечку.
– Цитрамон, кальцекс, фталазол, йод, бинты... Тася, я положу на всякий случай валидол.
Папа без валидола не выходит на улицу, и он просто не может представить, как можно «отправляться в такую даль» без валидола. Я не спорю, аптечку можно отдать кому-либо из пожилых сотрудников, который в спешке оставит свою на столе, или на худой случай забыть в вагоне «Москва – Красноярск». Довольный папа подсовывает мне на всякий случай и валерьянку: вдруг расстроюсь.
В квартире такой кавардак, будто в экспедицию на Ыйдыгу собирается все семейство. Экспедиция эта несколько нарушила семейные планы. Папа с мамой думали так: «Окончит Тасенька лесной институт, получит назначение в лесхоз, и мы с ней поедем. (Квартира Родьке – он собирается жениться!) Подумайте только, какой рай: сосны, кедры, можжевельник, грибы, ягоды, витамины, ионы, кислород!» Во всяких ионах папа с мамой разбираются хорошо. Они уже много лет выписывают журналы «Здоровье», «Знание – сила», «Техника – молодежи» и «Вокруг света». Путешествовать они у меня любят до страсти. Всю зиму отказывают себе во всем, откладывают деньги на сберкнижку, а летом едут на Ветлугу, Каму, Чусовую или к морю. Несколько лет подряд ездили на Каспийское и Аральское. Курортов в нашей семье недолюбливают: много народу, тесно.
– Все– деньги на колеса просаживают, прости господи! – удивляется наша соседка по лестничной клетке тетя Поля.
А с осени мы начинаем выбирать, куда поедем на следующий год. На столах появляются справочники, карты, брошюры издательства «Географгиз».
У нас только один Родька (Родион Константинович!) домосед. Он старше меня на два года, уже окончил медицинский институт и работает невропатологом в поликлинике напротив – только улицу перейти. Родион редкостный домосед! Любит больше всего на свете читать, собирает библиотеку, только ее негде разместить. Хорошо, что у нас довольно широкий внутренний коридор, и Родька вдоль всей стены сделал стеллажи.
Мы живем в огромном восьмиэтажном доме, на пятом этаже, в двухкомнатной секции. Маленькую комнату занимает Родька, в большой – мама, папа и я. Кухня одновременно и столовая. Родион влюблен в молоденькую артистку кукольного театра. Не понимаю, как он ее рассмотрел.
Папа всю жизнь работает бухгалтером в госбанке, мама работала только в войну, когда папа был на фронте. Остальные годы она заботилась о папе и о нас.
Отцу пора бы и на пенсию, но он ждет моего назначения. По-моему, просто боится, что мама будет его посылать по очередям, чего он терпеть не может (как и я!). «Ты бы, Костик, съездил на проспект Мира, там воблу будут сегодня давать». Конечно, лучше работать в госбанке!
Институт я окончила этой весной, но назначения в леспромхоз, к великому огорчению Родьки и его невесты, не получила. Меня оставляют при кафедре. А сейчас я еду вместе с профессором Брачко-Яворским на Крайний Север, чему несказанно рада.
Когда я впервые задумалась над выбором будущей профессии, то выбирала именно такую, где больше шансов попасть в экспедицию. Долго я колебалась между геологией, гидрологией, океанологией и географией, пока в девятом классе не прочла «Русский лес» Леонида Леонова.
Не знаю почему, но ни одна книга не произвела на меня такого ошеломляющего впечатления. Дочитав, я не спала всю ночь и к утру твердо решила посвятить свою жизнь борьбе за сохранность русского леса. Действие этой книги на меня было тем более необъяснимым, что главные героини ее – и Елена Ивановна и даже Поленька – категорически мне не понравились. Более того, просто показались отталкивающими. Пусть они такие трудолюбивые, отзывчивы к новому, идейны и высоконравственны, но мне показались ужасно противными чрезмерные их терзания из-за дворянского происхождения матери и несуществующих прегрешений отца. Отношение Поли к отцу просто черствое до самого конца романа. А как жестоко поступила Елена Ивановна с мужем! Я даже всплакнула, когда читала, как Вихров напился с горя – один-единственный раз. А Сережа... тоже ведь ранен тем, что его отец кулак. При чем здесь отец? Важно, каков ты сам! Пусть бы мой отец был каким угодно – и я бы все равно его любила! И никогда бы в жизни от него не отреклась, как это делали некоторые.
Образ Грацианского вызывал во мне возмущение не сам по себе (было бы болото, а черти найдутся), а возмутили меня до глубины души те, кто способствовал процветанию Грацианского. Например, те редакторы, которые печатали в научных журналах его пасквили на работы Вихрова. Вообще, как могло наше общество допустить, чтоб Вихрову так мешали работать? Не понимаю. Брат Родион говорит, что я вообще наивна не по летам (23 года!) и мне еще многое предстоит понять. Не знаю. Но уверена в одном, что ни на какие компромиссы я не пойду никогда. Может, у меня уже есть основания так говорить...
В институте меня тоже считают наивной, причем в обидном смысле: для них наивность – синоним глупости. Ребята, правда, говорили, что женщинам это даже идет, но когда наивность не чересчур. А когда «чересчур», то это лишь раздражает. Что касается нашей профессуры, никто не считал меня наивной, ни один преподаватель. Но они в один голос утверждали: «Терехова – идеалистка!» И, чтоб мне не повредить, тут же торопливо добавляли: «Разумеется, не в философском смысле, а в житейском!» Соседка, тетя Поля, говорит, что я «не от мира сего», но это она потому, что я всегда ухаживаю за ней, когда она болеет. Она еще уверяет, что у меня «легкая рука» и что никакое лекарство ей так не помогает от ревматизма, как если я ее натру муравьиным спиртом. Родион говорит, что ей спирт и помог, а не мои руки. Но тетя Поля на это сказала: «Когда другие натирали, не помог же».
Мама меня считает неумной. Она так прямо и говорит: «Тася у меня хорошенькая, но недалекая. Вот Родион – очень умный!» То, что я и в школе, и в институте шла круглой отличницей, мама объясняет «врожденными способностями».
– Тася просто способная! Единственное, чем угодила в меня. Если бы я не бросила учиться, то была бы профессором или даже адвокатом!
– Из тебя бы вышел отличный адвокат! – охотно соглашается отец.
В каждой семье имеется свое семейное предание, есть и у нас такое. Это было, конечно, очень давно, еще до моего рождения. У моего однокурсника и приятеля Кузи Колесникова в те годы погиб дедушка – старый большевик.
Моего отца тоже арестовали, только мама оттуда вызволила.
Когда его забрали, мама, к ужасу всех родных и знакомых, развила такую активность, что ухитрилась попасть на прием к самому наркому. Представляю, как она его убеждала! Папу выпустили.
Насколько мне известно, это уникальный случай. Папа сидел в тюрьме ровно четыре месяца и три дня. После того четыре года был на фронте, где каждый час – разрушения, пожары, насилие, смерть. А в кошмарах его преследует не война, а тюрьма, где он и был-то, в сущности, мало. Папа говорит, это оттого, что самое страшное для человека – лишение свободы.
По-моему, есть более страшное: когда человек по глупости или из корысти сам откажется от свободы. Например, от свободы быть самим собой.
Мама вынимает из духовки мои любимые пироги с вишней, укутывает их полотенцем – это мне на дорогу – и принимается плакать.
– А вдруг девочка погибнет, вдруг медведь ее там задерет, тогда что?
– Почему же непременно погибнет? – смущенно (у него тоже болит сердце) возражает папа, и у него бьется синяя жилочка на облысевшем виске. Мама порывисто вытирает глаза, задумывается и – в какой раз – спрашивает:
– А разве мне с тобой нельзя в экспедицию ехать?
– Нельзя, мамочка!
– Так ведь мать, отчего же нельзя? А если поваром? Я бы на всех готовила, стирала... ну, там... разводила костер. А ты скажи своему-то профессору!
Обращаюсь в бегство. Кстати, мне действительно следует сходить к профессору.
Нас у Михаила Герасимовича собралось пятеро: четыре девчонки и один Кузя. Все только что окончили лесной институт. В экспедицию из выпускников едем только я да отличник Кузя. Остальные получили назначение в лесхозы. Нам немножко завидуют. Еще бы, я тоже на их месте завидовала бы!
У Михаила Герасимовича так уютно, просторно, светло. Не терплю захламленности в квартире! Потихоньку от мамы, когда она уходит на рынок, я выкидываю ежедневно по вещице (мама потом их упорно ищет, сетуя на склероз), но все же у нас столько хлама, теснота, вещь вплотную прижимается к вещи, всюду выживая ее. А у Брачко-Яворских будто сквозят стены. Правда, у них три большие комнаты на двоих. Но сколько я помню, в столовой на диване всегда спит кто-нибудь из бывших учеников профессора – загорелый до черноты, измученный от беготни по столице, с виду рядовой колхозник из самой глухой деревни, но это всегда лесничий... И в этот день пришел и плюхнулся без сил на диван какой-то коричневый, обветренный мужчина, у которого голова была выбрита более тщательно, чем щеки. Несмотря на жару, он был в сапогах и пиджаке и не без удивления взирал, когда нас знакомили, на Кузину распашонку с абстрактными рисунками.
Жена профессора Анна Васильевна, добрая, хлопотливая, моложавая женщина, в которой есть что-то девическое, весело поприветствовала нас и побежала в кухню, на ходу надевая передник. Она любит молодежь и, учитывая наш аппетит, всегда приготовит что-нибудь вкусненькое: блинчики, вареники, пирожки – прямо со сковородки, пышные, горячие,– и напоит чаем с домашним вареньем.
Все наши уселись рядком на тахте в кабинете и приготовились слушать, как на лекции, а я пошла за Анной Васильевной на кухню – надо же кому-нибудь ей помочь.
– Ты мне только помоги накрыть на стол, сегодня уже все приготовила,– сказала Анна Васильевна. Она как-то странно смотрела на меня. Потом села на табурет. Я поняла, она сейчас что-то мне скажет... Так и есть!
– Тасенька, у меня сегодня был он... Василий Николаевич... Он долго сидел. Ничего не ел. Только квасу два стакана выпил. Он убит. Он так любит тебя. Просил тебя убедить.
– Анна Васильевна! Ведь вы же знаете... у нас все кончено. Еще два года назад.
У всякой девицы есть свой о н. Есть, конечно, и у меня. Вернее – был.
– Хотя бы только взглянуть на детей! Василий Николаевич нас обеих приглашал. Говорит, приходите, пожалуйста, вместе.
– Я не пойду, Анна Васильевна!
– Дети же ни в чем не виноваты. Это даже жестоко. Анна Васильевна прикрывает дверь и спрашивает меня в упор:
– Ты его разлюбила?
– Разлюбила.
– Я тебе не верю! Почему же ты изменяешься в лице, когда только произносят его имя?
– Остаточные явления, Анна Васильевна. Знаете, как после острого нефрита. (Анна Васильевна – врач, и я стараюсь говорить на ее языке.)
– Гм! Я ничего не понимаю. Что за странная пошла молодежь... Два года назад, когда весь институт, вся Москва склоняла ваши имена... («Вся Москва» – надо понимать соседи и знакомые.) Ты же всем тогда бросила вызов: я его люблю! Не смотрела, что он женат. Тогда все тебя осуждали... кроме нас с Михаилом Герасимовичем. А теперь, когда он овдовел... никто ничего не скажет. Наоборот, осудят, если за него не выйдешь. Скажут, не захотела возиться с детьми.
– Пусть осуждают сколько влезет!
– Тася! Это уже нигилизм. Разве тебе безразлично мнение людей?
– Но не могу же я каждому объяснять свои личные дела. Хорошо, вам я скажу, в чем дело.
Я села на подоконник.
– Тебя не продует?
– О нет же! Анна Васильевна, вы добрый и душевный человек. Но как вы сами не поняли до сих пор? Неужели вы думаете, что я тогда испугалась разбить... семью? Семьи никакой не было – одна видимость, фикция. Только отъявленные ханжи могли считать э т о за семью. Но я вдруг поняла, что причина в нем самом. Его жена не была уж такой никудышной, как он уверял. Только слишком слабая и податливая. Мне ее очень жаль... Погублена жизнь. И не потому я покончила с этой историей, что испугалась тогда раз и навсегда общественного мнения. Я его испугалась – Василия. Он – кулак!
– Тася!!! Его родители были середняки, но их раскулачили. И вообще... При чем здесь происхождение? Он научный работник, кандидат наук.
– Он будет скоро профессором. Научные звания он приобретает с такой же жадностью, как его дедушка землю. Он жадный. Он хочет как можно больше урвать от общественного пирога. Захватить себе. Вы его не знаете, Анна Васильевна. Спросите вашего мужа. Михаил Герасимович его понимает лучше. С самого начала он предостерегал меня от Василия.
Анна Васильевна смутилась.
– Ты знаешь, как я тебя люблю, Тасенька... Мне хотелось устроить твою судьбу... Теперь, когда жена умерла...
– Покончила самоубийством!
– Что за вздор ты говоришь? Она же умерла от родов!
– Она знала, что ей нельзя больше родить. Думала, второй ребенок спасет семью. Чтоб удержать мужа...
Я наложила на поднос что попало с кухонного стола и понесла в столовую.
За ужином Михаил Герасимович расспрашивал девчат, довольны ли назначением. Кто доволен, кто нет. Кого посылали на Кавказ, Украину или в Брянское лесничество, были довольны, а кому достался Север – ежились.
– Это же – Север, самые леса! – успокоил профессор. Он стал было говорить на любимую тему – о значении работы лесничего, но, поняв, что сегодня не доходит, усмехнулся и переменил разговор.
Брачко-Яворский у нас самый любимый профессор! Красотой он не блистал, наверное, и в молодости. Круглолицый, почти без шеи, глаза – как чернослив, нос картошкой, полные свежие губы, небольшие усы, какие в заграничных фильмах бывают у «злодеев», невысокий, толстый, с изрядным брюшком, энергичный, подвижной, несмотря на комплекцию. Ему лет под шестьдесят, но он каждый год ездит по экспедициям. Несколько раз даже оставлял преподавательскую работу и путешествовал по Сибири, Заполярью. Он-то Севера не боится.
За ужином в центре внимания неожиданно оказался гость, что спал в столовой. Пока Анна Васильевна сватала меня в кухне, он храпел на всю квартиру, а пробудившись, умылся, повеселел и на вопрос профессорши, не выпьет ли водочки, ответил полным согласием. Почувствовав себя взрослым, лесничим, вдруг присоединился к нему и Кузя. Девчонки прыснули со смеху, но Кузя не обратил на нас никакого внимания. Рядом с плечистым гостем из Сибири он казался бледным цыпленком – длинношеий, худой, голубоглазый, в желтой распашонке.
Выпили они, как и положено лесникам при встрече, за русский лес. И тут девчонки набросились на Владимира Афанасьевича с расспросами.
– Естественно, мы хотим знать,– волнуясь, сказала Лиля Соболева, она сразу раскраснелась, даже вспотела, русая челочка прилипла ко лбу,– я, например, еду в Запечорские леса... Скажите по правде, лесничему очень тяжело? Ну, отсутствие культуры, скука и прочее... по правде?
Лесничий усмехнулся.
– Сказать по правде, девушка, скучать-то нам некогда. Не хватает дня, да и ночи не хватает,– выберется свободный часок, уснешь, как убитый. Столько писанины, что в лес еле выберешься, прямым-то своим делом заняться. А насчет культуры... Радио у каждого лесника есть. Теперь и кино стационарное открыли в поселке лесорубов – от нашего кордона всего четыре километра. Клуб... Молодежь, известное дело, потанцует после кино. Ну, а мне не до кино – некогда! Библиотека? А как же, тоже есть. При клубе. Большая. Если ничего не делать, и то хватит читать на несколько лет, а она ведь пополняется новиночками.
– А как вас снабжают? – поинтересовалась с каким-то соболезнованием Анна Васильевна.
– Ничего снабжают: и хлеб, и крупа, и сахар, ну, там конфеты, консервы – все вовремя. У нас с женой почти все свое: садочек, огород, корова, птица всякая, кабана ежегодно выкармливаем. Орехов-то кедровых в лесу сколько угодно – хороший корм свиньям. Кордон возле самой Ыйдыги. Ловим рыбу, заготовляем впрок. Хорошо!.. А воздух какой у нас!! Мед, а не воздух. Я бы на Москву сроду не сменял. Здесь же одни выхлопные газы от машин задушат – отрава. Пасека у нас с позапрошлого года. Чистого меда собрали полтора пуда. Вот вам и Север!
Девчонки мои приуныли. На Владимира Афанасьевича они смотрели с ужасом, как на опустившегося вконец стяжателя. И это бывший ученик Михаила Герасимовича, так сказать, наше будущее!
– А кто же ваша жена? Ну, кем работает? – нерешительно спросила Тоня Синичкина, которую направили в Брянские леса. Она долго колебалась при поступлении в институт: идти ли на филологический или лесной. Тоже повлиял на выбор Леонид Леонов.
– Жена-то? – благодушно ответствовал Владимир Афанасьевич.– Я ведь на колхознице женился, вдове с двумя детьми. Теперь и своих трое. Разницы не делаем. Я, признаться, и забываю, какой мой, какой – пасынок. Слово какое-то нехорошее: пасынок. Правда? А теперь жена перешла в лесхоз. Бригадир малой комплексной бригады. Она у меня молодец, такая моторная, всюду поспевает. А вообще-то дома теща хозяйка. Хорошая женщина!
Заметив, что все как-то скисли и приуныли, добрейший профессор поспешил взять разговор в свои руки... Оговорюсь, скисли все, кроме меня. Такой уж у меня характер: когда другим не по себе, меня почему-то разбирает смех.
– Владимир Афанасьевич Корчак – очень скромный человек,– пояснил профессор.– Вы лучше познакомьтесь с его статьями в журналах.
Профессор со своей обычной живостью выскочил из-за стола, слазил куда-то на шкаф и разложил на столе, сдвинув снедь, стопку журналов «Лесное хозяйство». Я с интересом посмотрела, что может писать такой «вахластый». Дельные были статьи, и я устыдилась: опять по одежке встретила человека, если в «одежку» включить внешние события жизни этого человека, вроде кабанчика, курочек и отсутствия времени сходить в кино.
– Хорошо! – с восторгом заметил Кузя, почитав. Девчата просмотрели статьи и тоже, видимо, устыдились.
– Да пейте вы чай, а то остынет! – напомнила Анна Васильевна. Профессор сиял, будто похвалили его родного сына. Владимир Афанасьевич смутился.
– Это же Михаил Герасимович и спровоцировал меня, если можно употребить такое плохое слово к хорошему делу. Мне бы и в голову не пришло писать статьи в журнал. Михаил Герасимович сам же запросил меня, а потом взял да и напечатал мои письма... отредактировал их, конечно. Вот эти самые «Письма из лесхоза» с продолжением на три номера! Мы с женой просто ахнули, как из райкома позвонили. Поздравляют все, а я ни сном и ни духом, как говорится. А потом из редакции получил письмо, где просят меня высказаться о возобновлении леса на порубках. Написал...
– Володя, а вы расскажите нам, как живет Машенька! – обратилась к лесничему Анна Васильевна.– Она нам пишет, конечно, такие хорошие письма! Но ведь она ни за что не признается, если ей трудно.
– Скоро ее увидим! – заметил Михаил Герасимович, и по его отяжелевшему от возраста лицу прошла тень нежности и умиления.
– Это ты ее увидишь! – возмутилась Анна Васильевна.– А я-то не увижу! Она ведь ходила к нам запросто, вот как сейчас Тасенька и Кузя. Я ее так любила! И вот не видела столько лет!
Мария Кирилловна Пинегина была когда-то любимой ученицей профессора, он ей прочил большое будущее в лесоводстве. Училась она вместе с Василием, а теперь работала лесничим на Ыйдыге, куда направлялась наша комплексная экспедиция.
– Конечно, ей трудно, Марии-то Кирилловне...– задумчиво отозвался Владимир Афанасьевич.– Работа не из легких, да еще для женщины. Ребенка растит, муж – сготовить надо, постирать, прибрать, пошить... Когда она только успевает, не знаю. Правда, хозяйства у нее никакого нет – куда ей,– живут на одну зарплату. Разве что Ефрем Георгиевич – это муж ее, лесник – рыбы в Ыйдыге наловит. Очень мы заняты, что называется, дыхнуть некогда. Что получается: у нас лесхоз – миллион гектаров, где-нибудь в центральных областях лесхоз – пятьдесят гектаров, а количество обслуживающего персонала одинаково. Конечно, все охватить не можем никак. Дебри к тому же непролазные. Белые пятна на районной карте. Представляете? В нашем лесхозе есть места, где нога человека не ступала. А Мария Кирилловна... она ставит задачи, которые не решить! И решает. Зовут ее: лесная хозяйка! Ни директора, ни главного лесничего, а ее – лесная хозяйка! Народ все видит и все знает. Лесорубы ее боятся и уважают. Никакой поблажки она им не дает.
– А с мужем они хорошо живут? – поинтересовалась Анна Васильевна. Правила разработки лесосеки ее не интересовали.
– А чего же... Он в ней души не чает, Ефрем-то Георгиевич. И сына так приучил. Хорошая семья, дружная!
– Тася тоже любимая ученица Михаила Герасимовича! – бухнула при всех Анна Васильевна. (Все-таки она бестактна!)
Подруги молча посмотрели на меня, удивляясь почему.
Студенты считают меня несколько легкомысленной, должно быть, потому, что я всегда шучу. Когда я получаю на экзаменах высшую оценку, они говорят: «Тасе что – ей легко дается – просто способная от природы!» Выходит так, я вроде полудурочки, но от природы мне легко дается! Дома-то знают, что это далеко не так. Знает и профессор.
Он, действительно, относится ко мне с большим уважением. Я, собственно, не знаю за что. Он один поддержал меня в тот тяжелый день, когда все в институте набросились на меня за то, что я осмелилась полюбить женатого человека.
Какая ирония судьбы... Теперь Вася свободен и снова добивается меня, а я уже не могу его любить. Потому что не уважаю!
Мне вдруг стало так тяжело на сердце. Я испугалась, что заплачу, и подошла к окну... Хорошо, что пускали фейерверки в Измайловском парке. Квартира профессора выходит окнами на Народный проспект. За открытыми настежь окнами шумела ночная Москва. До чего хочется быть счастливой!!!
2. НЕ УВАЖАЮ
Стучат, стучат колеса. Вагон бросает, шатает. Кузя удивляется, почему профессор предпочитает этот «обветшалый» вид транспорта. Самолет подбросил бы нас за несколько часов. Некоторые члены экспедиции улетели на самолете. А мы, молодежь,– с Михаилом Герасимовичем. За окнами то густая тайга – там темно и сыро, то безобразные вырубки. Профессор бранится на весь вагон: «Вот мерзавцы, весь подрост погубили!»
Мне не хочется ни с кем говорить: измотана до предела. Заняла верхнюю полку и там отлеживаюсь. Последние дни в Москве были непомерно тяжелыми. Василий решил во что бы то ни стало объявить меня своей женой до экспедиции.
Это было тягостное объяснение! Он плакал, как баба,– злые, скупые, мучительные слезы. Такой крепкий, здоровый мужик. Нервы ему изменили совсем.
– Ты сходи к невропатологу,– посоветовала я от всей души. Новый взрыв чувств. На этот раз гневных.
– Ты злопамятна, Таиска! Теперь я тебя понял!!! Ты не можешь простить, что я тогда испугался. Пошел на попятную. Да, я испугался. Мне грозили со всех сторон: деканат, бюро, райком...
– Соседи, знакомые, родные жены...– подсказала я машинально, но что-то во мне словно оборвалось.
– Я – коммунист! – сказал он (какой там коммунист!).– Что я мог поделать? Моя покойная жена... Она же была истеричка. Она на все была способна. По-своему она была права. Ведь Майя примирилась со всем, давала мне полную свободу, лишь бы я оставался в семье. Ведь у нас рос сын.
– Знаю, Василий, твоя жена разрешила со мной «жить», лишь бы не ломать семью. Какая гадость! Ты – беспринципный!
– Как ты все переворачиваешь... Я любил тебя! И люблю! А у тебя это, видно, легкое увлечение. Даже не страсть. Тогда ты тоже хотела близости, как я...
Это у меня-то легкое увлечение? Я в свою очередь возмутилась.
– Напрасно я щадил тебя,– мрачно сказал он.– Теперь бы ты была моей женой.
– Ни за что!
– Но почему? Ведь ты меня любишь! Все это знают.
– Слишком много этих всех. И я уже не люблю тебя. Разве бывает любовь, когда нет главного – уважения?
– Что ж, благодарю за откровенность! – сказал он горько. Губы его задергались. Он попытался закурить, но не смог, так дрожали руки. Сунул папиросы обратно в карман.
Мне стало так его жалко, что пришлось убежать на кухню и выпить воды: еще минута – и я бы не выдержала. Но что это была бы за жизнь, если я его не уважаю? Не уважаю за то, что трус, беспринципный, жадный до денег и званий. За то, что согласился на суррогат семьи. Разве я когда-нибудь стала бы разбивать настоящую семью?! Ради сына? А сыну полезно изо дня в день видеть разлад, фальшь, ненависть, ссоры, упреки в измене?
Странно: когда он изменял ей походя, без любви, все молчали и она молчала. А когда Василий полюбил, так все возмутились. Разве они не видели, что теперь-то другое? Кузя вот не думал про нас плохое. Он даже дрался несколько раз из-за меня с ребятами, пока те тоже не поверили. Я сказала Василию: «Будешь свободен, я стану твоей женой, не раньше». Я твердо была убеждена, что, даже не будь меня, все равно Василию следовало уйти от Майи, раз они не сумели построить семью. Иногда безнравственно уйти, иногда безнравственно оставаться.
– Детей взяли на воспитание родители Майи... У нас будут свои дети,– сказал этот жалкий человек. Задобрить меня, что ли, он хотел этим известием? Может, тоже думал, что я испугалась хлопот с детьми? Ох!
– Пожалуйста, уходи,– попросила я.
– Не простишь?
– Давно простила, потому что...– я чуть не сказала, что люблю, но заставила себя проглотить это слово.
– Почему ты бросил писать стихи? – сурово спросила я. Он насупился, замолчал. Поэзия – его больное место... Он предал в себе поэта.
Мне рассказывал Михаил Герасимович, каким пришел в институт Василий. Сероглазый, деревенский парень, сильный и веселый. Сибиряк с далекой лесистой Ыйдыги. Столько в нем было на вид простодушия, напористости, что, хоть и оказалось на экзамене троечка, решили его в институт принять. Подкупили и стихи о лесе. У парня были тетрадки две стихов – неплохих. Как отослать такой самородок назад в Сибирь?
Со второго курса стихи стали печатать. Многим они очень нравились, особенно в исполнении самого автора. Недаром Василий Чугунов получил приз на конкурсе чтецов. Вышла книжечка его стихов под бесхитростным названием: «Хлеб с медом». Критика ее не заметила.
Как-то мне Василий сказал: «Написать стихи – такая же работа, как и всякая другая, были бы способности да труд. Но вот оплачиваются они мизерно».
Вышла вторая книжечка. Чугунов подал заявление в Союз писателей. Его отказались даже рекомендовать: критика молчит. И Василий предпочел другую, более верную дорогу к благополучию. Он вернулся в свой институт, закончил досрочно аспирантуру, со всей настойчивостью своей натуры добился звания кандидата наук. Женился на дочери крупного хозяйственного деятеля (потому не буду упоминать всем известную его фамилию). Не знаю уж, по любви или расчету женился. Думаю, и то, и другое – Майя была красивая женщина...
Через пять лет встретил меня. Говорит, что только одну меня и любил по-настоящему. Не знаю. Но также не удержал, предпочел расстаться, как со своими стихами. Испугался потерять насиженное!.. Вот почему так ранил его мой вопрос.
– Поэзия переночевала и ушла...– проговорил он глухо. Такой сильный с виду человек, а ведь совсем слабый.
Я проплакала всю ночь. До чего я несчастна! Может, выйти за него замуж? Но не могу забыть. Не могу! И – я же его не уважаю.
Василий пришел на вокзал осунувшийся, сумрачный. Принес мне цветов и небольшой сверток, тщательно упакованный в кондитерской.
– Пожалуйста, передай матери,– сказал он,– гостинцы. Она живет там же в Кедровом, куда вы едете. Виринея Егоровна Чугунова.
– Разве у тебя жива мать? – невольно ахнула я. Василий никогда не вспоминал о ней, и я почему-то решила, что она давно умерла, как и отец.
– Жива. Она там с братухой моим, Харитоном.
О брате он рассказывал не раз, видно, любил его,– страстный охотник, лесной бродяга. Работал этот Харитон, не помню уже, где, кажется, в лесничестве. Я молча взяла сверток.
До Ыйдыги мы добирались долго: поездом, самолетом, пароходом, грузовой машиной. Приехали в лесхоз ночью. Там как раз белые ночи, но были дождь, туман, тучи, потому темно. Гостиницы никакой нет. Кого положили спать в конторе, кого разместили у служащих. Профессора пригласил к себе директор лесничества, а меня, заспанную, бледную,– укачало в машине, дороги ужасные,– повезла к себе на лошади (по просьбе Михаила Герасимовича, что ли?) та самая Машенька – Мария Кирилловна Пинегина, о которой шел тогда разговор у Брачко-Яворских. Мне предложили поужинать, я отказалась. Где-то положили меня спать, и я сразу уснула. Последнее, что я слышала, засыпая,– могучий гул тайги, грозный и зловещий. Мне стало страшно и как-то одиноко, но усталость сморила.
Странный сон я видела в ту ночь. Во-первых, меня в нем не было. Каким образом я все видела – неизвестно. Но видела, будто по тайге, через болота, валежник, непроходимую чащу пробирается Василий. Он идет сотворить что-то страшное... Тут я, наверное, начала метаться изо всех сил и таки пробудилась, в полном изнеможении, с сильно бьющимся сердцем, вся в поту. Ох, Василий, Василий, зачем ты мне так снишься!
3. ЖИВАЯ ВОДА
Проснулась я невыспавшаяся, в подавленном настроении – под впечатлением худого сна. Торопливо одевшись и взяв из чемодана полотенце, я вышла в кухню. Мария Кирилловна, напевая, что-то варила и жарила в русской печке и весело ответила на мое приветствие.
– Умыться можно возле крыльца,– сказала она, улыбнувшись,– там умывальник весит. А если хотите, можно спуститься к реке. Только не плавайте долго: с непривычки простудитесь. (Это мне—спортсменке, у которой первый разряд по плаванию!)
Конечно, я спустилась к реке. Утро было серое, хмурое. Дикое безлюдье, белесая тайга. Разделась и прыгнула с невысокого каменистого обрыва в воду. И – заорала, как ошпаренная, так холодна была вода. Все же я поплавала немножко. А не успела одеться, как поняла: живая вода! Будто я стала другой и другое вокруг. Будто мне открылось скрытое поначалу: Красота Земли. Серое, оказалось, сияло, как жемчуг, белесое – голубело и серебрилось, хмурое – радовалось жизни. И необжитая Ыйдыга текла так свободно, как в меловой период, когда появились на земле «первичные» ели, лиственницы, сосны и кедры.
По слабо протоптанной тропинке, влажной от тумана, шла я обратно. Бронзовые стволы старых елей подпирали голубой свод, словно мощные колонны. Серебряный мох пружинил под ногами. Остановилась я и прислушалась. Птицы хором пели здравицу утру. Я слегка огорчилась, поняв, что не знаю их языка, даже голоса не различаю. Кто это такая крикливая надрывается над самой моей головой: ворона, сорока, кедровка? Всех перекричала! Ночной туман, оборотясь маленькими облачками, поднимался ввысь, цепляясь за мохнатые темно-зеленые кроны. И был густ и пах, как мед, как свежий хлеб из печки, воздух. И вдруг подумалось: я на родине Василия.








