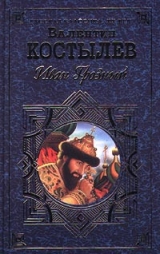
Текст книги "Иван Грозный. Книга 1. Москва в походе"
Автор книги: Валентин Костылев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 59 страниц)
На стене, под стеклом в золотой раме, чернела писанная ломаными извилистыми буквами с хвостами продолговатая царская грамота. Только одну ее наизусть пока и выучили торговые люди; в ней говорилось: «Мы даруем полную волю и право производить всякого рода торговлю свободно и покойно, без всякого стеснения, препятствия, пошлин, налогов, стеснительных форм и прочее».
Она давала англичанам право вольно жить и ездить для торга повсеместно, где они пожелают, заводить лавочную торговлю в гостиных дворах, строить дома, нанимать русских людей к себе в работники, брать с них крестоцеловальную запись в добром выполнении работы, наказывать их, увольнять при нарушении клятвы и брать на работу других людей.
Много всяких иных привилегий дано царем английским купцам. Только из-за того, чтобы самому, своими глазами, прочитать грамоту о царских милостях, и то стоит научиться русскому языку! А ведь задумано большое дело: объехать все города и богатые торговые села в России, договориться с тамошними купцами. Выгода предвидится большая!
Пока дела идут так себе, ничего. Студеное (Белое) море принимает в свои воды только английские корабли. Весь северный край знает английских торговых людей. Льды Северного океана вовсе не так страшны для того, кто хочет выгоды для себя. Правда, доблестный мореплаватель сэр Уиллоуби так и не доплыл до Двины – замерз со своими спутниками близ берегов Лапландии, но ведь он был первый... Старший кормчий плавания Ричард Ченслер, поплывший в Московию вслед за ним, уже оказался счастливее. Одоление морей и океанов не достигается без жертв. И купец, так же как и воин, покоряя неизведанные страны, всегда должен быть готов погибнуть за свое дело. Так самим Господом Богом устроено. Только дикарь этого не понимает, а просвещенный купец давно уразумел это, а потому и цели своей добивается.
Именитый лондонский торговый человек Ричард Грей по дороге в Москву тоже застрял, но только в селе Холмогорах, и по другой причине: весьма соблазнила его вологодская пенька. Таких канатов, какие производят русские мужики в Холмогорах из этой самой пеньки, в Англии и не видывали. Раньше Англия получала канаты из Данцига, теперь будет получать из Холмогор. Эти лучше немецких. Ричард Грей уже начал строить канатную фабрику на берегу Северной Двины, с милостивого согласия царя Ивана Васильевича. Нельзя же сырую пеньку возить в Англию, – это обошлось бы дорого и места на кораблях пенька заняла бы много. Ричард Грей с приятелями рассудил, что выгоднее построить канатную фабрику в Холмогорах и возить в Англию готовые канаты, нежели заваливать корабли пенькой. Ричард Грей не ошибся.
О севере России английский купец не беспокоится. Связь налажена, британский купец там прочно засел, но... не перехитрили бы немецкие купцы англичан где-либо в другом месте. Это тревожит. Не прозевать бы где своей выгоды!
Вот ведь поди ж ты! Немцы уже научились говорить по-русски: Иоахим Крумгаузен по-московски говорит не хуже, чем по-немецки. И потом... Прибалтика! Что-то уж много немцев понаехало в Нарву и Ивангород! Не дай Бог, коли они захватят торговлю новгородскую и псковскую!
– То... маш-ш-ш... ний пфтица! – наклонившись над писанной каракулями бумагой, с хмурым упрямством твердил скорняк, рыжий Аллард. – Гу-усь! Гу-усь!
Он зажал уши, чтобы не слышать разговоров своих соседей. Его мечта – скупить в России целые корабли домашней птицы, разных зверей, особенно бобров... Надо знать название каждой птицы, каждой зверюги. Задача немалая!
Товарищам угрюмого бородача Георга Киллингворта казалось, что он их долбит молотком по голове, так звучал его басистый голос, с усилием сотню раз повторявший: «Ваше царское величество!» (Во время приема во дворце царь обратил внимание на его пышную громадную бороду и тихонько шепнул о том митрополиту Макарию, который сказал: «Божий дар!»)
К вечеру в избу вбежал старшина английского торгового посольства в Москве Дженкинсон. Он был взволнован. Скороговоркой сообщил он своим землякам, что только сейчас в Кремле на стене Крумгаузен целый час беседовал о чем-то с царем Иваном Васильевичем. Ни одного иностранца царь не допускает на кремлевскую стену, а тут сам пригласил. Разговор был тайный, и, конечно, не обошлось без того, чтобы Крумгаузен не наговорил чего-нибудь на англичан.
Что делать? Каким образом оттеснить немцев от царя Ивана Васильевича? Ведь они хотят поссорить Россию с Англией. Давняя их мечта.
Вокруг этого вопроса разгорелись споры. Кто говорил, что надо усилить надзор на Балтийском море, уведомив Англию о том. Пускай пошлют к берегам Скандинавии и Ютландии, а также и в Балтику побольше вооруженных кораблей, которые бы топили немецкие разбойничьи суда, идущие в Россию. Другие советовали натравить на немцев польских и шведских пиратов. Это будет удобнее и дешевле. Третьи советовали подкупать ближайших вельмож царя, с тем чтобы они отговорили его от войны с Ливонией, которая, по-видимому, должна непременно произойти. Не лучше ли царю развить мореплавание по северному морскому пути, проложенному уже из Англии в Россию? Ведь это же его мысль, его, царя Ивана Васильевича! Не он ли так радовался прибытию первого английского корабля в бухту святого Николая [35]? Конечно, Балтийское море... путь короче... лучше... но... немецкие пираты!..
Дженкинсон с возмущением высказывался о ганзейских купцах, которые еще не оставили мысли быть первыми торговцами в России; немало они мешали Англии, немало теснили Швецию, но все же они лезут, не сдаются. Вот и Крумгаузен – не кто иной, как агент Ганзы [36]. Надо этому положить конец. Ни Москве, ни Англии пользы от немцев нечего ждать.
Поздно ночью разошлись английские торговые люди по домам, поклявшись друг другу не выпускать из своих рук превосходства в торговых делах с Россией.
* * *
Иван Васильевич разговорился с Анастасией о торговле с иноземцами.
– Можно ли почесть друзьями немецких купцов? – задумчиво произнес он, сидя в кресле около расположившейся на покой Анастасии. – Они превозносят мои добродетели превыше истины. Они лицемерно закрывают глаза на мою немощь, на мои окаянства... Они лгут, ради своей выгоды, там, где, по-Божьему, следовало бы говорить правду обо мне. Хитрецы и лицемеры! Стало быть, мы понадобились им. Не верю я им! Что ты скажешь, государыня?
Анастасия, облокотившись на руку, приподнялась на подушке. Лицо ее выражало тревогу.
– Веру свою не умыслили бы нам немцы вчинить? – вопросительно глядя на царя, произнесла она.
Царь рассмеялся:
– Веру мы не покупаем и не торгуем ею, но то правда, что купцы заморские меняют королей, меняют веру, меняют рабов на лошадей и собак, и, пожалуй, кто-нибудь знатно разбогател бы, сменив нашу веру в государстве на латынскую али на лютерскую. Папские люди уже пытались, да токмо более пытаться не будут. Я хорошо плачу иноземцам, ратным людям, они служат мне, а коли вздумаю умалить лепту мою, – они продадут свой меч иным государям... и будут поносить меня. Сегодня славили, завтра отрекутся от того, ради хулы и клеветы. Изгнанники – купцы и послы – уехали за рубеж, великую небылицу возводят на меня, но ничего не пишут о себе, како ползали они, ради выгод своих, у моих ног.
– Гони их! Не надо нам таких! – разрумянившись от гнева, сердито сказала Анастасия.
– Не можно так! – покачал головою Иван, тяжело вздохнув. – Ричард Ченслер помог мне в дружбе с королевой аглицкой. Яким Крумгаузен – ратман Нарвы, купеческий вожак; в ином деле многие другие аломанские купцы – лгуны и лицемеры, но без них захиреет любой владыка. Они мочны свести меня с императором более, нежели ангелы мира.
Иван поднялся, стал ходить из угла в угол царицыной опочивальни. Анастасия знает, что царь непрочь сблизиться с Карлом и что боится этого сближения. Она много раз видела мужа – то в бешенстве проклинающего немцев и расхваливающего англичан, то все же отдающего преимущество немецким купцам и ругающего англичан.
Лицо Ивана стало сумрачным.
– Все пригоже делать ко времени, а царям надлежит все делать только вовремя... Холоп проспит лишнее, ему – плевать, а государь коли проспит, – сделает несчастным все царство, особливо имея таких соседей, как немецкие рыцари!..
Анастасию клонило ко сну. Царь заметил это. Подошел к ней, нежно погладил большою рукой ее голову.
– Спи. Не стану докучать тебе. А все же нам с немцами воевать надо. Не обойтись без того.
Иван крепко поцеловал жену и ушел в свои покои.
Там он развернул на столе карту Ливонии, присланную ему одним купцом из Голландии, и в глубоком раздумье склонился над ней.
XI
Декабрь. Снег и холод часто сменяются оттепелью. Южные ветры в полях обнажали кое-где землю.
В один из таких дней по бревенчатым мостовым, скользким от мокрого снега и грязи, из Пушкарской слободы потянулся превеликий караван.
Осадные большие пушки на длинных колесницах, запряженных десятками лошадей, покачивались на широких лотках. В лучах солнца сверкала их начищенная бронза. На пушках верхом сидели с фитилями в руках тепло одетые пушкари.
Сбежавшийся на улицы народ с уважением и страхом взирал на суровых, загадочных под нахлобученными шеломами пушкарей. По бокам телег тихим шагом ехали верховые.
Орудий много – и полевых и полковых: двойные пушки (с двумя жерлами), крупные василиски и гаковницы, чеканенные молитвами, и гауфницы, они же дробовики, на них чеканка: «Иван Васильевич – царь всея Руси», и широкодульные мортиры. На телегах более мелкие орудия: среднекалиберные пищали, прозванные змейками, малокалиберные короткие фальконеты. Около них пушкари с железными вилами-подставками.
Часть орудий кованная, остальные – литье.
Андрейка ехал на вороном коне около большого наряда. Он должен был участвовать в огневой потехе не только как мастер-литец, но и как пушкарь. С гордостью посматривал он на длинную вереницу движущихся возов с пушками.
Из-под самых ног коней разбегались куры, озорники-ребятишки. Тявкали неистово собаки, спрятавшись в подворотни. Много труда стоило возницам сдержать коней, чтобы телеги не сползли в канавы.
Грузно, шумно тянутся воза с громадными ящиками. В них каменные, железные и свинцовые ядра, прозванные – иные «соловьями», иные «девками», иные «воинами». Около них мастера пушечного дела, русские и иноземные, тоже верхами на конях.
Зелейные бочки [37]– в татарских арбах с сеном.
Воздух оглашается трубами, рогами, бубнами... За воеводами везут громадные медные барабаны, набаты. В каждый набат бьют восемь человек.
Вспуганное войском, взлетает с деревьев воронье. Тучею носится оно, исступленно каркая, словно стараясь заглушить весь этот шум.
Обозы с народом уже в поле. Рогатка остается позади.
* * *
Под звон соборных колоколов на белом аргамаке выехал из Кремля высокий, бравый царь Иван Васильевич.
Его сопровождали: юный младший брат его Юрий Васильевич, князь Владимир Андреевич, князья Курбский, Шуйский, Воротынский, Глинский, Адашев Данила и многие другие, на испанских и турецких скакунах.
Царь одет в теплый стеганый кафтан, расшитый золотом, и высокую с орлиными перьями мурмолку. Она опушена соболем, усыпана жемчугом и дорогими каменьями. Князья в теплых, богатых зипунах.
Но вот царь остановил коня на Красной площади. Князья выехали вперед, построились по трое в ряд, а впереди них пошли колонны стрельцов в красных охабнях, по пяти человек в шеренге. Каждый стрелец нес на левом плече пищаль, держа в правой руке фитиль.
По пути следования царя суетились старосты и пристава, разгоняя юродивых, нищих и непотребных женок.
Лицо царя было задумчиво. Иногда он вдруг переводил взгляд на толпу и начинал с любопытством рассматривать сбежавшихся сюда из Гончарной и Конюшенной слобод обывателей. Низко, до земли, кланялись посадские люди царю, обнажив головы.
Вельможи гарцевали браво, ловко управляя конями, как истые наездники. (Не прошли даром состязания с татарскими всадниками, что устраивал Иван Васильевич на Луговой стороне!)
Перейдя по льду реку, царский поезд двинулся через захолустную слободу Котлы. Здесь и подавно изо всех ямских, монастырских и жилецких дворов повылезли любопытные.
К месту маневров помчались ертоульные (передовые всадники, разведчики), чтобы возвестить войску о прибытии государя.
Царь выехал в поле впереди всех.
Воеводы дали знак. Загудели трубы, загрохотали набаты. Войско застыло около пушек, издали завидев царственного всадника. На убранный парчою и коврами помост, с секирами в руках, стройно вошла стрелецкая стража. Соскочив с коня, быстро поднялся и царь Иван. А с ним брат его Юрий, князья Владимир, Курбский, Воротынский и Мстиславский, затем Данила Адашев и принятый царем на службу способный к военному делу казанский царек Шиг-Алей. Все другие помчались на свои места к войску.
Среди поля – одна на другую сложенные глыбы льда; рядом несколько бревенчатых домов, набитых землею; вдали наподобие людей чучела.
Приготовления к пальбе еще не окончились.
Войско широко растянулось по всему полю до самой сосновой рощи. На левом крыле были размещены маленькие орудия; ближе к правому они становились все крупнее и крупнее. Позади пушек, у коновязи, виднелись распряженные кони, телеги, белели только что раскинутые шатры.
Андрейка слез с коня, подошел к мастеру Топоркову.
– Давай осматривать туры. Воевода Телятьев приказал! – крикнул Топорков.
Туры были неодинаковы. Одни большие, другие меньше. Топорков и Андрей попробовали, хороши ли колья, крепко ли их опутывает плетенье из ивовых лоз, достаточно ли навалено земли и щебня к плетенью, не прошибет ли землю неприятельским снарядом.
– Плохо водой смочили, – сказал Топорков, – земля не гораздо села. Добрая поливка землю крепит.
Стрелецкий десятник, под чьим присмотром возводились туры, виновато оправдывался.
– Не взглянул бы Иван Васильевич!.. Мотри! Плохо ти будет. Запаса земли да щебня у тебя немного. Заделывать пробоины чем? Андрейка осудил бойницы: много пустоты меж туров для пушечных дул.
Сигнал к стрельбе.
Поднялась суматоха. Замелькали длинные фитили. Люди торопливо носили к пушкам ядра.
Андрейка, подтягивая стеганые порты, бегал около мортир, следил, верно ли кладут зелье под каменное ядро, – в кармане мерка – небольшой лубяной коробок. Мортиры, около которых он остановился, должны были разбить одну из ледяных глыб.
Первый залп вышел не совсем ладен. Ядра перелетели через лед. Андрейка с сердцем плюнул, ругнулся, велел еще подсыпать зелья, легонько пригнул дуло. Второй залп раздробил в мелкие кусочки четыре громадные льдины. Обливаясь потом, Андрейка тут же начал опять помогать пушкарям наводить дуло.
Разбить дом, наполненный землею, будет потруднее. Пушкари вздыхали, поглядывали в сторону царского помоста с тревогой.
Они выбрали крупные мортиры весом по триста фунтов. Заложили в них ядра. Андрейка велел всыпать пороху по четыре фунта под каждое ядро. Насыпали осторожно, чтобы не потерять ни крупинки.
Сопя, вразвалку подошел Телятьев. Покачивая неодобрительно головою, следил он за работой пушкарей.
– Вы, дрыгуны! У меня штоб в крышу, а ни куды! Сам батюшка-государь взирает на ту избу, бейте!
Пушкари и Андрейка ползали на коленях по мокрой земле, стараясь лучше прицелиться.
Раздался выстрел.
Крыши на избе как не бывало. Бревна съехали набок, земля взлетела вверх, клубы пыли расползлись, черные, густые.
Царь весело рассмеялся. Он указал рукою на эту мишень, проговорил Курбскому на ухо:
– Кабы все так! Одари!
Курбский сошел с помоста, сел на коня и поехал узнать, какие пушкари разбили избу.
Телятьев, размахивая хворостиной, бегал вокруг пушкарей. Он был красный от волнения.
– Крушите! Разнесите ее! Ну, ну, ну! Живее, живее!
Андрейка оттолкнул пушкарей, постучал деревянным молотком по стволу орудия. Телятьев, ругнувшись, стал совать гранату, торопился.
– Постой, воевода! – сердито выдернул из его рук ядро Андрейка.
Телятьев позеленел от злости:
– Прочь, холоп!
Парень смело отстранил его:
– Стой, боярин! Не видишь? Ядро негоже: Прежде, нежели наряжать его, подобает осматривать, а тут три щелинки, три морщинки видны... Гляди! Разорвет! Неладно из литья вышло. Сенька, давай другое! – крикнул он товарищу.
Телятьев отнял ядро у Андрея, намереваясь сам заряжать. Тот вырвал ядро обратно. Телятьев схватился за саблю.
– Боров проклятый! Я тебя проучу!
В это время около них остановился на коне князь Курбский.
– Стой, князь! – крикнул Курбский. – Зачем бряцаешь? – спросил он.
Телятьев рассказал князю Курбскому, какое оскорбление нанес этот холоп ему, воеводе и князю Телятьеву.
– Кто разбил избу ту?
Пушкари указали на Андрея.
– Чего ради ты ослушался князя?
– Негоже то ядро. Рябое оно, худо слито. Воевода кладет его в мортиру. Воспротивился я, чтоб не сгубить пушку, да и людям смертоубийства не учинить.
– Бери ядро... пойдем к царю. Да и ты, князь, пожалуй к государю. Спор ваш мне люб и требует доброго прилежания, чтобы рассудить его. И к поучению сие полезно.
Курбский медленно поехал вперед. Телятьев за ним. Позади их с ядром деловито шагал Андрей, сердито посматривал на толпу ратников, разинувших от любопытства и удивления рты.
Прежде чем допустит боярина и пушкаря на царский помост, Курбский испросил на то разрешения у царя. Получив его, он ввел на помост князя Телятьева и затем Андрейку, который, увидев царя, опустился на колени.
– Поднимись! – ласково кивнул ему царь.
Курбский доложил Ивану, как все было.
– Слушаю тебя, – обратившись к парню, произнес царь.
– Взгляни, пресветлый государь! – Андрейка показал ядро. – Негладкое литье, морщина! Годно ли оно для наряженья? Коли ядро не совершенно круглое, пушку в дуле разрывает.
Царь Иван нахмурился.
– Что скажешь ты, боярин? – спросил он Телятьева.
– Видел и я то ядро, но не нахожу к тому причин, чтоб не стрелять им.
Насмешливая улыбка скользнула по лицу царя.
– Суждение твое, Кирилл Максимович, мудрее суждения пушкаря, на то ты и воевода. Покажи нам пример, как без болезни тем ядром палить... Клади его в пушку своими руками, а мы посмотрим. Иди! – И, обратившись к Курбскому сказал: – Проводи!
Телятьев побледнел, но, поклонившись царю, гордой поступью сошел с помоста, сел на коня и поехал рысью к своим турам, провожаемый недобрым взглядом царя. Только два дня тому назад царю донесли о хуле, которую произнес Телятьев у князя Владимира, негодуя на государя.
Андрею было приказано остаться на помосте.
– Государь, – молвил, кланяясь до земли, парень, – не мочно то, да и наряда жаль. Мортира та новая, и твое имя царское на ней чеканено.
Иван Васильевич рассмеялся:
– А боярина тебе, Телятьева, не жаль? Мортира люба тебе, а князь?
Что ответить? Андрей не знал. Покраснел.
Царь стал серьезен, отвернулся. Выстрелы следовали один за другим. Иногда раздавался залп сразу десятка пушек. Дрожь пробирала кое-кого из бояр от этой пальбы. Андрейка видел, что царь с большим вниманием любуется происходящим разгромом ледяных изб. И это было приятно Андрею. Стало быть, царь Иван понимает его, пушкаря, который тоже любит стрельбу и старается быть лучшим из пушкарей и мастеров. Да! Мортиру жалко, а неразумного боярина не жаль! Бог с ним! Бояр много, а пушек – ой, как мало!
Курбский вернулся к царю с донесением: пушку разорвало, а князя Телятьева шибко ударило. Унесли его и положили в шатер. Царь повернул голову в сторону Андрейки. Несколько минут испытующе смотрел ему в лицо, а потом спросил с плохо скрываемой улыбкой:
– Кого же тебя жаль: князя или пушку?
Андрейка теперь не мог кривить душой. Его сердце наполнилось злобой к Телятьеву.
– Пушку! – не задумываясь, ответил он. Царь расхохотался. Князь Курбский сердито покосился на парня.
– Скажи Юрьеву, – обратился царь к Курбскому, – пускай выдаст молодцу в награду пятьдесят ефимков... А чтоб вежество [38]соблюсти – и десяток плетней отпустите ему, этому ершу. Бояр надо уважать. Пусть то запомнит смерд!
Курбский сделал рукой знак Андрейке, чтобы он уходил. Андрейка вернулся к своему месту на стрельбище красный, озадаченный. За что же плети? После того и ефимкам рад не будешь.
На поле ни ледяных глыб, ни домов – все обращено в прах. Теперь затинные пищали били по чучелам. Одно за другим падали чучела. Меткие выстрелы пищальников оживили Андрейку. Любо ему было смотреть, как треплет ветерок космы расстрелянных чучел. Одно только, как заноза, сидело в сердце: обида на царя.
После того пускали вверх «греческий огонь» [39]. Огненные шары высоко в поднебесье с оглушительным треском лопались, и тучи золотистых звездочек, падая вниз, медленно таяли, не долетев до земли.
В толпе любопытных на окраине стрельбища было много иностранцев: купцов, мастеров, приезжих людей. Все они с удивлением смотрели на огневое искусство московитов. Дженкинсон после этой шутейной стрельбы расхваливал в толпе и царя и войско.
– У русских, – говорил он, – прекрасная артиллерия. Нынешний царь Иван Васильевич превосходит всех своих предшественников в твердости и отваге.
А в посольской избе написал письмо на родину, в котором говорил: «Нет христианского государя, коего больше бы боялись и больше любили, чем этого. Его величество принимает и хорошо вознаграждает иностранцев, приезжающих к нему на службу, особенно военных».
Расходясь по домам, чужеземцы перешептывались, что царь забавляется не зря, – теперь ясно, что Москва готовится к походу. Говорили они между собою и о силе и могуществе московского царя и о том, что, конечно, виденное ими далеко не все, чем обладает московский царь.
* * *
В этот вечер Иван Васильевич ужинал у себя в покоях с царицею и ее братом, степенным, богобоязненным Данилой Романовичем Юрьевым. Он был невысок ростом, худ, с жиденькой бороденкой.
За ужином царь, смеясь, рассказал Анастасии, как проучил он Телятьева и каким молодцом оказался колычевский мужик, убежавший из вотчины.
Ужин прошел в веселой беседе. Из слов Ивана Васильевича было видно, что он остался доволен стрельбищем. Об одном пожалел царь – в войске мало хороших пушек.
Самому бы поездить по чужим странам да посмотреть своими глазами, какие там пушки, и как их делают, и как они бьют! Посланный за границу князь Лыков с товарищами, правда, кое о чем разведал и фальконеты государю из латинских городов привез, но этого мало. Да, новому строю и способу боя хотелось бы у иноземцев поучиться. Многое одряхлело... и многое народилось вновь.
Иван задумчиво, как бы про себя, сказал:
– Есть мудрые мужики, способные царю благой совет давать. Есть мысли старейших, до нас живших, нетленные. Ими питаемся. Никакие драконы блудомыслия, никакие измышления пустоглагольников не могли поправить их, но... кто скажет мне: где сильны мы сохранением старого завета, соблюдением древнего порядка и где мы слабы им? И все ли новое, хотя было бы оно лепо и сверкающе, государству на пользу? И все ли оно Божье, а не колдовское? Высокое достоинство советников правителя и сила их разума в познании меры. Ущерб старому в иное время так же прискорбен, как и неприятие нового. Воздержание и вожделение не живут согласно. А я слаб! Каюсь! Страсти сильнее меня.
Данила Романович и Анастасия ничего не могли сказать в ответ на речь царя.
Анастасия держала на коленях царевича Ивана в шлеме, с которым он не расставался.
Царица видела выражение растерянности на лице мужа и думала, как бы перевести разговор на другое. Но разве можно? Иван Васильевич любит, чтобы она была его советчицей.
– Батюшка-государь! – нарушила она молчание. – Господь Бог – лучший советник владык. Он развеет волшебство и укажет путь к правде.
Иван Васильевич улыбнулся, ласково кивнул ей, как бы одобряя ее слова. Но от Анастасии не укрылась усмешливость в глазах его. Да, она знает, что царь не получил ответа на свои мысли и что он втайне посмеивается над ее словами, но не хочет обидеть ее.
Иван указал Даниле Романовичу на сына:
– А ну-ка, Данила, поставим его в большой полк! Обрядим его в броню, дадим меч, посадим на коня и объявим: «Царевич поведет войско!»
Все рассмеялись.
Иван сказал:
– То-то потехи стало бы! Бояре лютее льва рыкающего ощетинятся! Ярмо и в том увидели бы! А надо бы. Жаль – мал он!
Анастасия сняла шлем с сына, прижала царевича к груди:
– Пустое! Не дам я его! Поставь своего Курбского. Он любит вперед лезть.
Иван, наливая в сулею из кувшина брагу, усмехнулся:
– Послушать бы, о чем без царя, у себя дома, говорят мои князья! А я знаю, что более всего толкуют они о роде своем... Кто кичится тем, что произошел от князей ярославских, кто-де прямой суздальский владыка, иной кричит: во мне течет кровь князей смоленских! Сатана слушает их речи и радуется: то Сигизмунда-Августа пальцем поманит к нам на землю, то крымского Девлета, то свейского, то немецкого, то Солеймана. А князькам недосуг – они делят Русь на княжества и спорят, кто кого старше... Дальше своих уделов ничего не видят. Государство не нужно.
Немного подумав, царь добавил:
– Не надобно им силы царства! Родословие им превыше всего. Император германский либо король светский – и те больше наших князьков думают о нашем государстве.
Иван Васильевич с горькой усмешкой покачал головою и тяжело вздохнул.
– Донес мне Владимиров человек, будто боярин Телятьев хулил меня, что царь-то отнял все, не велит бегать от одного государя к другому, царь приказал сидеть на месте и верою и правдою служить... править тем, над чем поставлены! Вольность! К татарскому игу привела та вольность! А ныне узнал я, новгородское вече они прославляют. Блудные сыны и лукавцы! Новгородская вольница – не сестра им и не опора нашему царству. Славят они ее назло мне. А Сильвеструшко им потакает. Новгородский попик себе на уме. Всю ночь Сильвестр вчера пировал у князя Владимира.
Иван нахмурился.
– И решил я поставить вождем над войском не Курбского и никакого иного русского князя, а татарина Шиг-Алея. А в придачу к нему пойдешь ты, Данила. (Данила Романович встал, поклонился и опять сел.) Да дядька пойдет: Михайла [40]. Князей посадим полковыми воеводами. Государю не род нужен, не знатность, а служба. Мишка Репнин отказывается идти под рукой Басманова. Князьку-де постыдно слушать недавнего дворянина. А Басманов к огневу бою приучен лучше, нежели князь Репнин. Князь Куракин не хочет стать рядом с Павлом Заболоцким. Но кто же из князей может равняться по конному бою с казаком Заболоцким! Пускай татарин начальствует над всеми ними. Пускай! А царевича, мать моя, побережем. Будет время, повоюет! Много у нас, русских, врагов! И внукам и правнукам хватит. Чем будем сильнее, тем больше врагов явится. И меня не будет, и тебя не будет, а враги будут:
– А я пойду! – крикнул царевич, крепко прижатый к груди матерью.
Царь расхохотался:
– Что скажешь, Данила?
Данила Романович встал, поклонился:
– Царскую доблесть и достоинство видим мы в царевиче с младенческих лет. Любовь великого царя к сыну – залог счастья всея Руси!
Иван поднялся, взял царевича на руки и крепко его поцеловал. Курчавый, черноглазый мальчик погладил ручонками щеки отца и сморщился: «колючие».
Анастасия с материнским восхищением смотрела на сына.
* * *
Охима день ото дня все сильнее привязывалась к Андрейке. Она теперь и подумать боялась, что когда-нибудь ей придется расстаться с ним. Между тем приготовления к войне происходили у всех на глазах. Шла упорная молва о близком выступлении войска в поход. Прежде Охима никогда не вникала в разговор о войне, о царе, о Ливонии – теперь ловила каждое слово, которое говорилось на Печатном дворе. Иван Федоров и Мстиславец любили поговорить и поспорить обо всем, касавшемся государственных дел. О будущей войне с Ливонией они говорили как о хорошем, нужном деле. Федоров негодовал на ливонских рыцарей, задержавших книги, краску и станки, выписанные царем из Голландии для Печатного двора. Он говорил: «Давно бы мы напечатали Апостол, и не только Апостол, но и многие иные книги, кабы из-за моря перевезены были нужные станки. А тем, что их нет, великий урон учинился и всем государевым делам, ибо печать во многом бы помогла государеву правлению, и не творились бы столь великой разноголосицы в областях и уездах по государеву делу, и все стали бы знать: как нужно жить, как Богу молиться и как народом править...»
Охима видела, как Иван Федоров и Мстиславец плакали, узнав, что немцы перехватили заморские товары для Печатного двора.
Война обязательно будет! Охима теперь уже в том не сомневалась, но... Андрей!
Он ежедневно приходил к ней и уходил, когда на звоннице Николая колокол ударял к утрене, а в окно начинал проникать розовый отсвет зари.
«Ах, Андрей! Если ты долго не приходишь, то как будто и солнце меркнет, и зелень садов за окнами вянет, и весна не весна, и лето, не лето, и осень не осень, и зима не зима! Околдовал ты меня, опутал чарами волшебными, словно рыбку, что попадает в сети к рыбаку. Она трепещет в тех сетях, а силы не имеет, чтоб разорвать их и уйти на волю, в водяное царство!»
В таких размышлениях повседневно мучилась Охима, поджидая Андрея.
И в этот вечер ее волновали те же мысли, но только теперь уже не лето: вместо зелени – голые сучья в снегу, все побелело за окнами, и недолог стал день, и рано темнеет, и колокол бьет к утрене в глубокой темени. И Андрей уходит очень-очень рано, не видя зари; и она провожает его тоже в холоде и темени, когда несносно скрипят половицы и хрипло лают псы, не узнавая в темноте Андрея.
Андрей в этот раз пришел невеселый. И когда он, мокрый, весь в снегу, раздевался, на улицах били набаты и пронзительно завывали рожки.
– Со стрельбища! Измучился, – тихо проговорил он. – Пушку разорвало. Жалко мне.
Охима обняла его. Чем она может одарить его, кроме своей любви? Нет у нее ни вина, ни яств никаких, сама живет кое-как. Одна любовь! Но Андрею больше ничего и не надо. Он сам принес ей краюху хлеба и вареного мяса из Пушечной избы. Не было для Охимы наибольшего счастья, как только слушать Андрея. А он любил рассказывать ей о своем пушечном деле, о том, как научился он ковать и лить пушки. Сам царь похвалил его.
Андрей мечтал сварить большую-большую пушку, чтобы влезало в нее такое ядро, каким сразу можно сбить любую башню, пробить любую стену и уничтожить сотню врагов.
Охима, лаская его, нежно шептала, что нет на свете такого человека, который разуверил бы ее в том, что ее Андрей не сделает такую пушку. Ее Андрей способен еще не на такие дела; ее Андрею надо было родиться царем, а не крестьянином, не мастером литейного дела и не пушкарем. Пригожее Андрея и на лицо никого не найдешь на всей земле, а потому он и сможет, только он один, сделать такую пушку.
Она так расхваливала своего друга, что тот начинал ей своей широкой ладонью, пахнущей ворванью и дымом, зажимать рот.








