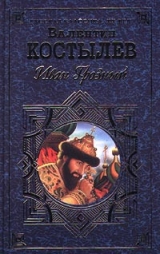
Текст книги "Иван Грозный. Книга 1. Москва в походе"
Автор книги: Валентин Костылев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 59 страниц)
– Ты молчишь! Окаянный льстец! Подобно своему хозяину, упрятал ты змеиное жало... А кто того не знает, что спрятанное жало – горчайшее зло, оно жалит, когда к тому случай явится. Ну, мы не будем того ждать. Вырвем жало, покудова оно не вышло наружу:
И, кивнув головой кату, царь сказал:
– Тронь!
Кат спокойно вынул из огня раскаленную железную лопатку и приложил ее к плечу узника:
Дикий вопль огласил подземелье. Пытаемый вцепился в одежду ката, оттолкнул его к стене.
– Стой, собака! – громко крикнул царь. Лицо его, красное от отблеска огня и волнения, перекосилось злобою. – Не шевелись! Отвечай! Кто бывает у твоего князя и о чем болтают!
– Не ведаю, государь! – простонал узник.
– Может стать, тебе неведомо, и кто велел тебе захватить колычевских мужиков?
– Матушка-княгиня Ефросинья, она... она... посылает нас! Князю то неведомо.
Иван некоторое время стоял в раздумье. Видно, что он доволен остался ответом своего пленника.
Кат суетился около огня, нагревая большие железные когти.
Видя это, узник снова завыл, прижавшись к каменной стене.
Нахмурив брови, Иван Васильевич стал внимательно следить за выражением лица узника, который снова повалился на пол, стал умолять царя помиловать его.
– Отвечай, кто из бояр и князей наибольшие доброхоты князю Володимиру?
– Князья Репнин, Ростовский, Курлятев, Телятьев... А о чем болтают, нам немочно знать... В хоромы нас не пущают...
– Станешь ли ты на мою сторону, чтоб служить мне верою и правдою, коли я помилую тебя?
– Стану, батюшка-государь, стану, по гроб буду верен тебе, – со слезами на глазах принялся креститься пытаемый.
– А коли не сдержишь слова?
– Отсеки мне головушку в те поры, отец родной... В огне сожги, спали на углие!..
– Клянешься?
– Клянусь!
– Выжги ему на груди крест, чтоб не забывал своей клятвы.. Многие клянутся, отрекаются от злоумышления и измены и скоро о том забывают, а ты, глядя на крест, припоминай свою клятву... Вспомяни батюшку-царя...
По лицу Ивана Васильевича скользнула насмешливая улыбка.
– Великий государь!: – снова завопил княжеский страж. – Запомню я и без того!.. Запомню!
– Самый тягчайший клятвопреступник под пыткою употребляет слова сладчайшие, но я давно перестал тому верить:
Кат уже накалил докрасна небольшой железный крест... Подойдя к узнику, он ласково попросил его лечь на скамью навзничь. Тот покорно выполнил это – лег, закрыл глаза.
– Молись!.. – приказал царь. – Ежели праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, он губит душу, а беззаконник, ежели обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвращает душу свою... Аминь!
В это время кат ловко выхватил из огня щипцами раскаленный крест и приложил его к груди пытаемого...
Царь строго смотрел на корчившегося перед ним от страшной боли человека, часто осеняя себя крестным знамением и нашептывая едва слышно молитву.
Через некоторое время кат смазал грудь пытаемого согретым маслом. Запахло паленым мясом.
– Оставайся слугою князя, будучи моим верным рабом...
И, хлопнув в ладоши, царь вызвал стрельцов.
– Отведите его к Василию Грязному, – сказал он, указывая на лежащего на скамье княжеского стражника.
Все низко поклонились уходившему из каземата царю.
VII
День двадцатого июня был приемным днем царя.
В Большой палате, на скамьях, полукругом у стен тихо сидели бояре, думные и ближние люди, окольничьи, стольники, стряпчие и многие приближенные царем к своей особе; дворяне сидели рядами в прилегавших к палате покоях. Бояре в богатых златотканых одеждах и высоких горлатных [24]шапках. Все сидели неподвижно, храня глубокое почтительное молчание. Никто не приветствовал входивших в палату гостей.
Около царя стояли рынды [25]в белоснежных шелковых кафтанах.
Полы приемной палаты были устланы дорогими узорчатыми коврами.
Царь Иван сидел в широком вызолоченном кресле. На нем была бархатная, обшитая парчою желтая одежда, унизанная множеством золотых блях и драгоценных камней. На голове у него золотая корона, осыпанная алмазами и жемчугом. Перстни с бриллиантами покрывали его пальцы. В правой руке он держал золотой массивный скипетр с двуглавым орлом.
Царь принимал прибывших через Швецию шотландцев. Они с отменной ловкостью отвесили поклон, размашисто салютуя своими широкополыми в перьях шляпами. Старший вышел вперед, заявил, что шотландцы – народ испытанный, воинственный, готовый служить каждому христианскому государю. Они докажут это, если его величеству угодно будет взять их на государеву службу. Они могут быть воинами, розмыслами [26]и мастерами пушечного дела.
Иван внимательно выслушал витиеватую почтительную речь и приветливой улыбкой ответил на поклоны рослых, курчавых шотландцев. По его лицу видно было, что ему нравится воинская выправка заморских гостей. Особое внимание уделил он старшему из них. Когда тот закончил свою речь, царь Иван приказал толмачу узнать его имя.
– Джонни Лингетт, – ответил тот, с достоинством откинув голову.
Это был широкоплечий детина, голубоглазый, с большим прямым носом и маленьким женским ртом. На верхней губе чуть-чуть виден пушок. Взгляд простодушный, слегка наивный.
Царь Иван с любопытством всматривался в лицо бравого шотландца. Потом сказал толмачу:
– Спроси, как же так можно, чтобы честный воин служил каждому государю? Мои воины служат только одному государю – мне. И не почтут ли они то изменой?!
Толмач перевел шотландцу вопрос царя.
Джонни Лингетт, весело улыбаясь, переглянулся со своими товарищами, а затем с легким поклоном ответил:
– Не «каждому государю», но только христианскому.
Иван Васильевич усмехнулся.
– Толмач, скажи ему: христианские государи проливают кровь христианскую же, и не менее, нежели мусульмане и язычники: И не христианский ли король Франции вошел в союз с Солейманом, называющим христиан «собаками»? Веры разные – меч один и тот против христиан.
Выслушав толмача, шотландцы стали в тупик: что ответить? Смутились.
Царь нахмурился.
– Ну?! – нетерпеливо постучал он посохом об пол.
– Мы уже давно не были на родине... Мы не знаем ничего о Европе, – ответил юноша, покраснев.
Царь покачал головой, а затем подробно расспросил их, кто к чему привычен.
Бояре с трудом сдерживали зевоту. Расспросы царя утомили их. Михаил Репнин кусал губы, щипал себя, чтобы побороть дремоту. Ростовский думал о не состоявшейся сегодня, вследствие царева приемного дня, медвежьей охоте. У Курлятева болели зубы, он усердно приглаживал языком больное место десны, еле-еле сдерживаясь, чтобы не застонать. Самое утомительное было для бояр присутствовать при приемах Иваном Васильевичем иностранцев. Им казалось это пустою забавою «молодого, честолюбивого венценосца».
Царь завел речь об изобретенных в Италии двадцать лет назад пушках-фальконетах, именуемых в Москве «волконейками», или «соколами». Ему хотелось знать: какие дальнобойные пушки шести-семи фунтов имеются за границей, чтобы можно было такие пушки возить на спине коня, при себе?
Толмач не успевал переводить вопросы царя, чем вызвал его неудовольствие. Велено было позвать другого толмача. Они стали вдвоем осыпать вопросами шотландцев, оказавшихся людьми сведущими в пушечном деле. Они охотно поведали царю о новых пушках, какие им приходилось видеть в других странах. Особенно заинтересовался царь рассказом их о кожаных пушках, которые изобретены в Швеции. Крепкая медная стволина обволакивается кожею; можно стрелять двумя либо тремя ядрами сразу.
Шотландцы, по требованию царя, нарисовали на бумаге углем устройство этой пушки.
Царь поблагодарил и велел Адашеву принять их на государеву службу, милостиво протянув свою руку, которую поочередно и облобызали шотландцы.
По уходе шотландцев царь долго рассматривал нарисованное ими на бумаге. Вздохнул, покачал головою и убрал чертеж в карман.
На смену шотландцам с шумом, с сабельным звоном явились атаманы казаков: донских, гребенских, терских, волжских и яицких. Были вызваны они царем для беседы о предстоящем походе.
В пестрых одеждах, в широких шароварах, подпоясанные зелеными и красными кушаками, с кривыми турецкими саблями и ятаганами на боку, усатые, чубатые, вошли они в палату. Во дворец никому не дозволялось являться с оружием. Казакам царь это разрешил.
– Бьем челом, великий государь!.. – громко сказал любимец царя атаман Павел Заболоцкий. Он высоко поднял правую руку, в которой держал громадную косматую шапку. Оглянулся, крикнул товарищам: «Гей!»
Казаки низко поклонились, звеня цепочками, четками и оружием.
Чубатые, седоусые с лукавой усмешкой из-под сумрачно нависших бровей осмотрели неподвижно сидевших на скамьях бояр.
Царь Иван поднялся со своего места (с шотландцами беседовал сидя) и тоже низко поклонился казакам.
– Здоровы ли, атаманы?
– Живем, великий государь, и Богу за тебя молимся, – бойко ответил Заболоцкий.
Снова общи поклон.
«Разбойники, чистые разбойники! – думал Михаил Репнин. – Душегубы! С нами никогда царь не бывает так ласков, как с этими бродягами!» Сильвестр, вскинув очи к небу, вздыхал, что заметили многие из придворных. Адашев глядел с надменностью на толпу атаманов. Зато веселые, задорные улыбки появились у дворян, и особенно выделялось лицо Василия Грязного. Неожиданно встретившись взглядом с ним, Михаил Репнин побагровел, насупился. «Сволочь! Пес!» – мысленно обругал он Грязного.
Коренастый, широкоплечий атаман Заболоцкий – старый рубака. На его красном черноусом лице следы сабельных ран. В темно-синем казацком кобеняке, опушенном бобром, в малиновых суконных штанах и сафьяновых сапогах с золотыми украшениями, он выделялся богатством своей одежды среди других атаманов. Его руки сверкали от множества дорогих перстней. У пояса кривая турецкая сабля в бархатных малиновых ножнах с позолотой.
– Великий государь! – громко произнес Заболоцкий. – Казацкие сотни у берегов Дона, Волги, Яика, Терека и с Гребня бьют тебе челом служить верно! Наслышаны мы о хотении твоем, государь наш, Иван Васильевич, видеть нас и слово царское молвить нам. Великая радость от сего в казацких станциях... Буди к нам милостив, великий царь! А мы не забудем добро твое.
Поклонился царю Заболоцкий, а вместе с ним еще и еще сделали низкие поклоны и все другие его товарищи.
– Храбрые атаманы! – воскликнул царь с воодушевлением. – Господарь Молдавский Стефан сказал про моего деда... «Он дома сидит и спит, а владения свои увеличил; а я, ежедневно сражаясь, едва могу защитить свои пределы». Наши соседи, ливонские немцы, посчитали и нас спящими: Десятки лет не платят долга и к тому же – пытаются загородить от нас моря и иные царства. Обманывали немцы моего, блаженной памяти, родителя, великого князя Василия, а ныне обманывают и меня. Немцы не одни. Врагов у нашего царства немало. На них-то и понадеялись немецкие вельможи... Надо ли нам терпеть?! Ужели кони наши охромели, сабли заржавели, копья притупились? Ужели мы не пойдем на защиту поруганных наших святых церквей и в тихости склоним головы перед бешенными псами? Казаки! Единой веры мы с вами, единой крови – к кому прилепитесь? Не слушайте краснословцев, осуждающих распрю с Ливонией: Наш гнев – гнев Божий!.. Вседержителю угодно, чтоб наказал я лютерских еретиков проклятых, захвативших в древности земли наших предков... и надругавшихся над нашими людьми... Мне ведомо, что славный казацкий вождь Дмитрий Иванович Вишневецкий зовет казаков воевать с Крымом, с нехристями-мусульманами... Но от казаков не уйдет... Победив немцев, прилепившись к морю, мы сделаем себя еще более сильными! И крымские нападатели не устоят в те поры перед нами. И коли казачество будет прямить нам и пойдет на Ливонию заодно с Москвой, то и царь доброхотство ваше пожалует и дела ваши незабвенны станут. Казачество же, со славою, помощью Божией и царской, поразит врагов своих и на востоке, и на юге, и на западе... Ныне, ради победы над немцами, да будет наш союз и дружба нерушимы!..
Последние слова царь громко сказал на всю палату. У некоторых казаков выступили слезы.
Заболоцкий поднял руку; застыли поднятые руки и над головами остальных атаманов.
– Клянемся, батюшка-царь!.. Клянемся служить правдою!
Палата содрогнулась от мощного восклицания казацких начальников.
Царь стоял довольный, разрумянившийся, кланяясь с ласковой улыбкой. Глаза его восхищенно смотрели на казаков, которые, низко поклонившись, выходили из палаты походкой степенных всадников, переваливаясь, на носках.
...Позднее, в «меньшей» палате, где хранились итальянские, латинские и немецкие книги и шутейные сказки доминиканцев, царь Иван принимал людей порубежного бережения и засечной стражи [27]с южных окраин.
Сопровождал порубежников знатный боярин, третий местом в Боярской думе, один из любимцев царя, князь Михаил Иванович Воротынский.
Вошедшие долго молились на иконы. Перед каждым образом горели лампады. Пахло маслом и церковными благовониями. Палата была небольшая, уютная, убранная коврами и шелковыми тканями.
Иван Васильевич сидел в кожаном кресле. Он был в добром расположении духа. Распахнув кафтан, надетый на голубую шелковую рубаху, неторопливо посматривал он на ратников. Лицо его было приветливым, глаза искрились добродушием.
Помолившись, порубежники низко, до земли, поклонились государю. Воротынский назвал каждого по имени и рассказал, из какой кто окраины.
Внимательно выслушал царь боярина, оглядывая каждого ратника с головы до ног.
– Господу Богу угодно, дабы позаботились мы об украинной дозорной страже, – сказал царь, выслушав Воротынского.
Царь объявил, что отныне настало такое время, когда родине отовсюду грозят враги. И назвал он немцев, Литву, крымцев, ногайцев, шведов, османов.
– Берега нашего царства велики и плохо оборонены. Дед мой, Иван Васильевич, да и отец мой, Василий Иванович, немало порадели бережению нашей земли. И мне надлежит беречь и землю и народ наш по мере сил моих и милосердия всемилостивого Господа Бога. Иван, великий дед мой, многажды посылал слуг в иноземные крулевства добывать розмыслов, стенных, башенных и палатных мастеров... И крепости ими сложены устойчивые и для боев пригожие. Но засеки и до сих дней немногою согреты ласкою государей. Почли нужным мы послать на засеки розмыслов, кои укрепят их прочною защитою. Засечную стражу надобно оснастить нарядом и всякою иною утварью, а людей одеть и одарить конями и милостию нашею украсить. Храните рубежи царства пуще глаза, будьте усторожливы, бдите ежечасно, дабы враг не вторгнулся в засеку! В недолгом времени прикажу я Разряду созвать боярских детей с украйн, станичных голов и старшин казацких, и всех людей сторожевых, засечных начальных в престольный град Москву: На общем соборе рассудим мы, с Божьей помощью, как то сделать, чтобы чужестранцы на государевы украйны войною безвестно не приходили, а станичники были бы сильнее и усторожливее, нежели то было до сей поры... И из нашей земли без царевых грамот никого не пускать. Учиним мы тем собором приговор о станичной и сторожевой службе, какою она должна быть... Передайте о моем царском слове своим товарищам по всем путям...
Царь тут же приказал Воротынскому разъяснить порубежникам, пока, до боярского приговора, как они должны охранять землю.
Воротынский строгим голосом объявил, чтобы стража на условленных местах стояли, «с коня не сседая», разъезжали бы по два человека направо и налево. Где и как сторожить, укажут ближние воеводы. Огни разводить не в одном месте: если кашу сваришь, в другой раз уж готовь пищу в ином месте. В одном и том же месте огня разводить не след. И там, где полдневали, не ночевать, а где ночевали – не полдневать. В лесах не ставиться. Стоять там, откуда было бы хорошо видно окрестности на далекое расстояние. Увидев врагов, отсылать гонцов в ближайшие города. И если будут такие сторожа, которые, «не дождався себе отмены», уедут с своего поста, и «в те поры от воинских людей государевым украйнам учинится война, – тем сторожам от государя царя и великого князя быти казненными смертью. А тем сторожам, что лишнее простоят, не получив смены, платить по полтине в день на человека».
Еще строже Воротынский сказал о том, что «если станичников или сторожей воеводы или головы кого пошлют дозирать на урочищах и на сторо́жах [28]и если узнается, что они стоят небрежно и неусторожливо и до урочищ не доезжают – хотя прихода воинских людей и не будет, то все же тех станичников и сторожей за то бить кнутом».
Долго объяснял Воротынский, как должна вестись сторожевая служба на рубежах. Все засечные головы и их товарищи слушали молча, тихо, ловя каждое слово боярина и робко, искоса поглядывая на царя, который сидел в кресле, опершись головою на руку. Он не глядел ни на кого, погрузившись в раздумье. Лицо его стало хмурым. Вдруг он быстро поднялся, перебив Воротынского:
– Михаил Иванович! Накажи воеводам настрого, чтобы лошади у сторожей были добрые, на которых бы, увидев врага, можно было ускакать. Худых коней на засеки не отпускать. Не исполнят того, – ляжет на них гнев государев... Отпиши!
Все, что сказал станичникам Воротынский, – все это давно обсуждено царем, и не раз, с ближними боярами и воеводами.
– Яви свою ревность в деле, и я поставлю тебя хозяином рубежей... Великую честь и великую власть ты приемлешь, – сказал царь Воротынскому.
Отпустив станичных голов и всех других станичников, царь Иван остался наедине с боярином.
– Тебя я не ставлю в ряду с иными. Ты тверд нравом и не ищешь того, чего не заслужил; родовитостью не кичишься и своей доблестью не превозносишься, как иные, даже самые ничтожные... Ты все требуешь от себя, а не как другие, требующие все от своего государя. Но нет в мире владыки, который бы во всем мог осчастливить человека...
– Полно, отец наш, батюшка-государь!.. – низко поклонился князь. – Мы ли, рабы твои, тобою не осчастливлены?
– И хотел сказать я тебе еще: согревай своею заботою малых сил, боярских детей и дворян. Они юны. У них долгий путь к славе, и на этом пути многое могут сотворить они в пользу государства. С Курбским ты не ладишь... Знаю. Одначе Андрей Михайлович мужественный воин. И не всуе возведен мною князь в сан боярина. И на луговую черемису ходил он тем годом, и в Дикое поле выступал под Калугу; ожидая там крымцев, и в Кашире был... Почетом немалым он уважен в войске... Нельзя государю того не видеть. Верю, что и ты не отстанешь от него и явишь на рубежах усердие не меньшее. Будь прямым, как был, а на милость мою полагайся... Ты, да князь Иван Федорович Мстиславский, да еще есть у меня из бояр, прежде и ныне родством славных и службою царю верных. Места ближние в Думе крепки за ними...
Воротынский еще раз низко поклонился царю. Он был невысок ростом, широк в плечах, крепок; в сабельном бою равных себе не имел. Темные кольца волос непослушно сбивались на лоб.
– Поки глаголю: не гнушайся малых людишек, худородных, незнатных. На рубежах они будут служить правдою, а мы не забудем их. Многие холопы мои не могут обуздать свои гордые помыслы и безрассудное хотение – не будь таким!
Царь положил руку на плечо Воротынскому.
– Появился на нашем дворе беглый мужик из нижегородских пределов. Простил я его за тихость и ревность к правде. Он послан к тебе. Гони его на ливонский рубеж. Поди, там ныне весело!
Царь тихо рассмеялся.
– Не унимаются ливонские князи... Просят мира, а сами нападают. Церкви, бишь, все наши разрушили в Риге, Юрьеве и Ревеле. Бьют моих купцов, хватают в полон наших девок, секут головы моим людям... Иноземных гостей к нам не пускают. Сатана ум им помрачил. Ливонские земли – извечно русские. О том мои дьяки и воеводы не раз отписывали магистру. И послы его приезжали к нам. Но дани, что требуем, до сих дней так я и не вижу от немцев. Подождем еще, потерпим. Терпение – великий дар!..
Немного подумав, он с шутливой улыбкой спросил:
– Скажи мне, князь Михайло, обладаю ли я тем даром?
– Не холопу судить о своем господине, великий государь! – смущенно развел руками Воротынский.
– Ну, добро! Како мыслишь о походе, что задумали мы?
– По вся места моя сабля прольет кровь твоих врагов, государь.
Иван молчал. Видно было, что ответ Воротынского не вполне удовлетворяет его.
– Ливония или Крым? – настойчиво спросил он.
– Ливония! – ответил князь.
Оба несколько мгновений смотрели друг другу в глаза. Воротынский спокойно и смело. Царь испытующе.
– Так ли?
– Так.
– Буде поедешь на рубеж, оставь нам, по обычаю, крестоцеловальную грамоту.
– Да будет так, великий государь! – низко поклонился Воротынский.
– Иди с Богом! Верши!
Князь вышел. На площади он остановился, помолился на соборы, облегченно вздохнул.
Царь Иван наблюдал за ним в окно. Он весело рассмеялся, когда увидел, как боярин обтирает пот на шее и лице и как заторопился по двору.
* * *
Прежде нежели отправить Герасима в засеку, князь Воротынский сдал его на обучение копейщикам.
На просторном месте, в Лужниках, вместе с другими парнями, стали обучать его копейному делу.
Высокий, похожий на цыгана, смуглый, с вьющимися черными волосами стрелец держал в руках длинное увесистое копье. Такие же копья, но только покороче, были розданы и всем обучающимся парням.
Стрелец прохаживался по лужайке вдоль шеренги молодых воинов и громким, грубым голосом говорил:
– Засечник – что муха: была бы щель, там и постель, а где забор, там и двор. Засечник спит, а одним глазом за околицу глядит. С копьем, как с бабой. Крепко держит в руках. Не расстается. А латы копейщику подобают легкие, чтоб не тяжелы были... Засечник – конный человек. Латы с брюхом не гожи ему. Латы штоб не ниже пояса были, и везде плотно к телу. Не так, как в прежние времена, с великими брюхами делали, кои больше беременным женкам, нежели воину, пригодны... Смекайте! Чего губы растрепали?
Будущие засечники и копейщики растрепали губы именно оттого, что с большим вниманием слушали своего учителя. Все, что говорил стрелец, Герасиму было очень ново и чудно.
– На́ручи всякому гожи, но штоб не долги были. От посеку, от камня, и от стрел, и иных невзгод надобно железные шапки иметь. Внимай дале! Навостряй ухи!
Стрелец некоторое время хмуро осматривал ряды своих учеников. В глазах суровость повелителя. Герасим замер: даже дышать ему боязно стало.
– После того, гляди, покажу я вам, как владеть копьем красно и гоже против недругов, – торжественно произнес стрелец. – Гляди!
Он поставил перед собой копье.
– Коли копье так, возьмись за него правою рукою в том месте, которое против ноздрей твоих, чтоб палец твой вверх по копью лег, и правою ногою немного наперед стой, а левою немного назад... Ну, делай!
Ратники вразброд выставили правую ногу вперед, а левую назад; копья у них склонились в разные стороны. Стрелец сердито ударил по затылку отстающих, крича: «Ступи! Ступи!» Герасим тоже получил подзатыльник, несмотря на то, что старался со всем усердием.
– Примечай! Примечай! Проворь! Проворь!
Герасиму всегда казалось, что нет ничего проще, как драться копьем. Дома он хорошо владел рогатиной. Она очень похожа на копье, стало быть, и им тоже легко владеть! Двух медведей заколол он на Ветлуге рогатиной, безо всякого учения, а тут, выходит, не так-то просто...
Много времени понадобилось молодым ратникам, чтобы кое-как научиться копье подымать, ставить да носить.
– Когда копье обоими концами ровно на плече лежит и захочешь его острием кого уложить – ты его подыми с плеча и дерни правую руку с копьем назад!
Обливаясь потом, яростно размахивая копьем, стрелец проделывал упражнения, разя мнимого противника. Затем молча смотрел на своих учеников.
– Смекнули? – отрывисто спросил он.
– Смекнули! – последовал нестройный ответ.
А голос неумолимого учителя звучал с нарастающей силой воодушевления:
– Всякому воинскому человеку надобно в копейном деле гораздо примечать, как пеших бить. Прямо перед собою копье уложи и недругу острие в горло или в очи уставь: Чтоб польза учинилась, бей со всей силой!.. Не зевай! Плохой копейщик хотя высоко в лицо острие и уставит, но недруг легким обычаем копье рукою вверх или в сторону собьет. Смекайте! Смекайте!
– Смекнули, добрый человек! Смекнули!
– Второе: когда ты копье недругу прямо в брюхо уставишь, которая есть лучшая установка, тогда крепко острие повороти, чтоб лучше шло. Смекайте!
– Смекнули, добрый человек! Смекнули!
Стрельцу по душе было, что его зовут «добрым человеком». Это еще более воодушевляло.
– И хоть пушки, порох и огненный бой у нас и есть, – сказал он с усмешкой, – но без копейщика не побьешь недруга! Пригожее копейного дела ничего не найдешь. Великую силу против конных и пеших людей копейщики имеют.
Две недели с утра до вечера обучали Герасима воинскому делу в Москве. Никуда из лагеря не пускали и, наконец, отправили с большим воинским обозом на ливонскую границу.
Когда Герасим, плотно усевшись в седле на своем коне и крепко сжав в правой руке копье, ехал по полям и лесам, он с гордостью чувствовал себя настоящим воином.
Скоро и он станет на рубеже и будет наравне с князьями, дворянами и боярскими детьми сторожить родную землю. Солнечные лучи, как ему казалось, светили ярче, чем всегда, зелень была свежее, птицы полевые и лесные громче обыкновенного перекликались веселыми песнями и щебетали, словно бы в честь него, засечника Герасима. Этот путь к ливонской границе явился для молодого воина радостным праздником, которого никогда не забудешь.
* * *
Однажды утром царь Иван в своей государственной рабочей комнате, окна который выходили к Москве-реке, разбирал вместе с Алексеем Адашевым, осадным головою Щелкаловым, боярскими детьми, дворянами и дьяками Поместного приказа дело о раздаче земель служилым малого чина.
– И буде такожде, – сказал Иван Васильевич, строгим взглядом обведя всех, – незнатный, худородный, коли он в службе способен и государю полезен, хотя бы и худородный дьяк, и уездный писец, и малый стрелецкий начальник, кто бы он ни был, – сравнен станет окладом земли в равной доле с князем и боярином. Порухи от того государю не изойдет, а польза великая явится.
Присутствующий здесь один из любимцев царя, боярин и храбрый воин, прославившийся своими подвигами под Казанью, Алексей Данилович Басманов, почтительно поднявшись с места и поклонившись государю, сказал:
– Великий государь и отец наш, Иван Васильевич! Мудростью воинскою твое царствование, будто солнцем, озарено. Знатность и богатство издревле в чести и холе. Твой глаз государев проницает не только в верхнее оперение древа, но и в корни, сидящие в земле и не видимые иному глазу. И потому я, раб твой и слуга, яко многие подданные твои, чувствую и вижу то великое благо, кое несет нашему народу такое верстание... Кому не ведом тяжкий труд губных старост, денно и нощно страждущих о порядке твоем, государевом, царстве? Кто не знает городовых прикащиков, берегущих благосостояние воинства на рубежах? То ж самое скажу я и о засеченных прикащиках. Кого не восхищает великий труд и искусство толмачей – без них же ни порубежное, ни полевое воинство обходиться не может! И многие подобные малые чины, забытые в иное время, ныне твоею царскою мудростью, как обновленные маслом светильники, к службе возгорятся... Кто, кроме мудрого, украшенного любовью к воинству государя, позаботится у нас о малых сих?
Алексей Басманов, уже немолодой человек, держался свободно, смело и смотрел просто, без заискивания в лицо Ивана Васильевича.
Глядя на него, вдруг осмелели и дворяне. Они жаловались на то, что Боярская дума не замечает заслуг многих дворян, ибо она держится обычаев знатности и родословности, а людей меньшего рода не честит.
В этих речах, хотя и осторожных, слышалось все же недовольство боярскими порядками верстания землею служилых людей. Василий Грязной к тому же закончил свою речь словами: «Ты, государь, как Бог, и делаешь малого великим. Все от тебя, великий государь!»
Иван Васильевич терпеливо выслушал подобострастные слова созванных им на совет служилых людей. Однако сам он о Боярской думе высказался с большим почтением. Он сказал, что Дума создавалась прежними великими князьями из «стародавних честных родов» и многую пользу принесла прежним великим князьям и государям. Боярская дума дала государству немало мудрых правителей и храбрых, доблестных воевод, и ныне царю надлежит всякие дела решать «с государева доклада и со всех бояр приговору».
На советы были определены земельные оклады: дьякам, подьячим, губным старостам, городовым приказчикам, ключникам, осадным головам, засечным приказчикам. Больше всех царь назначил оклад толмачам – от ста пятидесяти до тысячи четей [29].
Тут же царь указал, что такому хорошему толмачу, как переводчик турецкого и «фарсовского» [30]языков Кучук Устакасимов, мало дать и тысячу четей земли. Иван Васильевич очень хвалил этого толмача.
Составлен был длинный список по земельному верстанию. Царь велел дьяку прочитать его во всеуслышание и затем спросил:
– Ладно ли, добрые молодцы, мы с вами обсудили то дело и не учинили ли обиды какой?
Все, стоя и низко кланяясь, благодарили его за доброе внимание к себе.
После их ухода царь задумался, глядя в окно. По Москве-реке тихо плыла рыбачья лодка. Было тепло и солнечно. Несколько раз в окно влетел с жужжанием шмель. Вот он сел на стол. Царь с улыбкой сильным щелчком сбил его со стола. Оглушенный шмель, просидев несколько мгновений на подоконнике, вдруг расправил крылья и стремглав полетел напрямик к Тайнинской башне.
Проводив его глазами, царь сел в кресло и стал вслух читать записанное дьяком на бумаге.
VIII
Из дальних болот через Трубное взгорье течет эта неширокая, с берегами, поросшими репьем и лопухами, река Неглинка. На правом берегу – огороды, слободские строения, бревенчатые церкви, колодцы «журавлем»; на левом – Пушечный двор, Кузнецкая и Оружейная слободы.
Андрейка приблизился к Неглинке, чтоб попасть в Пушечный двор. Сюда послал его из Разряда дьяк Иван Юрьев.
Недолго стоял в раздумье на правом берегу Андрейка. Вскоре он увидел мелкую ладью с рогожей, готовую отойти к другому берегу. Гребец охотно захватил с собой парня.
Берег низкий, отлогий, огорожен крепким частоколом, за ним видны главы храма Софии Премудрости.
Андрейку окликнул угрюмый воро́тник [31]с копьем:
– Эй, вихрастый! Ходи сюды! Чей?
– То ж, что и ты, – государев.
– Перекрести харю!
Андрейка усердно помолился на храм.
– Кайся! Чего ради в слободу залез? Не ровен час и железа́ на мостолыжки: кузнецы рядом. – Ехидная улыбка мелькнула на заросшем, косматом лице воро́тника.
– Не спесивься, Афоня, не на того напал ноне! – огрызнулся, выпрямившись, Андрейка. – Сам батюшка-царь послал меня. Литцом да пушкарем буду. Во́, гляди!








