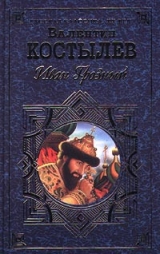
Текст книги "Иван Грозный. Книга 1. Москва в походе"
Автор книги: Валентин Костылев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 59 страниц)
Пили старательно. Керстен Роде чувствовал себя героем дня. Он распахнул окно. Сказал товарищам:
– Друзья, распускаются почки... Весна!
Все притихли, приготовились слушать обычно молчаливого атамана.
– Мы встречаем весну в удивительной стране. Вчера московский царь рассказал мне: «Один мужик уронил топор в воду, но там, на дне, оказались еще два топора – золотой и серебряный. Мужик не польстился на них – взял себе только свой железный топор. Он получил в награду три топора». Государь чествует нас по Евангелию: «Над малым ты был честен, над многим тебя поставлю!» У нас будет большой флот: царь уже посылает семнадцать кораблей. Весна улыбается корсарам, как юным девушкам. Выпьем за то, чтобы нам сохранить непорочность и впредь. Трудно это! Вижу по вашим лицам, что тяжело вам приносить такие жертвы... Знаю, что из этих трех топоров каждый из нас взял бы самый дорогой, золотой.
– Нет! – раздался голос одного пирата. – Я взял бы все три... Зачем другие оставлять в воде?!
– Истинно, друг. Так выпьем же за наше единомыслие!
Все корсары мигом вскочили со своих мест и дружно опустошили свои чарки, а Гусев сумел в это время опорожнить даже две, чем несказанно рассмешил своих приятелей датчан.
– Все побеждает любовь, выпьем за прекрасных русских девушек! – воскликнул в диком экстазе Клаус Тоде. Голубые глаза его горели восторгом.
Гусев удивленно покосился на него: «Чего ради ему наши девушки?! Не нуждаются они в заморских разбойниках». Однако поспешно налил себе опять две чарки.
Затем все вышли в сад. Красновато-ветвистая чаща слегка зеленеющих дерев и кустарников, озаренная теплым весенним солнцем, поразила хмельную толпу датчан. Около самого дома в кустарниках расположилась стайка свиристелей, нежно-розовато-серых хохлатых птичек. Хмельные, горластые мореходы притихли, с добродушными улыбками и пьяным любопытством принялись разглядывать птичек; особенно растрогали их крылышки одной птички: ярко-желтая краска с черными и белыми полосками.
– Видите, на суше тоже хорошо, коль вы так залюбовались моим садом и моими пичужками! – с гордостью произнес Гусев.
Керстен Роде рассмеялся, дружески хлопнул Гусева по плечу.
– Поплывем с нами в Данию. У моего отца есть и сад, и тоже птички... Ах, как они поют!.. И вино есть бургонское... – Немного подумав, он добавил: – Но мне нельзя ехать туда. Кроме птичек, там есть и палачи. Они вздыхают обо мне больше, чем мои родители.
Клаус Тоде где-то поодаль, на берегу Яузы, в кустарниках, заметил женщину.
– А ну-ка, пойдемте, полюбуемся на московскую красавицу. Она, вероятно, там рыбу ловит... Это – рыбачка. Посмотрите, как она стройна, какая грудь! Боже, дух захватывает!
Все пришли в восторг от предложения румяного гуляки. Осторожно, стараясь не выдать себя, стали прокрадываться, куда указал Тоде. Но, увы, к общему разочарованию, они, кроме женщины, увидели еще и мужчину. Однако могло ли это остановить хмельных мореходов?
– Кто этот счастливчик? – мечтательно закатив глаза к небу, воскликнул Тоде, всплеснул руками., и вдруг... о боги! Заслышав шум и голоса людей, мужчина сердито оглянулся. Керстен Роде расхохотался на всю рощу:
– Пушкарь Чохов. Смотрите. Это он!
Гусев рассмеялся. Пояснил, равнодушно прожевывая сушеную рыбу:
– Это их любимое местечко. Еще в прежние годы они сюда хаживали. Баба та – его любовь. Мордовка. Красавица! Нагляделся я на них тут... Грехи тяжки. Только я не завистлив. Спокоен. А ну-ка, пойдем в избу, изопьем государеву чашу...
– А я завистлив, гер Гус-сев! Посмотрим! – подхватил дьяка под руку Клаус Тоде. – И не спокоен... Да ведь это же настоящая Венера! Как вы можете...
Охима, увидев быстро приближающихся к ним мужчин, бросилась бежать. Андрей поднялся с земли, недовольно посмотрел на толпу датчан.
Гусев сказал:
– Хвалят тебя дацкие люди. Хороший пушкарь, говорят.
– Государь-батюшка принял меня в царских покоях... Одарил конем и сбруей. В Александрову слободу поеду.
– Э-эх, парень! А как же свою зазнобу оставишь?
– Печатную палату перевозят туда же... Хочу жениться на Охиме.
– Бог не забывает вас... Плодитесь и размножайтесь!
– Государь в Слободе будет жить... В опричнину взял и меня, пушкарем. Лучший народ отобрал в опричнину государь.
Подошел Керстен Роде. Сказал по-своему Илье Гусеву:
– Зови его в избу. Полюбили мы его. Поднесем ему чарку.
– Слышишь, пушкарь, полюбили тебя дацкие люди. Зовут в избу, испить государеву чашу.
– Зовите и его подругу! – вступил в разговор Клаус Тоде. – Нам будет веселее!
– Нет, ей не подобает с мужчинами, – хмуро сказал Андрей.
В это время к Дацкой избе подошла, закутавшись в большую пеструю шаль, полная женщина. Она спряталась за углом, как бы испугавшись чего-то. Это была Катерина Шиллинг. Она не первый день ходит по пятам за Керстеном Роде, но поговорить ей так и не удается. Обида, причиненная Керстеном, была слишком велика, но разве ради возмездия она хочет поговорить о перстне? Не в этом дело! Она бы подарила ему еще и другой перстень, если бы он опять... О Боже, долой воспоминанья! Разговор этот нужен, чтобы испытать: питает ли он какие-либо к ней чувства или совсем забыл ее? Перстень она возьмет, но тотчас же заплачет и снова вернет ему. Возможно, это благоприятно подействует на датчанина.
«Боже, Боже, надоумь его выйти в сад. Сжалься надо мною!»
Вдруг позади кто-то окликнул ее.
Оглянулась – Штаден! Вот черт его принес не вовремя.
– Вы так озябли, фрау Катерин?
– При вашем появлении я и совсем замерзну. Зачем вы пришли? Кто вас сюда звал?
– Я не решился из скромности задать вам этот же вопрос. Я просто гуляю, любуясь московскою весной.
– Вы, кажется, любуетесь на все московское. Не слишком ли выдаете вы себя, герр?
– О, не беспокойтесь! Меня московский дюк в отборную дружину за верность взял. Я отныне опьришнык. Смешное слово.
– Повторите по-русски.
– Опьришнык!
Штаден громко расхохотался и, как показалось фрау Шиллинг, нарочито, преднамеренно громко.
И в самом деле вскоре, услыхав его хохот, к ним вышли дьяк Гусев и Керстен Роде. Они удивленно осмотрели Штадена и Шиллинг.
Генрих Штаден хотел вызвать ревность у Керстена Роде, зная о том, что было между атаманом и фрау Катерин, и вдруг увидел добродушную, спокойную усмешку на лице корсара.
Шиллинг, возмущенная равнодушием датчанина, быстро подошла к нему и строго сказала по-немецки:
– Покажите вашу левую руку.
Он, смеясь, протянул ей свою руку.
Она с ужасом отшатнулась, схватившись за голову:
– Где же тот перстень?
– В Лондоне.
– Зачем он там?
– Он украшает теперь не такую грубую руку, как моя. Моя рука недостойна такого украшения. О, этот пальчик! – блаженно закатив глаза к небу, воскликнул Керстен. – Наконец-то ваш перстень нашел свое настоящее место.
Лицо фрау Шиллинг позеленело.
– Разбойник! – взвизгнула она. – Что ты сделал? Я спасла тебе жизнь...
Керстен расхохотался. Гусев невольно зажал уши. Большие сильные зубы Керстена напоминали что-то звериное.
Штаден схватил фрау Шиллинг и зажал ей рот:
– Вы –немка! Не унижайтесь. Я не позволю смеяться над вами... Уйдем!.. Скорее уйдем отсюда. Несчастная!
Керстен Роде с презрением плюнул в их сторону и вернулся обратно в избу. За ним, пошатываясь, последовал и Гусев.
– Немка с ума сошла! Что она болтает? Жизнь! Она мне жизнь спасла. Дура!
Генрих Штаден с силою увлек подальше от Дацкой избы барахтавшуюся в его объятиях Катерину.
– Вы обезумели, фрау? – трусливо шептал он. – Мы убьем вас. Вы не умеете держать тайну! Вы предаете нашего императора. Вы преступница! Я подошлю к вам тех, кто покарает вас. Трепещите!
Окунь и Беспрозванный сидели на берегу Яузы, в тенистом месте, оба хмельные, оба веселые и разговорчивые. Сидели в обнимку.
– Кирилка, никакое море нам нипочем!.. Нагляделся я на заморских мореходов. Шлепают они в спокойных, ровных водах... кричат много, без толку...
– Правдивое слово молвил, Ерофей... Волну горлом не возьмешь... Ледяные горы на них бы напустить... Поглядел бы я...
– Хотел сказать я тому Керстену: «Указчик Ерема, указывай дома. Обидно мне под твоей рукой быть». Ужли государь не нашел своих людей? Да кликни он клич на Поморье – што народу набежит, корабленников своих, поморских... Не всуе Осподь Бог оставил на нашу долю Студеное море. А тут выходит: не наше дело сделать, а наше пересудачить. Обидно, брат. А в Дацкую избу нас и не позвали, будто мы не стоим, будто мы последние люди...
– Ладно, Кирилка, грешно на батюшку осударя роптать... Как он укажет, пускай так и будет. Дай Бог ему когти, только бы не нас драть. Мы еще ему пригодимся.
– Бояр да князей, скажу положа руку на сердце, Ерофей, ей-Богу, мне нисколь не жалко. Вон у нас был из Москвы боярин, в Холмогорах. Коли ему говорят «дай», так он ни за што не услышит, а коли «на», так услышит сразу. Собрал он себе казну не малую, а дело государево так и не справил. Одной армяжины [110]воза увез... Сам я видел. Не жалею я оный род лукавый, лицемерный... Пускай царь истребляет их... Бог ему в помощь!
– Благо, благо, друг. На Руси должен быть большак! Бояре царство кренят набок, того и гляди захлестнут его... Кругом буря, пучина играет, тянет слабых на дно... Польский король в чужой прудок закидывает неводок, но у русских Бог силен, не даст в обиду...
Ерофей перекрестился: «Накажи, Осподи, всех владык заморских, а нашего подвигни на доблесть ратную».
С блаженной улыбкой стали вспоминать Беспрозванный и Окунь о своем любимом Северном море.
«Э-эх, как завяжется попутный ветерок, да как наберут гребцы весла на карбас, да наладят косые паруса, вместо прямых, тяжелых, несподручных парусов, зарочат-закрепят шкот и дадут по воле и прихоти ветра бежать карбаску по широкому, неоглядному морю, так все на свете забудешь, легко, прохладно станет – будто не по воде плывешь, а летишь по воздуху, на ковре-самолете... Весело смотрится тогда и на море, по которому гуляют белые пенистые волны: пускай брызжут за борт, пускай сильным броском обольют грудь и заслепят глаза – не страшно. Все свое! Свое море, свое небо, свои труды! Не страшится мореходец-помор плыть в ветреную темень, когда небо сплошь покрыто бегущими облаками – „свинками-ветрянами“, как зовет их народ. Не пугает черная даль небосклона, авось опять рассветет и ветры охлябнут... Накренившись набок, мчится карбас, разрезая волны в бешеной скачке над пучиной... А как приятно проплывать мимо крохотных гранитных островков... Увидишь на них и медведя, сосущего лакомую ягоду, и целые стаи крикливых, докучливых чаек, робких уток, ныряющих в воду и долго не высовывающихся при приближении карбаса...»
– Ах, Кирилка, как хорошо у нас!
– Ах, Ерофейка, истинную правду изрекаешь! Наше счастье с тобой, што государь междоусобь истребил, а то и не вернуться бы нам из московских земель к себе на Север...
– Верно и то, Кирилка. Вона мужики што говорят: «Туго нам с новыми хозяевами, с помещиками, да только головы мы ныне не режем друг дружке, как то было при князьях... Бары ссорились, а с холопов головы летели». Старики такие страсти Господни рассказывают о междоусобице удельной: уж на што я не труслив, и то уши зажимаю... Ни одной ночи спокойно не спали, говорят старцы... все пашни со злобы конским копытом вытаптывали князюшки друг у друга... Впустую ратаи [111]робили... А ныне того уже не будет. Ныне всякому зерну своя борозда. Засевай пашню спокойно. Другой князек напасть на суседа рад бы душой, да хлеб ишь ныне на земле государевой... на земле царства русского... Защита есть! Благо. Благо, Кирилка. А все же я добьюсь, штоб наших на корабли посажали атаманами... Добьюсь! Мы тоже сумеем с разбойниками драться!
– Дай облобызаю тебя, друже... Ну, ну, оботри усищи.
Беспрозванный обнял Окуня и поцеловал:
– У ты, лешак, уж как я полюбил тебя...
– Полно! Чай, я не баба! Давай-ка лучше споем песню. Продуй горло да затягивай. Экий ты, дрыгало! Сиди смирно. Ну же, запевай... В монастыре пел, а тут не можешь.
Беспрозванный обтер рукавом усы, бороду, откашлялся и низким голосом затянул:
У сыра дуба скрипучева
Нет ни корня, ни отросточка,
Мне ль, бродяге, сиротинушке,
Не искать себе друга доброго...
В море вольном, на просторушке,
Нам ходить бы с ним, песни петь вдвоем...
И только Ерофей стал подтягивать тоненьким голоском Беспрозванному, как раздался сильный конский топот. Оглянулись и сквозь деревья увидели скачущих прямо к берегу всадников.
– Гляди-ка, Окунь, все черные, будто демоны, – в страхе прошептал Кирилл.
– Вижу, – пролепетал Ерофей. – Как огнем меня охватило.
Впереди всадников на громадном коне скакал человек в черном шлеме и в каком-то черном одеянии – не то кафтан, не то ряса. Присмотревшись, холмогорцы узнали царя Ивана Васильевича. Тут только заметили они, что у всадников, провожавших царя, на каждом седле висели собачья оскаленная голова и метла.
Царь остановил коня около холмогорских мореходов. Оба они вскочили и, став на колени, стукнулись лбом о землю. Лежа таким образом, они услыхали над собой насмешливый голос царя:
– Видать, бродяги! От приставов укрылись, а от царя не упрячешься... Эй... Эй вы, голуби, вставайте да ответ держите: чьи вы и отколь пожаловали, да и куда путь держите?
Окунь и Беспрозванный поднялись на ноги.
– Мореходы мы с Поморья, великий осударь наш, батюшка... С Керстеном-атаманом ходили мы в аглицкую землю.
– Глядите, какие забавники! – рассмеялся царь, указывая на холмогорцев. – Слыхал о вас... Похвальные речи сказывал тот Керстен... Что же вы молвите о Керстене-атамане?
Окунь и Беспрозванный замялись, переглянулись.
– Ну, не тяните... Сказывайте! Смелее. Иной раз холопья робость и не похвальна... Не лезь впереди старшего, но и не молчи, коль то на пользу государю.
Заговорил Беспрозванный, взлохматив пятерней свою бороду. Расхрабрился.
– Великий осударь! – громко и смело воскликнул он. – Господь Бог не забыл наш народ. Да мы сами себя забываем.
Ерофей Окунь чуть-чуть не крикнул: «Не надо нам Керстена!» Он с трудом подавлял свое волнение. Беспрозванный сердито покосился на него.
– И наша копеечка не щербата, батюшка Иван Васильевич, – продолжал Беспрозванный. – Обошлись бы мы и своею силою, без иноземца... Немало наших мореходцев бороздят великое Ледовитое море и обходят землю округ всего северного края земли – и Лапландию, и Свейскую землю, и Норвегию... Да на плохих, неоснащенных суденышках... Без страха, с молитвою побеждают поморцы в окияне бури, и льды... и ветры, и зверя морского...
Иван Васильевич снял шлем, провел в задумчивости рукою по голове. Он с глубоким волнением слушал Беспрозванного и, видимо, остался доволен слышанным.
– Добро! – весело кивнул он. – Бог спасет моих поморских людей... Студеные воды дороги нам. Берегчи их надобно... И мореходцы на том море пригожие надобны. Чего ради ездил я, ваш государь, в Вологду и велел сложить в том граде великий кремник из белого камня? Того ради, чтоб караваны со Студеного моря пристанище здесь находили и шли бы на благо государево в Поволжье и Москву. Да и Ярославль и Устюг – и те грады – поставил я на «судовом ходу» от Студеного моря и до сих мест... И торговым людям ведомо то, что в Вологде сараи построены великие и суда морские там же нами строены... И не токмо нашим торговым людям то ведомо, и иноземным мореходам... На Западном море великие утеснения терпят наши корабли от морских разбойников... На разбойников надобно мне и посылать разбойников... Керстен Роде такой и есть... Он знает повадки морских воров, ибо и сам он – вор. А мои люди с Поморья христианскою торговлею промышляют с христианскими же купцами, без кроволития... и да благословит их Господь в будущих и предбудущих временах на такое же мирное дело. Не ропщите, холмогорцы, ваше дело от вас не уйдет... Наступит день: корсара отпустим, а вас посадим вожаками... Не гонюсь я за чужеземцами!.. На своих людей моя надежа!
Иван Васильевич спросил холмогорцев: помолились они Богу по возвращении из плавания или нет?
– Помолились, батюшка осударь, в Успеньевом соборе помолились.
Тогда он кивнул одному из провожавших его всадников:
– Отведи их на государев двор, чтоб напоили и накормили их знатно... Надобно и Малюте порасспросить их.
В сводчатых углублениях северной стены митрополичьей кельи, сложив на груди руки, застыли гробовые старцы [112], тощие, дряхлые, безмолвные – веяло холодом смерти от них. В сумраке мутно желтело шитое гладью украшение их черных ряс: черепа на двух сложенных крестом костях. Среди кельи – обитый парчою аналой с Евангелием. Свет лампады в душном от ладана воздухе излучался зелеными стрелками.
Феоктиста, дрожа от страха, стояла у входа в келью, не смея шевельнуться. Ее втолкнул кто-то сюда, прошипев в темноте коридора: «Блудница!» Этого человека она не видела.
Гробовые старцы медленно повернули головы в ее сторону, приглядывались острыми впалыми глазами. Феоктиста невольно попятилась назад, но кто-то держал дверь, не пускал.
За дверью послышались шаги, протяжное пенье. Дверь распахнулась, и в сопровождении монахов в келью, опираясь на посох, мелкими шажками вошел согбенный митрополит Афанасий.
Феоктиста земно поклонилась первосвятителю.
Митрополит благословил ее. Лицо его было строгое, озабоченное. Прошептав над ней молитву, Афанасий мановением руки удалил сопровождавших его чернецов.
Гробовые старцы оставались в углах, сухие, неподвижные, словно выжатые из воска подобия людей...
Митрополит, кряхтя и отдуваясь, опустился в кресло, печальными глазами осмотрел Феоктисту.
– Слушай, юница! Государь наш батюшка, Иван Васильевич, указал мне, смиренному старцу, наставить тебя, яко заблудшую овцу, на путь благостный, праведный, отвратить тебя от всеконечного греха. Ум женский не тверд, аки храм непокровен. Мудрость женская, аки оплот не окопан; до ветру стоит – ветер повеет, и оплот рушится, тако и мудрость женская – до прелестного глаголания и до сладкого увещания тверда есть... немощна плоть женская, неустойчива бо... Покайся же, горькая, кем прельстилась еси, ради кого внесла в дом свой ту поруху?
– Не прельстилась я, батюшка государь, и не от меня та поруха супружескому счастью. Повелитель мой, батюшка Василь Григорьич, знать, сам того так похотел... Великая стужа, тяжкая неправда вползла в нашу жизнь. На смех и позорище соромит Василь Григорьич жену. Бог ему судья!
– Но ведомо ли тебе, жено, что судить тебя станут, коли не вернешься ты вспять, в мужнин дом; строгим уставным церковным судом судить и будто вдовицу либо непотребную женку пошлют тебя на покаяние в монастырь? И будешь ты в опале государевой всеконечно.
Феоктиста не могла ничего ответить митрополиту. Ее душили слезы. Разве кто-нибудь поймет ее? С древних пор в обычае женским словам и слезам не верить. Только муж умен, а жена «слаба, малодушна, шатка». Она всегда во всем виновата. Буде нет никакой вины за нею, и тогда муж все одно волен наказывать ее. Женщину боятся; ей не верят, недаром болтают: «Женская мудрость – звериная лютость», «Красоты женской ради многие погибоша».
Афанасий тихим, усталым голосом говорил:
– Жена добрая – венец мужу своему! Жена добрая любит справу [113]и воздержание от всякой нечисти. Жена добрая – состав дому и имению спасение. Жена добрая печется о муже своем. Жена добрая трудолюбива, молчалива, покорлива... Жена добрая подобно кораблю плавающему: куплю в нем делают и великое богатство набирают, а у купца сердце веселится, тако и жена добрая и разумная и послушная мужу своему в дом много добра собирает: встает рано и утверждает локти свои на дело...
Сколько уже раз и в девичестве, и в замужестве приходилось ей слышать эти речи! И теперь Феоктиста с трудом сдерживалась, чтобы молча слушать нудные поучения митрополита.
– Помни, Феоктиста, – с укоризной, покачивая головою, продолжал Афанасий, – мужа надобно бояться и во всем ему честь воздавать и повиноваться... О жена-христианка! Помни о промысле Божием – он же управляет целым миром. Мужа надо почитать как бы небесного посланника... В твоих очах вижу непокорливость и холод... Негоже. Вернись в дом свой. Образумься!
Слышно было, как скорбно вздыхает митрополит, как едва уловимо для слуха вздыхают гробовые старцы.
– Нет! Не вернусь. Уволь, владыка государь! – тихо, но твердо ответила Феоктиста. И, упав на колени, с рыданием проговорила: – Легче мне в гроб лечь живой, нежели вернуться к мучителю моему ненасытному!
Афанасий с сердцем постучал посохом о каменный пол.
– Бог покарает тебя. Умерь гордыню. Несчастная!
– Нет! Нет! Нет! – упорно повторяла Феоктиста.
– Ожидай после того кары Божьей и государевой... Удались и жди своего часа.
Низко поклонилась Феоктиста и быстро вышла из кельи.
– Согрешил, прогневал я государя, куда же мне теперь идти со своею повинною головушкой, где смогу я искупить свою вину? Или сгинуть мне, как сгинула она без следа, моя голубка? Да и что мне жизнь, коли нет ее, коль пропала без вести она, моя ненаглядная?
Борис хмуро смотрел на Никиту Годунова, который стоял перед ним растерянный, с блуждающим взором, растрепанный, непричесанный...
– Стыдись, друг Никита! – сказал Борис тихим укоризненным голосом. – Тебе ль ныть? Пристойно ли о чужой жене сокрушаться? Позоришь ты не токмо себя, но и всех Годуновых. Государь неровен в своем сердце, и горе будет всем нам, коли он отвернется от нас. Забудь о ней. Пускай Господь укажет ей путь ко спасению... А ты будь в стороне. Время грозное. Ранее удельные князья вели борьбу с московскими великими князьями на полях сражений, отбиваясь от Москвы... Ныне, побежденные прежде бывшими великими князьями, став боярами, войну втащили в стены дворца... Сия война страшнее прежних. Ты на чьей стороне?
– На царевой...
– Так к лицу ли Годуновым убивать время на блудную заботу о чужих женах? Дорог каждый час.
Никита, как бы не слыша слов Бориса, повторял, схватившись за голову:
– Нет ее! Не приходила она домой... Отец искал и не нашел ее... Вторые сутки ее нет... Господи, что же это? Куда она делась?
– А коли нет – и не надо! – рассердившись, ударил кулаком по столу Борис.
– Но ведь и ты, Борис... Разве не грешен и ты в любви к Марии Григорьевне?
– Она девица, а не чужая жена, да и не потерял я головы ради нее, подобно дядюшке... И не потеряю. Коли не будет к тому воли государевой, отойду и от Марии... Воля государева превыше всего. Хныкать не должны Годуновы. Старые деревья сильны и высоки. Но громы и молнии разят не поросль, а громадные дубы... Годуновы должны устоять. Э-эх, Никита, смешно мне смотреть на тебя, будто ты малый ребенок, а не дядя мой! Иди в мою опочивальню, отдохни... В жизни, опричь девок, много великолепия... Развеселись! Вон наши корабли в Нарву вернулись. Праздник в Москве... Аглицкая королева – союзница наша... Радуйся!
– Пущай лучше уж Васька Грязной, проклятый, возьмет ее, нежели... Не могу жить без того, чтобы не видеть ее... Скорее...
Никита, не договорив, выбежал вон из горницы.
Борис метнулся было за ним, но опоздал. Никита скрылся из виду. Борис с сердцем, шумно, прикрыл дверь.
XI
В полдороге между Троице-Сергиевой обителью и Переяславлем, на ста верстах от Москвы, раскинулась Новая, или Александрова, слобода, полюбившаяся царю Ивану Васильевичу.
Красивое гористое место на крутом берегу реки Серой. Течение ее тут делает прихотливый, извилистый поворот, по-древнему – «переверт». Лесисто было это местечко, цветисто, обильно красным зверем и охотною птицею: соколами, кречетами, которыми так любил потешаться царь. Единственными обитателями тех лесных мест испокон века слыли звероловы-охотники, медведи да рыси, лоси и олени.
На самом возвышенном месте, прозванном Александровой горой, с годами вырос обширный великокняжеский, сказочной красоты двор, с чудесными, словно из пряников сложенными, теремами.
Предание гласит, будто Александр Невский, навещая отца в Переяславле, в одну из своих поездок раскинул здесь свой стан. Не отсюда ли и повелось название – Александрово?
Так ли было, нет ли, но предание это бережно передавалось из поколения в поколение.
Прежде жившие московские великие князья тоже любили бывать в слободе. Они отдыхали здесь душою и телом от военных и государственных трудов и забот. Вот почему и великокняжеская усадьба выглядела такою уютною и благоустроенной, обвитая плющом и диким виноградом. Окруженная белою каменной стеной, горделиво красовалась она великокняжескими хоромами и службами.
Дворец состоял из многих строений, носивших название «изб»: «середняя» изба, «брусяная», «постельная», «столовая»; над ними высились гридни, повалуши и башенки-терема, украшенные золотистыми, зелеными, красными шатрами наподобие кокошников. Избы соединялись глухими переходами, многоцветно застекленными, и сквозными коридорами на дощатом помосте с серебристыми перилами.
В этих строениях и пристройках было много затейливой игривости, веселого задора. Всюду красочная живопись, петушиная резьба, цветистое кружево искусно вырезанных из дерева оконных и дверных украшений. Среди яркой зелени, да еще в солнечные дни, самый дворец выглядел каким-то сказочным, воздушным замком...
Самый главный, нарядный переход вел к храму Покрова Богородицы. Он был покрыт богатыми коврами; этим переходом обычно шел царь на богомолье.
Службы вокруг царского жилья носили названье «дворов»; в житном дворе хранились хлебные запасы на случай приезда царской семьи; конюший вмещал множество конского поголовья степного пригона – ногайских, татарских, горских коней и аргамаков, приобретенных в восточных странах; коровий двор был набит рогатым скотом; быки стояли в особых хлевах, носивших название «воловни».
Были дворы и для диких зверей; там в клетках царь Иван Васильевич держал вывезенных по его приказу из Москвы любимых им львов. Тут же, на этом дворе, содержались медведи, волки, лисы, олени... Царь любил свой зверинец, любил он и птичник, где сидели в клетках орлы всяких пород, певчие птицы свои и заморские. Иван Васильевич нередко сам ходил кормить зверей и птиц. Он строго следил за тем, чтобы зверинец его содержался в порядке.
Против царского дворца по крутобережью реки Серой расстилался широкий, густолиственный сад. Столетние дубы, березы и осины мешались с соснами, елями, с могучими кедрами. Любили древние князья украшать свои жилища садами!
В зелени и цветах утопала Александрова слобода. Весело и привольно жилось здесь, потому-то и выбрал царь Иван Васильевич для себя и своей семьи это местечко. Сюда же была переведена и часть опричной дружины, некоторые дьяки Иноземного приказа, Печатная палата и многие другие, необходимые царю службы.
Вместе с Печатной палатой перебралась в слободу и Охима. «Мордовский Бог», как она верила, не забывал ее. Андрея тоже вместе с пушками пригнали сюда же – а что же можно придумать лучше? Одно грустно: Иван Федоров и Мстиславец, боясь смерти от недругов царя, преследовавших их на каждом шагу, и почувствовав себя лишними, неоцененными, отъехали в Литву, к князю Острожскому. Государь сильно горевал о них, но что же делать? Тайные враги царя держали в страхе не только друкарей, но и ближних к царю людей. Сам царь неспроста удалился из Москвы. Кругом страх!
В Печатной палате наибольшими были теперь ученики Ивана Федорова – Невежа Тимофеев и Никифор Тарасиев. Они устраивали типографию в новом помещении. Сам Иван Васильевич навещал их и приказывал поторапливаться.
Охима с Андреем беседовали обо всем этом в погожий осенний день, расположившись среди золотистой листвы прибрежных кустарников, около места, где царь держал бобровые гоны. Место глухое, тенистое, уютное – для любовных бесед куда как удобное. Воздух здесь был наполнен благоуханием отцветающих водяных лилий.
Андрей с сияющим лицом поведал Охиме, что государь пожаловал его, Андрея, землею и находится она, та земля, недалеко от Ярославля, в вотчине, принадлежавшей ранее князю Курбскому. Около него получили землю и дворянин Кусков, и стрелецкий сотник Истома Крупнин, которого царь обласкал, вписав в опричнину. И дочь его Феоктисту простил царь. Оставил при отце; митрополит благословил Никиту Годунова на брак с нею. Вот как все обернулось!
– Чудеса не колеса – сами катятся. Кто б то мог думать, попаду я в помещики! Не во сне ли то, моя горлица? Наяву ли? Хожу я теперь, будто медом опился... Я ли это? Ущипни меня! Ну, ну, еще, еще... Будя! Обрадовалась. Я самый, я – пушкарь Андрейка... Ну, чего ты панихидой смотришь?
– Эка невидаль! – небрежно махнула рукой Охима. – Не диковина, что кукушка в чужое гнездо залезла, а вот то б диковина, кабы она свое свила. Не радуйся, дурачок, царскому подарку. Блажит он. Надолго ли то?
– Ладно, не каркай! Богу, Охима, не угодим, так хоть людей удивим... Государева воля. Видать, так уж Господь Бог его надоумил. У всех ныне в слободе радость великая... Всю тысячу испоместили! Послужим мы батюшке государю прямиком, без хитрости.
Сквозь кустарники стало видно, как по дороге к дворцу верхами на конях пробирались дьяк Гусев и Керстен Роде.
– Вон, гляди, атаман идет... Опять, слышь, скоро поплывет за море... Семнадцать кораблей снарядили наших. Э-эх-ма! – тяжело вздохнул Андрей. – Мне уж теперь не плыть, не пускают. На войну хотят услать. Наши мореходы поведут корабли те. Керстен будет в товарищах у них.
– Иль опять задумал уплыть от меня?! Беспокойная головушка! Не пущу я тебя никуда.
– Глупая! Пушки я видел в чужих странах. Совесть моя успокоилась – не хуже мы льем и куем наряд... А может, и лучше. Завистлив я! Думал перенять кое-што, да нет... В ином у них, а в ином и у нас лучше... Корабельная снасть наша тоже лучше заморских. Верь мне. Завистливое око видит далеко. Уж так, знать, меня Господь Бог зародил. Э-эх, девка, жить мы начинаем... У них воины шляются по чужим царствам, нанимаются, а наш нешто пойдет? По милости батюшки государя я уж не Андрейко-пушкарь, беглый мужик колычевский, я – хозяин, помещик я! Не буду после того бояться плети и палки!.. Да и людей своих жалеть буду! Сердце-то у меня у самого мужичье. Не гожусь я в хозяева. Был воином-пушкарем, таким в опричниках и останусь!
– Все одно ты мой... Чего дрожишь? Чего зарумянился?
– Уж больно чудно, – задумчиво произнес Андрей. – Но об этом молчи... Я до смерти мужик, а пришлось клятву дать не знаться с земщиной... А ты кто? Не земщина ли?
Глаза Охимы еще более почернели, гневом расширились.
– От меня не отречешься! – грозно сказала она. – Убью! Ты у меня не мели, чего не след. Знай меру!
– Неужто поверила? От тебя я не отрекаюсь. Ты – не земщина, ты – наша, опричная, в государеву усадьбу пущена. А коли так, ты и не земщина. От бояр и дворян, што в земщине, я отрекаюсь, и говорить с ними не хочу, и глядеть на них не стану – там измена... А с тобой... Нам ли с тобой считаться?








