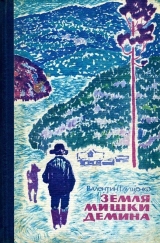
Текст книги "Земля Мишки Дёмина. Крайняя точка (Повести)"
Автор книги: Валентин Глущенко
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Пантелей Евгенович
Загри остановился возле небольшого дома с резными наличниками, крашенными в зеленый цвет. И тут же открылась калитка. За ворота шагнул высокий худой старик в черных кожаных броднях, зеленых стеганых штанах, таком же ватнике, подпоясанном веревкой, в меховой шапке.
– Силен у тебя вырос кобель, паря! Я видел, как он наших пораскидывал. Что толковать? Семя доброе…
Говорил старик шепелявя, превращая «с» в «щ». Так говорили все коренные жители этих мест.
Вблизи морщинистое лицо старика, задубелое от ветра и мороза, с глубоким шрамом через всю левую щеку, казалось угрюмым и страшным. Встретишься с таким в тайге – побоишься один на один остаться – на ночь у костра. Но Мишку давно перестали смущать мрачное спокойствие лица и пристальный взгляд Пантелея Евгеновича.
Багровый неровный рубец на щеке Пантелея Евгеновича остался после схватки с медведицей. Под одеждой, на теле, таких отметин было у него немало. Остались следы от штыков – память о германской и гражданской войнах. За свои восемьдесят лет Пантелей Евгенович попадал в сложные переплеты, не раз заглядывал в глаза смерти.
Черный Загри подбежал к серой суке, которая вышла из ворот вслед за хозяином. Глаза у пса стали озорными, крендель хвоста дружелюбно закачался. Важный, степенный Загри, гроза собак в поселке Апрельском и в соседних деревнях, вдруг подпрыгнул, гавкнул, завертелся как маленький.
– Ишь ты, поиграть захотелось. А то как же?
– К мамке явился, – усмехнулся старик. – Что ж, пойдем, Михаил, в избу. К обеду как раз изгодал.
Изба Пантелея Евгеновича была знакома Мишке до мелочей. Состояла она из большой комнаты и кухни. Полы в комнате были устланы домоткаными половиками. Штукатуренные, чисто выбеленные стены увешаны фотографиями в черных деревянных рамках и рамочках. У порога потрескивала железная печурка У стены справа – широкая деревянная кровать хозяев, слева – железная койка для гостей. К Пантелею Евгеновичу часто наведывались знакомые с лесопункта, родичи из ближних и дальних деревень.
Стол под желтой клеенкой, несколько самодельных стульев и лавок – вот и вся обстановка.
Жена Пантелея Евгеновича – присадистая, полная, разговорчивая и живая – встретила Мишку приветливо:
– Быть тебе счастливым, Минюшка! Ровно в воду глядел – прямо к своим любимым калачикам.
Бабушка Катя и Мишка были давние друзья.
Лицо у бабушки Кати разрумянилось. Это оттого, что она возилась возле русской печи.
– Милости прошу к столу! Разболокайтесь. Мойте руки. Сейчас чистое полотенчико дам.
Любил Мишка налимью уху, приправленную сметаной, любил пшеничные калачи бабушки Кати.
Бабушка Катя поставила на стол большую деревянную миску с дымящейся ухой, большое деревянное блюдо, наполненное доверху калачами.
Пантелей Евгенович разделся, вымыл руки, но за ложку взялся лишь после того, как занял свое место за столом Мишка. После смерти отца Мишку принимали в этом доме на правах взрослого, обходились и разговаривали с ним, как со взрослым.
– Видать, тепло будет, – сказал Пантелей Евгенович, поднося ко рту деревянную ложку. – Январь холодный отстоял. В конце февраля помягчало, теперича развезет немного. В марте сызнова холодом возьмется. Сроду так было, паря. В наших краях присловье есть: «Февраль воды подпустит, март подберет». Спину у меня, однако, пушше ломить стало.
Старик неторопливо хлебал уху, изредка поглядывая на гостя. Его лицо, изуродованное неровным шрамом, сохраняло невозмутимое спокойствие. А голос звучал задушевно. Слова хозяин немного растягивал, произносил нараспев.
– Живете-то как, Михаил? Подсобляешь матери? Ну-ну… Боевым надо быть, паря. Мертвому завсегда хуже живется. А кто боевой да зарный до работы – тот все превзойдет. Значит, и мать здорова, и сестры здоровы, и все ладно? Сказывают, ваш лесопункт расширяется…
Пантелей Евгенович расспрашивал о чем угодно, только не о причине Мишкиного прихода. Поэтому Мишка сам ее открыл.
– Уды хочу осмотреть, дедушка Пантелей.
– Что ж, хорошее дело. Мне свои тоже надо обойти. Был бы толк. Налим, однако, худо цепляется, паря. Уды вдоль всей реки расставлены. На каждого налима по уде.
Бабушка Катя сняла с печурки кипящий чайник, поставила на стол тарелку мороженой брусники, насыпала в деревянное блюдо, поверх калачей, груду сдобных крендельков.
– Пейте чай. Тебе я, Минюшка, калачиков на живую руку наладила. Когда-то охочий был до них.
Пантелей Евгенович напился чаю, перекрестил рот. Хотел подняться – и не смог. Сел со стоном на лавку, закряхтел, заворчал жалобно и недовольно:
– И что опять со спиной сочинилось? Зауросила под старость лет. Этта, годов сорок назад, порешил я ее, когда жернов на мельнице поднимал. Тогда ровно все обошлось. А немочь-то, видишь, когда о себе заявила!
Старик оперся одной рукой о лавку, другой ухватился за спинку деревянной кровати и медленно-медленно стал поднимать свое длинное, костлявое тело.
– Когда молодой-то был, не верил старикам, не признавал никаких немочей. Думал, притворяются, – укоризненно проговорил Пантелей Евгенович. Он осторожно натянул ватник, подпоясался веревкой.
Мишка вышел из-за стола, поблагодарил за угощение, спросил неуверенно:
– Вам, дедушка Пантелей, может, не ходить на реку? Я и свои и ваши уды осмотрю.
– Нет, парень, сидение сроду не помогало. От него болезнь только в силу входит.
Пантелей Евгенович принес из-под навеса широкие охотничьи лыжи, граненую пешню с длинным березовым чернем, лопату, корзину.
– Палки-то оставляй. Возьмешь пешню. Где в горку, ею упираться станешь, – посоветовал он Мишке.
Восемьдесят лет прожил на свете Пантелей Евгенович Брюханов, последние годы частенько недужил. Однако Мишка с трудом поспевал за ним, хотя бежал по его следу на спортивных лыжах.
На реке вдоль всего берега, словно вешки, торчали из-под снега десятки жердей. Пантелей Евгенович и Мишка подошли к ближней.
– Осмотрим сперва твои уды. Поглядим, какое тебе счастье клюнуло.
Старик поддел лопатой слежавшийся ком снега, расчистил небольшое пространство вокруг уды, потянулся к пешне.
Но Мишка не уступил пешню. Остро отточенная сталь врезалась в лед, разбрызгивая звонкие зеленые осколки. Вырубая лунку, Мишка торопился. Эту уду давно не осматривали, и она крепко вмерзла в лед.
Мишка бил пешней, Пантелей Евгенович выбирал лопатою осколки льда. Когда блеснула вода, старик ухватил брезентовой рукавицей уду и добродушно усмехнулся, поглядев на затаившего дыхание Мишку:
– Проверим, какое у тебя счастье…
Перебирая руками, он медленно тянул из проруби длинную жердь. Тянул, тянул, замер, прислушиваясь. Жердь слегка подергивало.
– Э-э, поймалось, однако, счастье. Кто-то зацепился…
Движения Пантелея Евгеновича стали более медлительными и осторожными. Было слышно, как, скатываясь с сосновой жерди, капает в лунку вода.
С замиранием сердца Мишка глянул в лунку. В узкой черной проруби на мгновение показалась большая черная голова с выпученными глазами. Налим ходил подо льдом на коротком пеньковом поводке.
– Узковата лунка. И как только твое счастье выдернем, – озабоченно проговорил Пантелей Евгенович. Улучив момент, он проворно дернул уду кверху. К Мишкиным ногам упало желтое, с прозеленью тело, усыпанное черными пятнами. Рыбина яростно била о снег длинным тонким хвостом. У головы налим был по ширине не меньше самой лунки.
– Ну как? Выходит, и мы ювелирных дел мастера!
Всегда спокойные серые глаза Пантелея Евгеновича сейчас отливали голубизной. Было в них столько торжества, столько ребяческой гордости, что невольно вспомнился Валерка Сергеев.
Мишка вырвал из глотки налима крючок, кинул длинное скользкое тело в корзину.
Пантелей Евгенович взял из корзины живого пескаря, проткнул крючком спину, и они снова опустили на дно сосновую уду.
Вторую лунку Мишка долбил пошире, с таким расчетом, чтобы пойманный налим мог свободно пройти в нее. Окрыленный первой удачей, он нетерпеливо следил за Пантелеем Евгеновичем, когда тот поднимал уду. Но на этот раз жердь не дрогнула. Маленький серый пескарь ходил на лесе, словно коза на веревке, беззаботно пошевеливал плавничками.
Две последние Мишкины уды оказались даже без наживы: то ли налимы сорвали пескарей, то ли пескари сами освободились.
Пантелею Евгеновичу тоже не особенно посчастливилось. С его двенадцати уд сняли на этот раз всего четырех налимов.
– Только живодь изводим, – расстроенно проворчал старик, наживляя пескаря на последний крючок. – Маяты – до ломоты, а всей корысти – два раза на стол подать. Баловство одно!
В деревню они возвращались утомленные. Лыжи перестали скользить, отяжелели. Пришлось их взять на плечо.
Бабушка Катя встретила рыболовов на крыльце.
– Мокреть-то какая, мокреть! Ты, Минюшка, иди подсуши пимишки. Чай, промокли. В такую погоду бродни надо надевать.
Принимая от Мишки мокрые валенки, бабушка Катя покачала головой, сокрушенно вздохнула:
– Обе пятки прохудились. Не сладко, видать, без отца… Погляди, Пантелей, не сделаешь ли чего?
Пантелей Евгенович взял в руки Мишкины валенки.
– Подшивать надо, ничего не скажешь. Подошвы вконец истерлись. Держатся на честном слове.
Мишка покраснел под сочувствующим взглядом бабушки Кати, под укоризненным – Пантелея Евгеновича. О том, что валенки просят каши, Мишка знал давно.
Но все было недосуг отнести их в мастерскую. Подкладывал картонки, больше навертывал портянок и обходился.
Обулся Мишка в огромные валенки Пантелея Евгеновича. Голенища поднимались выше колен, ноги не сгибались. Было неудобно, но Мишке нравилось так расхаживать по комнате.
Бабушка Катя напомнила, что сегодня суббота и у нее вытоплена баня. Ну как можно отказаться от такого удовольствия!
Брюхановы держали баню по-белому – с трубою, с кирпичной каменкой, с вмазанным в нее котлом для воды. Таких бань в Талой было мало. Большинство жителей деревни мылись в банях по-черному.
Мишка мыл голову, с наслаждением хлестался березовым веником на верхней полке! Пантелей Евгенович лежал на мокром рядне, разостланном на полу перед открытой дверцей каменки. Он грел больную спину. Глядя на худое тело с выпирающими костями, Мишка дивился, откуда у Пантелея Евгеновича столько силы. Как мог этот человек убить семнадцать медведей? Как мог пройти до самого устья большую реку, одолеть пороги, через которые проходили только отчаянные смельчаки! А шрамы на теле Пантелея Евгеновича!
Зато когда старый охотник, поддав пару, полез на полок, Мишке пришлось сползти вниз, а затем поспешно натягивать штаны и бежать из бани. Вот тебе и худоба, вот тебе и немочь, вот тебе и восемьдесят лет!..
Мишка успел остыть, лежа на железной койке, а Пантелей Евгенович только-только закончил париться. Тяжело дыша, упал на кровать в белой холщовой рубахе, в полосатых подштанниках. Старик молча лежал в темноте, и Мишке показалось, что он уснул.
Но под потолком вспыхнула небольшая электрическая лампочка, и Пантелей Евгенович заговорил:
– Выходит, ровно семь часов. Дали свет. Хорошо. Привыкли мы к электричеству, избаловались. Когда на электростанции что-нибудь испортится – будто уж неловко зажигать керосиновую лампу. А и она совсем недавно почиталась за диво. В деревнях больше лучиной да жирниками освещались. Тронулась, однако, Сибирь. Ой, как тронулась!.. Выйдешь на большую реку – бегут без удержу грузовики. И конь уже не в цене. А я, друг, помню времена, когда в этих местах пил не было. Потолки в избах кругляками настилали, а пол – из расколотых деревин. Дрова не пилили, а рубили топорами. Один работник и нарубит и наколет за день кубометров шесть. Зато нашшелкается эдак за неделю – в субботу заваривают в котле мох, да руки туда, распаривать… Я-то паря, до девяти годов штанов не имел, бегал в одной посконной рубахе. Семья большая. Трое братовьев, четыре старших сестры. Обувки, одежи на всех не напасешься, Играть, однако, охота. Бывало, выскочу на мороз в рубашонке да босиком. Скачусь на санках с горы – и дуй – не стой – обратно в избу, на печку… Чудеса, да и только, – мечтательно протянул старик. – Я, скажем, в германскую воевал, в гражданскую тоже. И чугункой ездил, и на пароходе, и по-всякому. А моя Катерина век прожила – поезда в глаза не видела. Поезда не видела, а на самолете я ее прокатил до Светлого. Боялась. Все за рукав меня теребила, вниз показывала, дивилась, когда мы в воздух-то поднялись.
Пантелей Евгенович рассмеялся.
– Да, чудеса!.. Сказывают, на Светлый тянут железнодорожную ветку? Видать, еще круче за дела в нашем районе возьмутся.
– Я тоже поезда не видал и нигде, кроме Светлого, не был, – заметил Мишка.
– Пустяки! Увидишь, все увидишь, везде побываешь, – уверенно сказал Пантелей Евгенович. – У тебя жизнь впереди. А жизнь нынче несется быстрей, чем вода в порогах. Успевай только оглядываться…
Вернулась из бани бабушка Катя, загремела на кухне посудой. У нее, видимо, было хорошее настроение. Сначала тихо, для себя, а потом громче и громче она запела:
Ниже городу было Енисею.
Раздается в темный лес:
«Сидит мальчик за стеною
В белой каменной тюрьме».
Голос у бабушки Кати был сильный, высокий. Пела она с чувством. Заунывно, тягуче, с надсадой звучала песня о страданиях мальчика, заточенного безвинно в тюрьму.
– Первой песельницей славилась по деревне, – восторженно и ласково прошептал Пантелей Евгенович и даже приподнялся с кровати, наклонился в сторону Мишки. Он не мог оставаться равнодушным к этой близкой и милой ему песне, не мог молчать. Уперся локтем в подушку, прислушиваясь, и вдруг присоединил к бабушкиному свой низкий, хриплый голос:
Теперь люди все гуляют,
Забавляются с друзьям,
А я, мальчик разнесчастный,
Обливаюся слезам.
Морщинистое лицо отражало глубокое волнение и словно светилось изнутри. Пантелей Евгенович вытер рукавом повлажневшие глаза.
– Старая песня, паря… Да-а-а… Деревни-то в нашем районе, какую ни возьми, беглыми каторжниками основаны, а Талая – моим прадедом по матери. Мамаша сказывала, на месте Талой был охотничий станок тунгусов, когда мой прадед сюда заявился. Бежал он с каторги, рыскал по тайге и набрел на охотничий станок. Тунгусы его приютили. Был мой прадед одноглазый. Отсюда и фамилия ему сделалась – Косых. Эдак вот… Сколько сил потребовалось человеку, чтобы выстоять в тайге да и корни пустить! Теперь, почитай, половина деревни носит эту фамилию. Брюхановых тоже много. И папашин род считался здесь не из последних… Нынче другое дело. По договорам люди приезжают. По первости, что толковать, и этим не рай. Помню, когда начинали строить Апрельский, вдосталь хлебнули те, кто приехал первыми. У многих пупки оказались слабыми: не выдержали, сбежали. Зато перед такими, как твой папаша, я на колени встать готов. Прахом бы пошло без них большое дело. Это они закрепились в Кедровом, в Апрельском, в Светлом. А когда закрепились, проще наступать. Читал я в газетке, будто возле Светлого строится бумажный комбинат.
– Дерево-перерабатывающий, дедушка Пантелей, – осведомленно поправил Мишка. – Очень большой будет комбинат. Весь лес с верховьев пойдет туда. С комбината станут отправлять доски, шпалы. Отходы используют на бумагу, на спирт, на скипидар…
– Выходит, опилки там, сучки, обрезки, негодный лес на спирт и бумагу станут переводить? – удивился Пантелей Евгенович, – Дивные дела творятся! Слышал я по радио: достигли мы на ракете Луны. Уму непостижимо! Тот, кто додумался до такого, – великий человек. А если прикинуть, то и те, кто к маленькому, к незаметному приставлен, тоже чудеса творят. Одно к одному. Везде нужен первостатейный народ.
Старый охотник задумался и вдруг добродушно усмехнулся:
– С твоим папашей, с Андреем Михалычем, мы первый раз в тайге встретились, когда на месте Апрельского, почитай, ничего не было. Заплутался он в тайге. Ни собаки, ни припасу, ружьишко плохонькое. Набрел к ночи на мой костер. Голодный. Два дня без хлеба шаландал. Говорит: «Дай, дядя, хлебца. – Потом зыркнул эдак сердито глазами. – Ладно, старик, не надо. Все равно не дашь. Знаем мы вас, чолдонов. Снега зимою не выпросишь…» Многие по первости нашу землю мачехой почитают, а нас, сибиряков, скупыми да неласковыми. Может, и верно, к кому мы ласковы, к кому неласковы. Разных свистоплясов не привечаем… Потом, когда мы подружились с твоим папашей, он часто смеялся, как завел со мной первый разговор…
Бабушка Катя поставила на стол самовар, ватрушки, клюквенный кисель. Сели ужинать.
Но и после ужина Пантелей Евгенович и Мишка долго разговаривали.
А утром Мишка увидел перед своей кроватью подшитые валенки. Они выглядели красивей и добротней новых. По войлочным подошвам затейливо протянулись черные линии двойной дратвенной строчки. Задники были нарядно оторочены дубленой лосиной кожей – неняксой.
Пантелей Евгенович расхаживал по горнице в вылинявшей синей рубахе и держался рукой за больную поясницу.
Заметив, что Мишка проснулся, он слабо улыбнулся одними глазами.
– Не спалось мне ночью, паря. Ломит поясницу, да и только! Думаю: «Дай, работенкой займусь, авось полегчает…»
Мишка не поверил. Конечно, дедушка Пантелей нарочно поднялся ночью, чтобы подшить валенки. Хотелось броситься к нему, обхватить за длинную морщинистую шею и расцеловать. Но Мишка достаточно вырос, чтобы так, на его взгляд, по-ребячьи, выражать радость. Лучше, когда представится возможность, делом отблагодарить Пантелея Евгеновича за его доброту. Поэтому он тихо сказал:
– Спасибо, дедушка Пантелей.
После завтрака Мишка засобирался домой и вспомнил про буханку хлеба и про пачку прессованного чая. Развязал котомку, неловко выложил на стол немудрый запас.
– Ты что это удумал? – рассердилась бабушка Катя. – Складывай обратно. И другой раз не обижай меня. Чтобы к нам, да со своими харчами! Небось не голодаем.
Но тут же бабушка смилостивилась, улыбнулась, провела рукой по Мишкиным волосам.
– Мамке-то подсобляй! Береги ее, Минюшка. Хорошая она у вас, труженица. И вот калачиков отнеси сестренкам. Маленькие. Рады будут гостинцу. Скажи: от бабушки Кати. Скажи: мол, бабушка Катя зовет их в гости. А сам почаще наведывайся. Есть дело или нет его, все равно наведывайся. Рады будем. Дорога не то чтобы дальняя, ноги резвые, шутя добежишь.
Пантелей Евгенович принес из завозни замерзшего за ночь во льду Мишкиного налима. Рядом с ним положил еще трех налимов.
– Славно ты, парень, удумал матери подарок к Восьмому марта сделать.
Мишка заморгал глазами от растерянности. К празднику он не собирался дарить матери налимов. Кроме того, на его уду попался всего один налим.
– Бери, бери! Твои. Пока тебя не было, я осматривал твои уды и этих трех снял, приберег, – пояснил Пантелей Евгенович. – Ты вот как, парень, сделай. Приедешь домой, спрячь их в кладовке, снежком укрой. Восьмого марта утречком достань и мамке преподнеси. Ей приятно будет…
Мишка начал отказываться, но Пантелей Евгенович строго насупился:
– Не мудри, паря. Верно тебе говорю: с твоих уд налимов снял. Мать пирог испечет. Налимы-то жирные, сладкие. Подарок выйдет ладный.
Ни тени улыбки, ни намека на шутку. Пантелей Евгенович такой важный, такой строгий. Он уверен в том, что Мишка приехал за налимами по случаю приближающегося праздника. Не взять налимов – кровно обидеть дедушку Пантелея.
И лишь в живых глазах бабушки Кати Мишка заметил веселые, лукавые искорки.

Здравствуй, Миня!
Оттепель продержалась до конца февраля и захватила два первых дня марта. У крыльца конторы, у школы, у магазинов, у столовой натекли большие желтые лужи. Дороги почернели. Мокрыми стали сугробы.
Поселок Апрельский сменил валенки на сапоги. Ни дать ни взять – весна!
А под третье марта засвистела поземка, понесла стаи острых, колючих снежинок. За несколько часов лужи сковал такой лед – топором не разрубить!
Те, кто переобулся в сапоги, кинулись домой за валенками.
Вернулись трескучие морозы. Двадцать градусов, двадцать пять, тридцать! Вот уж поистине верна сибирская поговорка: «Февраль воды подпустит, март подберет».
В первое мартовское воскресенье небо освободилось от туч, развернулось над поселком – синее, бесконечное. Засверкали под солнцем снега. От их блеска похорошели, повеселели сумрачные хребты и увалы. Тонким стеклянным кружевом засветился на ветках деревьев хрупкий, голубоватый иней.
Это морозное солнечное воскресенье было для Мишки светлым и безоблачным. На душе – мир и спокойствие. С матерью наладились прежние хорошие отношения. Школьные дела тоже пошли на поправку. Вернулся Мишка от Пантелея Евгеновича обновленным. Словно крепче стали ноги и тверже походка. И с таким упорством, с таким рвением взялся за учебу, что перестал замечать время. Кажется, совсем недавно пришел из школы, а уже вечер и луна над окном.
Учителя ставили ему хорошие отметки и с серьезным любопытством посматривали на него. Ребята переглядывались, и Мишка чувствовал, что растет к нему с каждым днем уважение.
Что касается ссоры с Олегом Ручкиным, она перестала тревожить Мишку. В районный центр Олег, конечно, не удрал. Он явился в школу через несколько дней с лиловым пятном под глазом. Встречая Мишку, отворачивался. А Мишке тоже ни к чему на рожон лезть. Он даже пожалел Олега. Кешка Ривлин – и тот перестал лебезить перед Олегом. А Семен Деньга бродил одиноко – туча тучей. Рассыпалась веселая компания, отошли от Олега недавние почитатели.
Но самое удивительное, чего Мишка никак не ожидал, случилось сегодня утром. Мать затеяла дома уборку, когда во дворе залился яростным лаем Загри. Мишка вышел на крыльцо и увидел перед калиткой четырех парней, которые нагрянули к ним поздно вечером месяц назад.
– Здорово, лукавый таежник! – с усмешкой проговорил Анатолий Юров. – Ты в гости не приходишь, так мы к тебе!.. Открывай калитку. Да попридержи своего черта.
Мишка поймал за ошейник Загри, и парни торжественно проследовали мимо него в дом. Будь Мишка одет, он не стал бы торопиться вслед за парнями. Но в одной рубахе недолго выстоишь на морозе!
В кухне Мишка увидел мать. Растерянная и розовая от смущения, она держала в руке коробку духов «Красная Москва».
Мать стеснялась и своего старенького платьишка, в котором убиралась, и красных от воды рук, и беспорядка, который царил в квартире, а главное – ее волновал сам приход парней.
– Такие дорогие духи… Зачем было тратиться?! А у меня беспорядок, все раскидано…
– Вы не сердитесь, Мария Степановна, что мы без предупреждения, – сказал Василий Сакынов. – Мы от чистого сердца.
Анатолий Юров вытащил из кармана горсть конфет, высыпал в передничек Тамаре, вторую горсть – Тоне. Посмотрел на Мишку, неожиданно хлопнул по плечу.
– Давай лапу!
Пожав Мишке руку, оставил в ней свернутый в трубочку ремень с никелированной пряжкой.
Мишка стоял посреди двора и с наслаждением вдыхал чистый морозный воздух. Хорошим было это воскресенье. Белые столбики дыма стояли над трубами домов. Все вокруг было серебряным, голубым и золотистым.
Единственно, что продолжало огорчать Мишку, – это незавидные дела в доме Сергеевых. Отца Нины к работе не допускали. Стороной Мишка узнал, что шофер Сергеев каждый день наведывается к начальнику лесопункта, клянется взяться за ум, а тот не верит. Очень уж много было таких обещаний…
Мишка пробовал заговаривать с Ниной, но как только разговор касался отца, девочка умолкала.
Зато Валерка Сергеев сообщил Мишке, что они, наверное, уедут из Апрельского. Парнишка радовался отъезду. Ему мерещились необычные места, новый дом, новые друзья… А Мишке не хотелось, чтобы Сергеевы уезжали. Через два месяца сойдет снег. Тронется река, зацветут на хребтах подснежники, жарки и медунки. Распустится в тайге кудрявая, задумчивая сарана. Потом лето…
Подбежал Загри, встал на задние лапы, передние уставил в грудь Мишке. А сам от хвоста до ушей – седой от инея. Вот мороз так мороз!
Мишка увернулся от Загри, взял вилы-тройчатки и направился в хлев.
В коровьем стойле, рубленном из бревен, потолок чуть повыше Мишкиной головы. Не потому что не хватило леса. Корова надышит – и в самый сильный мороз в низеньком стойле будет тепло. А вот сеновал над ним высокий. Тоже сделан с расчетом: больше сена войдет.
Мишка открыл дверь, выпустил на волю, в загон, рыжую Красулю. Корова доверчиво ткнулась в Мишкину руку черным мокрым носом, лизнула широким шершавым языком.
– Хлебца просишь? Ясно-понятно, с солью? Ты ведь лакомка. Ну-ну… Если уж ты такая хорошая, возьми, побалуйся.
Мишка достал из кармана ватника густо посыпанные солью два куска черного хлеба. Сунул корове в мягкие, ленивые губы. Корова брала медленно и пережевывала не спеша. Не то, что Загри. Тот проглатывает куски на лету. И нисколько не стыдится своей жадности: хвать, хвать, хвать, пока не насытится.
Эту немудрую рыжую коровенку Мишкина мать называла кормилицей. И справедливо. Трудно бы пришлось Деминым, особенно сейчас, когда нет отца, не будь этой ласковой, добродушной животины.
Мишка выбросил из стойла навоз, посыпал пол трухой и сенными объедками, кинул в ясли охапку сена. Затем взялся за метлу. Чисто промел дорожки, навел красоту у крыльца. Работалось ему особенно весело.
– Здравствуй, Миня!
Мишка чуть метлу не выронил из рук от неожиданности и удивления. Семен Деньга!
– Вот… Пришел к тебе… Миня, – запинаясь, пробормотал Семен.
Мишка нахмурился:
– Вижу, что пришел, а не на собственной «Победе» приехал. Только двором обознался. Тебе бы к тем, кто легкой жизни ищет. К Олегу Ручкину, ко всей твоей компании. А мы народ простой, мы лесорубы, рабочие…
Мишка важничал, Мишка куражился.
Семен виновато опустил голову.
– Ты меня прости, Миня. Неладно у нас вышло. И чем только приманил меня Олег? Сперва не такими как все, показался. Разных разностей целый воз приволок. Завлекательно рассказывал, многое умеет и все такое… Теперь смотреть на него не могу.
– Что так? Я думал, вас трактором не разорвать, – холодно и надменно произнес Мишка. А сердце прыгало, сердце ликовало: «Пришел! Пришел! Первый пришел!»
Семен надеялся, что Мишка сразу протянет ему руку. Поэтому он поторопился снять рукавичку. Мишка руки не протянул, и Семен неловко перебирал пальцами старенькую, дырявую верхонку.
– Не товарищ он мне. Понимаешь? Мягко стелет, да жестко спать. Сразу не распознал его. Влюбился, можно сказать. В тот день, когда Савва Иванович нас повстречал и вы уехали, зашли мы вчетвером в столовую. Олег на всех по двойной порции пельменей взял, по два стакана компота, папирос «Дели» купил… А тут мой дедушка заявляется. Видел он, как Олег на всех покупает. Однако ни слова мне не сказал и никому не сказал. Будто так и надо. Понимаешь?
Мишка ничего не понимал, только еще больше хмурился:
– Ты вот что… От ваших угощений у меня слюни не текут. Не крутись кругом да около, а дело говори.
– Я дело говорю, – заторопился Семен. Он боялся, что Мишка не захочет выслушать его до конца. – Мне и раньше Олег разонравился. Подсмеивался над тобой, других подзуживал. Обо всем судит. А через день после того, как вы схлестнулись, пришли вечером с работы отец и дедушка Тарас. Такое поднялось – под землю от стыда провалиться можно! Оказывается, дедушка Тарас встретил завгара и говорит: «Роскошно сына содержишь, товарищ Ручкин. Сотенными кидается, шикует в столовой». У завгара аж шары на лоб от удивления: «Какими сотенными?» Дедушка Тарас тогда объяснил, что видел и что от буфетчицы разузнал. Завгара конфуз прошиб. Рожа малиновой сделалась!.. Понял?..
Теперь до Мишки дошел смысл сбивчивого рассказа Семена, очень хорошо дошел. Вон что! Значит, Олег Ручкин стащил дома сто рублей, а вина пала на него, на Мишку Демина!
Он сжал кулаки и в упор посмотрел на Семена.
Угадав Мишкины чувства, Семен побледнел и тихо прошептал:
– Бей, Миня!.. Слова не скажу.
Мишка тряхнул головой, словно освобождаясь от тошноты, опустился на ступеньку крыльца.
– Отец, когда узнал об этом, осатанел, ремень расстегнул. А дедушка Тарас не дал: мол, сам поймет. Я понял. Да не по себе мне… – сказал Семен.
В голосе его звучало такое искреннее огорчение, такая растерянность, что Мишкина злость была бессильна перед ним. А тот продолжал торопливо и доверительно:
– Только что дедушка Тарас с отцом вернулись с партийного собрания. Там требовали снять Ручкина с должности. Такие делишки раскрылись в гараже, сразу И не придумаешь! Раньше догадывались, предполагали, а теперь докопались. Документы подняли. Ручкин приписывал шоферам за работу, которую они не делали. Вместе пьянствовали. Работали налево. Даже запасные части и бензин на сторону продавали. У Сергеева случилась авария. А то еще сколько времени казаковал бы Ручкин безнаказанно. Некоторые предлагали прогнать с лесопункта Сергеева. Тогда выступили Алексей Веников и дядя Ваня Маслов. По их соображению, Сергеев не такой уж пропащий. Сам не воровал. Пьянство его сгубило. Первый мастерский участок постановил поручаться за него. Поработает покуда лебедчиком. Может, человека из него сделают.
Семен замолчал, посмотрел на Мишку и словно спохватился.
– Только ты не подумай, будто я пришел к тебе из-за всего этого, – Семен недоверчиво и настороженно прощупывал Мишку глазами. – Я не потому. Стыдно мне… Какую подлость с тобою сыграли! Олегу все пустяки, лопухом тебя называл. Я и раньше сомневался. Верил и не верил! Будто на тебя не похоже. Однако деньги пропали. Как хошь, так и думай. В голову даже не приходило, что в своем доме воровать можно. Мне раньше с тобой потолковать хотелось, да гнал ты меня от себя.
– Верил и не верил! – с досадой передразнил Мишка. – Товарищем тоже считался!..
Семен Деньга тяжко вздохнул.
– Мне дома простили. Проиграл из копилки пятьдесят рублей – мне же хуже. А Кешка Ривлин больше пострадал. Сперва воровал у отца папиросы, потом деньги стал потаскивать. В очко играть охота. Олег без банка игру не признавал. Кешке стыдно было хуже других перед Олегом казаться, да и в друзья лез. Ну и обучился из дому таскать. Сначала гладко сходило. Не замечали. А тут отец разведал. Так обработал вчера Кешку, что, говорят, сидеть не может.
– У тебя нос белеет, – остановил Семена Мишка. – Три!
– А у тебя – щека!
Они долго растирали рукавичками лица.
– Ничего?
– Ничего!
– Ты знаешь, Миньша, я много передумал за это время, – сказал Семен. – Вот у Олега все есть, и парень он будто не дурак. А на уме у него одно – лишь бы повеселее пожить. А сам за дурачков почитает тех, кто хребтину гнет. Как это получается?
– Как получается? Из нахлебников он! Видит, как его папаша действует, и сам набирается «мудрости». Брать легче готовенькое.
– А как же мы? – не отставал Семен. – Выходит, мы будем садить огород, а он рвать морковку?
Мишка резко поднялся с крылечка.
– По нашему будет, а не по его! Не захочет понять – научим!








