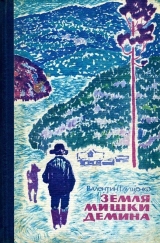
Текст книги "Земля Мишки Дёмина. Крайняя точка (Повести)"
Автор книги: Валентин Глущенко
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Гора изюбриная
Километра через три за Бобылихой узкая пешеходная тропинка все менее отчетливо виднелась в траве и наконец совсем пропала.
– В речку не войдем, а выкупаемся, – сказала Надюшка.
– Ну уж и выкупаемся, – усмехнулся Колька. – До времени пугаешься.
С его просмоленных бродней росинки скатывались не задерживаясь. Влага не проникала внутрь. Низкорослая трава не доходила и до колен. В новом костюме, с чалмой накомарника на голове, с ножом у пояса и ружьем за плечами, он вышагивал неторопливо и уверенно, как и положено промысловику, отправившемуся в дальнюю дорогу.
Их путь лежал по берегу Холодной, мимо поросших лесом гор, черемуховых зарослей. Иногда проходили возле рыжеватых, словно сложенных из кирпича, голых скал. Колька дивился, до чего же искусно поработала природа. Скалы напоминали древние развалившиеся замки – с амбразурами, с арками въездных ворот. Фотографии таких развалин Колька не раз встречал в исторических книжках.
Надюшку мало интересовали красоты природы, ее больше занимала дорога. Девочка предпочитала кромку берега зеленой пойме.
Но вот песчаных и покрытых мелким галечником берегов не стало, их сменила сплошная высокотравная пойма. От леса до воды стояла густая трава. Порой она достигала плеч. Одежда стала влажной и холодной. Капельки росы, отливающие разноцветными огнями, перестали казаться Кольке дивными самоцветами, превратились в сотни противных ледяных дождинок, которые перемещались с листьев пырея на штаны и на рубаху, сыпались градом с цветов белоголовника. Закоченели руки, озябли ноги, тело охватила дрожь. Даже собаки утратили бравый, воинственный вид. Лохматый Горюй стал как будто более поджарым и длинным. Мурзик вообще походил на мокрую крысу. Но собаки не унывали, рвались вперед сквозь травяные джунгли. Иногда они возвращались, внезапно возникая из зарослей.
Надюшке приходилось труднее, чем Кольке. Она шла первой. Колька ожидал – вот запросит пощады. У девочки был плачевный вид. Коричневое платьице и шаровары промокли.
Дорогу им преградила скала. Из-под нее, с ревом и грохотом, дробясь на огромных гранитных камнях – шерлопах, вырывалась в Холодную подземная речушка.
Дедушка Филимон и Евмен Тихонович отстали от пешеходов. Их долбленки, наполненные продуктами и снастями, медленно двигались против течения и только теперь подходили к плесу, от которого начиналась высокотравная пойма. Старшие махали руками, что-то кричали; из за шума речки трудно было разобрать слова.
– Кличут: поверх есть тропинка, – сказала Надюшка. – По ней уже пошла Венера.
Что за выскочка эта Надюшка! Колька обрадовался было короткому отдыху на гладких камнях под начинающим припекать солнцем. А девчонке, по-видимому, страшно хочется выглядеть неутомимой путешественницей. У самой посинели щеки, посинели губы, а командует:
– Полезем, что ли?
Волей-неволей приходится подниматься с камней. Хмурься не хмурься – Надюшка не желает замечать. Полезла на скалу следом за собаками.
Первой до ближнего уступа добралась Венера. Стоит, посматривает вниз, словно приглашая: «Давайте сюда! Следуйте за мной!»
Цепляясь за камни и кусты, Колька достиг уступа. По пути он разогрелся. Подъем оказался трудным. Лишь издалека скала представлялась невысокой. А теперь нет ей конца и края. Даже низкорослые цепкие деревца, которые много лет карабкались кверху, так и не смогли достигнуть скалистой вершины.
– Осторожнее. Вниз не гляди, – наставительно предупредила Надюшка. – С непривычки голова может закружиться.
– О своей думай! – проворчал Колька, раздраженный трудным подъемом и Надюшкиной неутомимостью. Назло девочке он шагнул к краю уступа: «На, получай!»
Непонятно, как он удержался. В глазах потемнело. Мысли смешались. Колька невольно отпрянул назад, ухватился за березовый кустик. Уступ скалы по высоте мог спорить с пятиэтажным домом, а внизу, в камнях, крутились, неистовствовали ослепительно-голубые буруны.
– Тебе плохо? Побледнел-то как! Может, присядем?
Надюшкина рука легла на Колькино плечо, а голос девочки был теплым и матерински участливым.
– Нет, пошли дальше. Это так, не знаю почему…
Больше Колька не пытался блеснуть бесстрашием. Следовал за Надюшкой, лез, лез, обливался потом. Надюшка карабкалась не останавливаясь. Нет, он ни за что не попросит ее о передышке!
– Уф! Доехали. Сымай ружье! Посидим, пооклемаемся.
Ноги у Кольки дрожали, подгибались. Он огляделся и увидел, что стоят они на вершине скалы. Высокие сосны и ели внизу выглядели карликами.
От Надюшкиного платья шел пар, а глаза улыбались и щеки горели, будто их натерли вишневым соком.
– Ты на меня озлобился, да? – Надюшка игриво кинула в Кольку маленьким камешком. – И зря. Солнце поднимается. Часом позже совсем бы упрели. Себе бы на голову отдых получился. А теперь мы, как с катушки, под гору съедем Ты думаешь, я не умаялась? Еще как!
Дорога вниз представилась забавой. Если бы всегда такой легкой была дорога! Спустившись, они решили подождать старших.
Из-за скалы выползла долбленка дедушки Филимона. Стоя на корме, он с такой силой упирался шестом, что тот пружинил и сгибался.
– Экий дурной характер у реки – то глубоко, то курице по колено, а бороться с течением везде трудно, – проворчал Филимон Митрофанович, причаливая к берегу.
За ним вытянул лодку на галечник Евмен Тихонович.
– Перевалили горушку, верхолазы? А мы-то ругали себя, зачем пустили ребят на такой риск, – сказал дедушка. – Привал, други. Передохнем малость, чайком побалуемся. Ну-кось, промыслята, потрясите смородинки.
Надюшка достала из лодки берестяной кузов – чуман, махнула Кольке.
Кольке никогда не приходилось видеть такого обилия черной смородины. За скалой, среди камней, кудрявились низкорослые кусты. Никем не огороженный, никем не опекаемый, простирался перед ними смородиновый сад. Невиданное зрелище вызвало у Кольки безотчетный смех, ликование. Он метался в восторге от куста к кусту:
– Надюшка, сюда, здесь больше! Надя, вот где ягоды!
– Ты ешь. Тут ее немного, дальше не то увидишь.
Девочка поставила чуман на землю и резко тряхнула куст. Посыпались крупные, как вишня, черные ягоды.
– Что ты делаешь! Разве так можно! – возмутился Колька.
Надюшка не подбирала с земли отличные ягоды, давила их ногами, направляясь к следующему кусту.
– Эх, тюха-матюха! – развеселилась девочка. – Кому они нужны? Все одно никто не соберет, поспеют – ссыплются.
Усевшись на камень, она зачерпнула из чумана горсть ягод и отправила в рот.
– Ешь! Так быстрей.
Опорожнив чуман, ребята посмотрели друг на друга и прыснули со смеху: щеки у обоих были вымазаны ягодами.
Затем они потрясли еще несколько кустов и вернулись к костру с полным чуманом.
Дедушка высыпал смородину в котел с бурлящим чаем, подавил ягоды ложкой, опустил несколько кусков сахара.
– Вот и начали охотницкое столование: утром чаек, в полдень чай, вечером чаишше!
Чай скорей всего можно было назвать морсом. Попивая из большой эмалированной кружки, дедушка заметил:
– Скоро гора Изюбриная. Водится дичь в этих местах. Позапрошлым летом Кочкины на двадцать тысяч изюбриного мяса и сохатины из-под полы в Сахарове продали.
– Послушай, Митрофаныч, у вас в курьях, помнится, сохатый ходил, словно во дворе. Куда подевался? – спросил Евмен Тихонович.
– Известно куда. Вытравили. Пимен Бобылев по сей день в контрах с Кочкиными. Праведный старик. Жалобы писал на них. Заглохло, однако, дело. Расследовать поручили лесообъездчику Петьке Донченко. Приехал, заночевал у Тимофея Кочкина. Утром на коня еле водворили, сам и стремя найти не мог. А подсудное дело намечалось. Старик Кочкин все ближние курьи петлями огородил. Куда ни шагни – петля. Изюбрей тоже выбиваем. Ежли бы только по лицензиям или, например, убил охотник зверя себе на еду. А то ведь гробим где надо и где не надо, лишь бы на мушку угодил…
Догорали головни под осиновыми рогульками. Солнце поднялось в зенит и повисло над рекой раскаленным диском. Одежда высохла, и было приятно сидеть у догорающего костерка, слушать рассказы об изюбрах и лосях, которые, оказывается, водятся вот тут, совсем близко. Возможно, и сейчас где-то рядом пасется красавец с ветвистыми рогами, такими, какие Колька видел на стене в дедушкиной горнице.
– Новость-то позабыли! Ты, герой, сказывают, вечор с Таковым схлестнулся, целое сражение у вас разыгралось! – неожиданно обернулся Евмен Тихонович к Кольке. Глаза у него стали по-детски задорными и удивительно синими, совсем как у Надюшки, когда она чем-нибудь восхищалась.
Колька смутился. Надюшка дорогой не вспоминала о вчерашнем. И Евмен Тихонович до сих пор не подавал вида, что знает о скандале.
– Отшили краснобая. Не выкомуривай, не пужай людей! – строго сказал дедушка Филимон.
– Давно следовало дать по зубам! Облюбовал жучок угол, куда руки до сих пор не доходили, хозяйничает… – Добродушие оставило Бурнашева. Искорки задора в глазах сменились колючими, ледяными лучиками. – Умеет повернуться, вывернуться, из мухи слона соорудить, невинного сделать виноватым. Я уже пробовал с ним схватываться в Исаевке. Однако хитер, увертлив. Загривок хоронит, зубы вперед выставляет. И выступит, где надо, лучше другого, и цитатку, какую следует, ввернет. Я сердцем чую: мошенничает. А поди поймай! За руку схватить надо, уличить. А он не больно прост. Ну ничего. Будет еще у нас с ним дело.
– А Илюха-то Пономарев каков! – оживился дедушка. – В армию уходил – будто неприметный, простенький паренек. А теперь палец в рот не клади. Насел на Такового – тот на попятную. Крепко подковали в армии.
– Толковый, хороший парень, – согласился бригадир. – Я, по чести сказать, сомневался – останется ли он в Бобылихе. Пришел со специальностью. Нет, решил остаться. Молодец! Побольше бы нам таких ребят, горы бы свернули. Погоди. Митрофаныч, и актив у нас будет крепкий, и не только никто уходить от нас не станет, а проситься будут…
Евмен Тихонович посмотрел из-под ладони на солнце и присвистнул:
– Фью! Заговорились мы. Ехать пора, однако.
После чая идти было веселее. Траву обсушило. Ребята шагали рядом, раздвигая грудью шелестящую пахучую зелень.
На душе у Кольки было Легко и весело. Никогда он не будет бояться выступать против несправедливости.
Собаки умчались и где-то рыскали.
Надюшка прикидывала вслух, сколько бы копен сена можно было взять хотя бы вон с того клеверного луга или с этой пырейной низины. А что, если бы выкосить всю траву от Бобылихи до реки Горюя?
Надюшкины размышления оборвал бешеный цокот. Он приближался со стороны недалеких темно-серых скал, нарастал с дьявольской быстротой.
Колька еще не сообразил, что это такое, как его резко дернули за руку.
– Садись! Разинул рот! – зашипела Надюшка и потянула Кольку за собой в траву. – Давай ружье! – нервно шептала она, стягивая с Колькиного плеча переломку. – Заряжено?.. Эх ты, охотник! Где пули?
Надюшка умело переломила ружье, вложила патрон и взвела курок.
Колька не сопротивлялся, не противоречил.
Сейчас это была не та Надюшка, голубоглазая, розовощекая девочка с бронзовой косой за спиной. Припав на одно колено, собравшись, как котенок перед прыжком, из высокой травы выглядывала охотница с хищно сияющими глазами. Она медленно подняла ружье, приставила к плечу, ловя на мушку летящее по берегу красное облако. Но облако внезапно остановилось, не добежав на выстрел.
До чего красив был этот благородный олень, замерший на долю секунды возле воды! Красный. Тонкие, стройные, будто точеные, ножки. За голову запрокинут причудливый куст.
Чудесный миг длился недолго. Стремительным броском изюбр вскинул в воздух красивое тело. И вот он в реке, вот он мчится по мелководью. Вот одна маленькая головка с могучими рогами торчит на поверхности. Изюбр плывет, превозмогая быстрое течение.
На берег вырвались собаки.
– Не вернут ли? – с надеждой произнесла девочка.
Горюй и Венера с ходу кинулись в реку наперерез зверю. Позже всех показался Мурзик и тоже, не задумываясь, бросился в Холодную. Вскоре взбалмошный щенок понял, что преодолеть быстрину не хватит силенок, и повернул обратно.
Между тем изюбр добрался до противоположного берега, выскочил на сушу и скрылся в мелком березняке.
– Дурни! – обругала Надюшка собак. – Упустили. Трехгодовалый бычок, не меньше. Весной папка взял такого на солонцах, когда на панты изюбра отстреливали. Мяса-то сколько!
Она возвратила Кольке ружье. И тот, отвернув в сторону дуло, по всем правилам, как учил дедушка, опустил курок.
– Ну и хорошо, что ушел. Ты же слышала – охота на изюбрей летом запрещена.
Колька хотел успокоить девочку, но вызвал своими словами недоверие.
Большие голубые глаза остановились на нем недоуменно.
– Хорошо-то хорошо… Лукавишь ты, однако. Кто удержится, когда такой на тебя бежит? Разум потерять можно.
Изюбра собаки не догнали. Приплелись виноватые, печальные. Один лишь Мурзик не потерял бодрости. Колька заметил: Венера замерла сторожко, вытянула хвост. А щенок с глупым лаем ринулся вперед.
Безмолвная трава ожила, зашевелилась, зафурчала от хлопанья многих крыльев.
– Глухари! – крикнула Надюшка.
Кольку охватил охотничий азарт. Патрон с дробью, словно по маслу, вошел в патронник. Стараясь не шуметь, Колька приблизился к старой ели у самого края леса. На нее с ожесточенным визгом прыгал Мурзик. На суку, у вершины дерева, замер серый комок, его можно было бы принять за гигантский нарост. Грохнул выстрел. И чудо! Распластав широкие крылья, с елки свалилась большущая птица. Самка глухаря лежала в траве, сизая с желтыми крапинками.
– Копалуха! – восторженно крикнула Надюшка. – Я еще одну приметила. Дай стрелить!
Кольке мучительно не хотелось выпускать из рук переломку, хотелось, чтобы без конца гремели выстрелы и так вот легко и просто валилась вниз добыча. Все-таки он пересилил себя. Подхватил еще теплую лесную курицу и побежал за Надюшкой.
Откуда девочка умела так метко стрелять – неизвестно. Однако второй заряд не пропал даром.

– Их тут целый выводок, – сказала Надюшка, возвращая ружье. – За остальными не стоит ходить, их мать увела в глубь тайги.
От реки к лесу спешили Евмен Тихонович и дедушка Филимон.
– С варевом, значит, будем, – засмеялся дед. – А мы подумали, не нарвались ли на хозяина, мало ли что бывает. Садитесь, сорванцы, в лодки, – приказал он ребятам. – В этом месте берегом не пройти, переправим вас на другую сторону.
Несколько раз взрослые перевозили ребят с одного берега на другой, когда на пути вырастали неприступные утесы. С наступлением сумерек Колька и Надюшка уже не выходили из лодки.
– Эвон Горюй, – заметил дедушка Филимон.
Колька, как ни всматривался, не мог заметить второй реки. Он увидал только огонь. Желтый флажок костра трепетал в иссиня-черной дали.
– Раньше нас приплавилась Маруся. Легка на подъем. Парнем бы ей родиться. Недоразумение вышло. Какого охотника тайга из-за этого потеряла!
Вскоре лодка ударилась о берег. Залаяла и тут же умолкла собака. Филимон Митрофанович и Бурнашев укрыли лодки брезентами.
Гуськом они поднялись на взгорьице, где темнела избушка и подрагивало пламя костра.
У костра стояла Маруся Бобылева. Рыжий Варнак дружелюбно обнюхивался с Венерой и Горюем.
На Марусе была темная грубая рубаха, штаны и бродни, у пояса висел нож. Она ничем не отличалась от мужчин, разве только выглядела хрупкой и тоненькой, да в ушах поблескивали золотые подвески.
– Приютишь? – спросил дедушка.
– Куда вас денешь? Свои. Я, как приплыла, давай косить траву, чтобы гостенькам спалось помягче.
– Тетя Маруся, мы копалух подстрелили, – не утерпела, похвалилась Надюшка.
– Ты, дочка, Марусю не замай. И так наломалась за день. А ужином угости, – сказал Евмен Тихонович.
Неутомимая Надюшка словно бы только этого и ждала. Принялась ощипывать птиц. Втравила в работу Кольку. У нее стоило поучиться. Опалила копалух, выпотрошила Колькиным ножом, разделила на части, сложила в котелок, сбегала на реку за водой. Все она умела, все кипело в ее маленьких руках.
Никто не удивился, когда она позвала:
– Айдате ужинать!
За чисто выскобленный стол, сколоченный из толстых плах, уселись впятером.
На стене горела жестяная лампа. Посередине избушки стояла чугунная печка. Вдоль стен тянулись нары, застеленные свежей травой.
– Ну как, Маруся, ничего дочка? Примешь в дело? – спросил Бурнашев.
Маруся похвалила Надюшку за вкусный суп и за чай.
А Евмен Тихонович прибавил:
– Она у меня молодец, старается. Без матери выросла. Степанка, можно сказать, она вынянчила.
Маруся ласково провела рукой по золотистым Надюшкиным волосам. И это прикосновение значило для девочки многое. Другие, может быть, не заметили, а Колька видел, как счастлива Надюшка.
Дедушкина избушка
– Вставай же, вставай, соня! Бужу его, бужу, а он знай отмахивается да брыкается, ровно жеребенок. Эх, тюха-матюха! И глаза-то не смотрят. Немного – и без тебя уплыли бы!
Колька провел кулаком по глазам, увидел хохочущую Надюшку, все припомнил, сорвал с гвоздя рюкзак и побежал умываться.
Он примостился на камешке в том месте, где в Холодную впадал Горюй, первый большой приток по пути в верховья. Здесь тоже бурлила и скрежетала маленькая шиверка. Но, по сравнению с Холодной, выглядел Горюй недоразвитым ребенком, приковылявшим к могучей, полной сил и здоровья матери.
Еще более немощным представился Горюй, когда к исходу нового дня путники достигли второго крупного притока – Шалавы.
Кристально чистая, будто наполненная из глубокого горного источника, Шалава выла и бурлила, отодвигая далеко в сторону мощные воды Холодной.
Дедушка Филимон пригласил отведать воды. Сам он пил долго, с наслаждением, приговаривая:
– Пейте, пейте! Чашка-то какая большая! Бо-о-оль-шая чашка!
Вода в Шалаве была вкусна и так холодна, что ломило зубы. Впрочем, непомерная сила и буйство реки не особенно радовали.
Глядя на дико воющую шиверу, Евмен Тихонович почесал затылок:
– Крутенько… Проморгаешь – не пощадит.
Дедушкина избушка помещалась на крутояре. Ребята собрались бежать к ней.
Но дедушка прикрикнул:
– Стой!
Собаки вели себя странно. Бегали вокруг избушки как сумасшедшие. Шерсть на загривках вздыблена.
Дедушка и Евмен Тихонович переглянулись, проверили ружья и осторожно направились к избушке. Колька и Надюшка получили приказ сидеть в лодке и, в случае чего, отчалить от берега. Но скоро взрослые кликнули ребят наверх.
В избушке царил невообразимый содом. На полу валялись сухари, сплющенный котелок, обрывки мешковины…
– Пакостник пожаловал, – сказал дедушка Филимон. – Мошенник! Сколь сухарей пожрал. А я-то запасал их на зиму, чтобы осенью меньше груза плавить…
Подняв с пола раздавленный котелок, дедушка Филимон неожиданно расхохотался.
– Ты что, Митрофаныч? – удивился Евмен Тихонович.
– Как – что? Погляди! Уморительно!
– Да постой ты смеяться, объясни толком, – остановил его Бурнашев.
– Что и объяснять… Первым делом косолапый, когда вошел в избушку, сорвал с крюка мешок с сухарями, к потолку был подвешен. Половину сожрал, половину разбросал. Стал шарить в избушке, нашел котелок с топленым маслом. Я про масло-то забыл… Взял Михаил Иваныч котелок, открыл, давай пить масло. Шибко сладко.
Вытряхнул в пасть остатки, а мало показалось, еще хочется. Тогда он стал жать котелок, может, думает, не все вытекло, может, внутри осталось. Вот и сплющил котелок.
Разбросанные сухари собрали, сложили в новый мешок и снова подвесили к потолку. Дедушка Филимон, Евмен Тихонович и Колька перетаскали из лодок в избушку продукты, сети, вещи. Надюшка, по примеру Маруси Бобылевой, выскоблила добела стол, нашла старое ведро и принялась мыть пол.
Колька занялся костром и чаем. Взрослые присели у костра и закурили.
Хозяйство у дедушки Филимона было устроеннее, чем у Маруси. Такая же избушка, рубленная в лапу, крытая толстыми плахами. Но при избушке – небольшая пристройка, столярная мастерская. Метров на двадцать вокруг жилья лес был спилен, большая часть пней выкорчевана. Зеленело несколько грядок со свеклой и морковью; по длинным тычинкам тянулись кверху гороховые плети, увешанные крупными зелеными стручками. На небольшом поле уже отцветал картофель.
– Хорошо у тебя, Митрофаныч, – похвалил Евмен Тихонович.
– Я рассудил так, – последовал ответ: – большую часть времени приходится жить в лесу. Так уж лучше жить хорошо. У Пимена Бобылева когда-то получше было заведено и в тайге и дома. Однако не повезло ему. Заимку основал в одиннадцатом году. Своей семьей тайгу раскорчевал, построился. А тут – гражданская война… Средний сын, Петр, в партизанах ходил, и все Бобылевы партизанам помогали. Никто не мыслил однако, что колчаковцы в Бобылиху пожалуют. Побаивались кадеты тайги. И вдруг, неожиданно, принимайте! Спасся Пимен потому, что дома не присутствовал. А из семьи никого в живых не осталось. Хозяйство кадеты разграбили, заимку сожгли. Пимен ушел в партизаны. Когда Колчака разгромили и советская власть установилась, у нас еще долго банды орудовали. Пимен с сыном Петром первые годы в городе, в милиции служили. Только в двадцать третьем году на старое место вернулись. Сызнова хозяйство наладили, отстроились. Тогда же и другие стали рядом с ними селиться. Ну, все бы хорошо. Петр женился, жизнь наладилась. И опять колесо заело. Петр коммуну организовать в Бобылихе затеял. Коммуна, можно сказать, не состоялась. Утоп Петр как-то весной вместе с жинкой. После этого дважды горели Бобылевы. Едва построится Пимен – шшик! И махнул, видно, старик рукой. Эдак вот… А иные по нерадению прозябают. Крыша протекает, изба валится – неважно, это и дедам нашим доводилось… Зато на дрова я выберу себе лесину, чтобы без сучка, без задоринки. Колоть легче.
Дедушка опустил в котелок кусок кирпичного чая, помешал ложкой.
– Слыхал я про Петра Бобылева, Митрофаныч. И никто толком не знает – утопили его или утонул, – сказал Евмен Тихонович.
– Темное дело… В двадцать девятом году я в Бобылихе не жил. Хозяйствишко имел в Нестерове, зимой зверя промышлял. Ходил подрабатывать и на лесозаготовки…
Филимон Митрофанович поворошил палкой огонь. В темноту взметнулся трескучий вихрь искр. Подошла Надюшка, закончившая уборку, и присела рядом с Колькой.
– Ну и вот… Как раз вместе с Григорием Ивановичем Лебедевым лес у Лосиной протоки катали. Был он тогда молодой, бойкий, пошутить любил и никакой не директор, а мой подручный. Произошло это, никак, в конце мая. Холодная недавно очистилась. Вода большая… Гринька – Григорий Иванович, значит, – первым увидел, кричит: «Ура, ребята! Мешок плывет! Что найдем – на всех делим!»
Прыгнул в баркас. За ним я, грешным делом, и еще один мужик. Мы на веслах, Гринька с багром. Подцепил он этот мешок и побелел, ровно инеем подернулся. Слова не в состоянии молвить. Мы тоже струхнули. Не мешок, а мертвого человека поймал Григорий. Одет в брезентовый плащ, вздуло его…
А с берега орут: «Тащи! Чего мешкаете!»
Подволокли мы утопленника к берегу, поглядели – Петр Пименович Бобылев. Следователя вызвали. Ну, так и далее… Выяснилось, что Петр вышел с женой на рыбалку сюда, к Шалаве. Жену так и не обнаружили. Долбленка отыскалась разбитая у порогов. Определенных следов убийства не оказалось. Был изрядно пробит висок. Но это не доказательство. При падении о камень мог удариться. Пробовали искать… Да какие могут быть следы! Время упустили. Конечно, трудно подумать, чтобы такой опытный таежник оплошал. А все же, чем бес не шутит!.. Пимен не верил, да и до сих пор не верит. Были догадки, но все-таки никого не нашли. Остался Пимен Герасимович один с трехлетней внучкой, с Марусей. Воспитал, образование хотел дать. Но заболел. Маруся только до седьмого класса дошла. Вернулась в Бобылиху, по хозяйству стала помогать, промышлять начала… Потом вышла замуж за председателя артели. Толковый был парень, дело начал налаживать. Да нарвался в тайге на медведицу и погиб… Когда у нас артель организовалась, Пимен все получше норовил сделать. Но никак не мог ужиться с большинством председателей. Опять же, словно на грех, председатели больше неудачные попадались, менялись часто. Однако с тем председателем, со своим зятем, старик будто воскрес. Никто лучше Пимена здешних мест не знает. Тоже сеять нацеливались, хозяйство расширять, пасеку большую заводить… И снова – клин! Несчастный случай…
Перешли в избушку пить чай. Но разговор продолжался. Он увлек и дедушку Филимона, и Евмена Тихоновича.
– Послушай, Филимон Митрофаныч, вы с Тимофеем Кочкиным из одного села, почти одногодки. Что он за человек? – спросил Бурнашев.
– Как тебе сказать… Папаша Тимофея, старик Никифор, крепко жил. Земли имел много. Работников держал. Торговлишкой занимался. К тунгусам с обозами ходил. Тунгусы – народ добродушный. Никифор поднесет тунгусу стаканчик спирта – тот ему соболя кидает. Оберет Никифор Саввич охотников, и в конце концов они же ему и должны остаются. Колчаку Никифор сочувствовал. Однако, когда моего брата Данилу белые расстреляли, он Матвея приютил. Не то чтобы даром – и скот ему парнишка пас и по дому услуживал, – а все же. Я в гражданскую войну на других фронтах воевал, в госпитале после Перекопа лежал долго… Тимофей будто со своим папашей не ладил. Братьев подбил разделиться с ним хозяйством. Навек поссорился со стариком… Правда, кое-какие слухи ходили. Опять же не всем слухам верить можно… Я в Бобылиху раньше Тимофея Кочкина переселился. Тимофей – в тридцать пятом году. Вот и строят предположения, что от колхозов сюда ушел. А он говорит: от тоски. Первая жена у него тогда померла. Красавица. И жили дружно. Тоска тоже не шуточное дело, куда угодно загонит. Денежку он, конечно, любит. В артели по-своему ставит, от работы отлынивает… А он ли один? Возьми, Антип Рукосуев. У этого и родители и деды в батраках ходили. А браконьерствует, отлынивает от порядка похлеще Кочкиных.
Дедушка Филимон неторопливо прихлебывал чай, утирал рукавом пот.
Дедушкины рассказы звучали для Кольки странно и необычно. Ему казалось, что все это было очень давно. А давно ли? Ведь рядом сидит дедушка Филимон, который жил до советской власти, участвовал в гражданской войне, который помнит времена, когда организовывались коммуны… И в жизни многое не так просто, как представлял себе Колька. Впервые в Бобылихе пытался основать коммуну в каком-то далеком-далеком двадцать девятом году Петр Бобылев… С тех пор сколько новых городов выросло, сколько построено заводов, а Бобылиха так и не смогла подняться на ноги.








