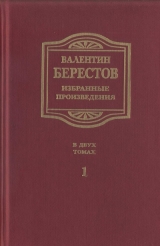
Текст книги "Избранные произведения. Т. I. Стихи, повести, рассказы, воспоминания"
Автор книги: Валентин Берестов
Жанры:
Детские стихи
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 39 страниц)
Валентин Берестов
ОТ АВТОРА

Как-то в молодости я спросил у К. И. Чуковского, чем же мне заниматься в литературе, на чем одном сосредоточиться. «Вы всегда будете переходить от науки к детстихам, от детстихов к лирике, от лирики к художественной прозе, – ответил Корней Иванович. – Такова особенность вашей психики». Та же участь теперь предстоит читателям первого двухтомника моих избранных сочинений.
Сейчас, когда я пишу эти строки, мне почти семьдесят лет. Первый том Избранного начат четырнадцатилетним беженцем из Калуги в военном Ташкенте, а закончен в конце шестидесятых сорокалетним археологом, успевшим к тому времени проявить себя и как лирик (юношеские стихи, сборники «Отплытие» и «Дикий голубь» впервые даны в хронологическом порядке), и как прозаик, автор пересказов из затеянной Чуковским в шестидесятые годы книги для малышей «Вавилонская башня и другие библейские предания», фантастических рассказов, лирической повести «Меня приглашают на Марс», наполненной фантазиями и прогнозами, а также повестей и рассказов об археологах, о древнем Хорезме (среди них повесть «Меч в золотых ножнах»). Здесь же впервые публикуются мои мемуары «Детство в маленьком городе», начатые в 1964 году и завершенные в 1997-м. Ими открывается книга воспоминаний «Светлые силы», над которой я сейчас работаю. Стихи и прозу разделяет часть «Как найти дорожку» – о детях и для детей.
Многие стихотворения, лирические, юмористические и детские, повесть «Секретный пакет и стеклянная головка», очерки «Священные горы», «Череп Ивана Грозного», «Мои встречи с Пушкиным», миниатюры о детях публикуются впервые.
Во втором томе собраны стихи, написанные после 1967 года. Лирику и юмористику я не разделял, так как теперь разница между ними для меня стерлась; стихи расположены в хронологическом порядке. Книги «Ракитов куст» и «Подземный переход» публикуются впервые.
Переводы представлены стихотворениями Мориса Карема – в знак моей заочной двадцатилетней дружбы с великим бельгийцем.
В продолжение моих мемуаров «Светлые силы» читатель найдет очерки о Корнее Чуковском, Анне Ахматовой (в нем рассказано также о Н. Я. Мандельштам, Л. К. Чуковской, Ксении Некрасовой и др.), затем о послевоенных московских встречах с кинорежиссером В. Пудовкиным, с А. Толстым, Б. Пастернаком, С. Маршаком, затем о людях «оттепели», включая самого Н. С. Хрущева. О моем учителе С. П. Толстове, о моей покойной жене Т. И. Александровой – авторе знаменитой книги про домовенка Кузьку. В воспоминаниях я использую дневники, которые вел с 1943 года. Непосредственные впечатления порой соседствуют с догадками, гипотезами, литературными заметками. Ранее опубликованные мемуары почти все расширены и доработаны, а многие печатаются в этом издании впервые.
Второй том завершают две очень дорогие мне работы о Пушкине. Первая, «Ранняя любовь Пушкина», – о детстве поэта, воссозданном по мимолетным упоминаниям и «проговоркам», рассыпанным по разным его сочинениям. Во второй – «Лестнице чувств» – речь идет о национальной форме русской народной лирики, о том, как ее открыл, понял и развил Пушкин, а также о двух стихотворениях поэта, которые долгое время считались записями народных песен.
Надеюсь, пестрота моих сочинений не утомит читателя, а наоборот, вызовет интерес к тому, что с отроческих лет не перестает занимать автора.
Валентин Берестов
В ИЗВЕЧНОЙ СМЕНЕ ПОКОЛЕНИЙ
СТИХИ СОРОКОВЫХ ГОДОВ
«К бессмертью человек давно стремится…»
К бессмертью человек давно стремится,
Жизнь смыслом наделить желает он,
Не веря в то, что он на свет родится,
Природою на гибель осужден.
Высокий ум, не знающий предела,
В разладе с жизнью, краткой и пустой.
Из бренного и немощного тела
Он рвется ввысь прекрасною мечтой.
Проходят жизни краткие мгновенья,
Родятся, умирают люди вновь,
Но предков величавые стремленья
Волнуют у потомков дальних кровь.
Так каждый год планета заменяет
Наряд зеленый новою весной,
Но то же солнце, та же мысль сияет
Над обновленною землей.
1942
ПУШКА У ТАШКЕНТСКОГО МУЗЕЯ
Давно уж на кровавой битвы пир
Ее не волокут в упряжке конной.
Давно в земле усатый канонир,
Не пулею, так старостью сраженный.
И зазывая публику в музей,
Для взрослых диво, для детей игрушка,
Лежит на тротуаре у дверей.
И что идет война, не знает пушка.
1942
ПЕСЕНКА ШУТА
Двоюродному брату Володе Похиалайнену
Вот король идет в поход,
За собой войска ведет:
Сто румяных усачей,
Сто веселых трубачей.
И со связкою мечей
Едет старый казначей.
Воробьишка подлетел
И на эту связку сел,
Увидал картонный меч
И повел такую речь:
«Меч картонный средь мечей,
Это чей?»
И король ответил смело:
– А тебе какое дело?
1942
В ЭВАКУАЦИИ
Сады оделись раньше, чем листвою,
Кипеньем белых, розовых цветов.
И кровли плоские с зеленою травою
Лужайками висят среди садов.
Арыка волны мчатся торопливо
Поить, и освежать, и орошать.
Плакучая к ним наклонилась ива
И ловит их, и хочет удержать.
А тень, которую она бросает,
Хотели б волны унести с собой.
На облачко похожий, исчезает
Прозрачный месяц в бездне голубой.
Как пышен юг!
Как странно голодать,
Когда вокруг
Такая благодать!
1942, Ташкент
«В такие дни природа красотою…»
В такие дни природа красотою
Не погрузит в лирические сны.
Закат, горя каймою золотою,
Напомнит кровь и зарева войны.
А там, в эфире вечном и безмолвном,
Который скрыла неба синева,
Я знаю, нет преград радиоволнам,
Несущим миру страшные слова.
1942
О ПОДРАЖАНИИ
В моих стихах находят подражанье
Творениям поэтов дней былых.
Да, для меня их стройное звучанье
Дороже детских опытов моих.
Но вдуматься глубоко: наши чувства,
Сплетенья наших мыслей и идей,
Язык, науки наши и искусства,
Мучения и радости людей,—
Все это получили мы в наследство
От прадедов и дедов.
В наши дни
Привычно начинают люди с детства
Творить все то, что делали они.
А человек, среди лесов рожденный,
Вдали от городов людских и сел,
Их языка, родителей лишенный,
Что б делал он и как себя он вел?
Закон природы слепо исполняя,
Он начал бы животным подражать,
Ни наших дум, ни наших чувств не зная,
Искать еду, жить в норах, умирать.
Пускай ребенок взрослым подражает.
Он вырастет, окрепнет ум.
И что ж?
Себе по воле путь он избирает,
Ни на кого порою не похож.
Так и поэт.
Он подражает много,
Но если он решил и тверд душой,
Ему своя откроется дорога:
Иди по ней и стань самим собой.
1942
ОТЦУ
Отец мой! Ты не шлешь известий
Уж целый год семье родной,
Но дни, когда мы были вместе,
Во сне встают передо мной.
И оживает прожитое: камыш и даль родной реки,
И ты, склонившись над водою,
Глядишь устало в поплавки.
Вновь я, малыш, с тобою рядом
Стою, молчание храня,
А ты таким приветным взглядом
Порою смотришь на меня…
И вновь попутная телега
Стучит, клубится пыль дымком.
И старый конь, устав от бега,
Плетется медленным шажком.
Ни звука тишь не нарушает.
Лишь глупый перепел с утра
Не умолкая повторяет
Все «спать пора» да «спать пора».
И жизнь опять течет сначала,
Все той же радостью полна,
Как будто нас не разлучала неумолимая война.
Как будто были сном кошмарным
Все потрясенья и нужда,
А утро светом лучезарным
Их разогнало без труда.
1942
ТАШКЕНТСКИЕ ТОПОЛЯ
Деревья величавые спилили.
На месте их десяток низких пней.
Вы в виде тополей прекрасны были,
Но стали в виде топлива нужней.
Когда же канет в вечность год печальный
И будет вновь цвести и петь земля,
Не скоро здесь, на улице центральной,
Поднимутся другие тополя.
Тогда померкнут в памяти страданья.
Но иногда в ряду дерев просвет
Пробудит вновь в душе воспоминанья
О муках пережитых грозных лет.
1942
«В извечной смене поколений судьбой гордиться мы должны…»
В извечной смене поколений судьбой гордиться мы должны.
Мы – современники сражений дотоль неслыханной войны.
И хоть удел наш – боль разлуки, хоть нами кинут край родной,
Хотя гнетет нас бремя скуки и серость жизни тыловой,
Хоть больно в лицах изможденных найти глубокие следы
Голодных дней, ночей бессонных, забот вседневных и нужды,
Хоть тяжело однообразье железных дней перенести
И возмущаться этой грязью, повсюду вставшей на пути:
Тем духом мелкого расчета, трусливой жаждой барыша,
Когда под маской патриота скрывают рыло торгаша,
Когда на складах, в ресторане вор верховодит над вором
И в государственном кармане свободно шарят, как в своем,
Когда с досадой, даже злобой пришедших с просьбою помочь
Администратор твердолобый привычным жестом гонит прочь,
Когда, себе готовя смену, калечат матери детей
Привычкой к торгу и обмену, и суете очередей, —
Хоть нас гнетет необходимость, но все мы вынести должны.
Пора понять неповторимость, величье грозное войны,
Неповторимы наши муки, и испытанья, и нужда,
И вспоминая, скажут внуки: «Зачем не жили мы тогда?»
А мы пройдем, хоть путь наш труден, терпя, страдая и борясь,
Сквозь серый дождь тоскливых буден, сквозь голод,
холод, скорбь и грязь.
1942
В ОЧЕРЕДИ
– Посмотри, как нахально втирается дед!
Гражданин, нужно очередь раньше занять!
Что же будет, коль все перестанут стоять?
– Счастье, милые! – мы услыхали в ответ
1943
В ЧИТАЛЬНЕ
День промелькнул за окнами читальни,
Как будто люди жили без меня.
С вокзала я гудок услышал дальний.
Прошел трамвай, сверкая и звеня.
Вы, делавшие мир светлей и лучше!
Вы, жизнь свою отдавшие борьбе!
Спасите нас! Спасите наши души,
Не дайте утонуть в самих себе.
Не дайте превратиться в жалких тварей,
Каких рождала нищая страна:
В Молчалина, учителя в футляре
Иль пескаря из сказки Щедрина.
1943
В «ЧУКОККАЛУ»
Я Тебе, Чуковскому Корнею,
Автору и Деду моему,
Напишу посланье как умею
И размер классический возьму.
Это Ты виновен, что в починке
Я пробыл среди больничных стен,
Получил зеленые ботинки,
Гимнастерку, брюки до колен.
Щеголем с какой-нибудь картинки
Стал я после долгих перемен.
Ты сказал – и сделано. Не странно,
Что всего достичь ты словом мог.
Ведь в Евангелье от Иоанна
Сказано, что слово – это Бог.
1943
ПИСЬМО ОТ БАБУШКИ
Пробудили эти строки
Рой забытых голосов,
Переливчатый, далекий,
Тонкий-тонкий звон часов.
Хорошо, когда приснится
Счастье детского мирка,
Как, любуясь Аустерлицем,
Я водил по половицам
Дутых пуговиц войска,
Как на лаковой иконе
Над кроватями в углу
Лебедями плыли кони
В позолоченную мглу.
1943
ОТГОЛОСОК
1
Вижу я лестницы школьной ступени.
И в окруженье подружек на ней
Ты, героиня моих сновидений,
Ты, собеседница музы моей.
Книжные странствия в зное пампасов,
Свайные хижины папуасов,
Пальмы, пираты, индейцы, ковбои —
Все заслонилось тобою.
Мы не бывали наедине,
Ты и вблизи оставалась мечтою,
И мне казалось, что я не стою
Даже того, чтоб ты снилась мне.
2
На вечере школьном, не зная покоя,
Глаза проглядев, я тебя находил.
Всю школу хотел я наполнить собою,
Толкался, дурачился, пел и шутил.
Как я хотел ничего не скрывать
И, не стыдясь своих рук неуклюжих,
Вырвать тебя из толпы подружек,
Вызвать на танец и другом назвать.
Алые бабочки – ленты на косах,
Милого голоса сдержанный тон.
Так вот всю жизнь и живет отголосок
Этих времен.
1943
ДОМОЙ
Будет день, когда у перрона,
Фыркая, станет поезд мой.
Взбегу по звонким ступенькам вагона.
Гудок прокричит: «Домой! Домой!»
Игрушечно-глиняные кишлаки.
Поля. Тополя. Бесконечные степи.
Дымные контуры горной цепи.
Кофейная гуща бегущей реки.
Степи и горы в зной уплывут.
В пыли растворится последний верблюд.
Сизые кряжи пройдут вдалеке.
Ближе, всё ближе к великой реке.
Скоро там, за стеною лесов,
Напоминая прежние дни,
Вспыхнут знакомых ночных городов
Освобожденные огни.
1943
ЗИМНИЙ БОР
В этот дымный и стынущий бор,
Под его многоскатную крышу,
Я войду, как в морозный узор,
И услышу седое затишье,
Где под белою хвоей снегов
Голубая колышется хвоя,
А на хруст осторожных шагов
Откликается пенье живое.
1943
«С утра разубран в иней городок…»
С утра разубран в иней городок —
Наряд безукоризненный и строгий.
А вместо луж на серебре дороги
Блестит двойными стеклами ледок.
1943
«В лесу молчанье брошенной берлоги…»
В лесу молчанье брошенной берлоги,
Сухая хвоя скрадывает шаг.
Есть радость – заблудиться в трех соснах,
Присесть на пень и не искать дороги.
1943
ДОМ ПО ПУТИ НА КЛАДБИЩЕ
Убивали десятки сверкающих солнечных роз,
Чтобы смерть человеческую украсить,
А дыхание их все лилось, и лилось, и лилось…
Тишина, как во время каникул в нетопленом классе.
Тишина. Словно люди боялись, не смели спугнуть
Золотистую бабочку, севшую на руку трупа.
Брали гроб. Уводили ребенка, молчавшего тупо.
И в волнах похоронного марша последний,
безрадостный путь.
О мученье мое, предкладбищенский тихий квартал —
Каждый день похоронною музыкой душу мне ранил.
И по-своему я не хотел понимать и роптал,
Убегая в лесок полежать на душистой поляне.
1943
КАЛУЖСКИЕ СТРОФЫ
О скромные заметки краеведов
Из жизни наших прадедов и дедов!
Вы врезались мне в память с детских лет.
Не зря я вырезал вас из газет!
1
Восточных ханов иго вековое,
И зарево пожаров над Москвою,
И сборщик дани на твоем дворе…
Все началось на Калке, на Каяле,
А кончилось стояньем на Угре.
(Здесь, удочки держа, и мы стояли.)
2
Болотников боярам задал страху.
Попрятались ярыжки и дьяки.
Нос высунешь – и голова на плаху.
И царь – мужик, и судьи – мужики.
3
Двойного самозванца пестрый стан
Здесь факелы возжег. И в блеске вспышек
Кружась ночною птицей, панна Мнишек
Смущала сны усталых калужан:
«Димитрий жи-и-в!» Но спал упрямый город.
Димитрий лжив. Не тронет никого
Лихое счастье Тушинского вора
С ясновельможной спутницей его.
4
Губернской Талии, калужской Мельпомене
Пришлось по нраву острое перо,
Здесь двести лет назад царил на сцене
Блистательный пройдоха Фигаро.
5
Здесь как-то проезжал поэт влюбленный,
Любовью нежных жен не обделенный,
Но самая прелестная из дев
(Поэт дерзнул сравнить ее с Мадонной)
Ждала его у речки Суходрев.
6
Дом двухэтажный в самом скучном стиле.
Шамиль с семьей здесь ссылку перенес.
И в их кругу семейственном гостили
Полиция, тоска, туберкулез.
7
Названья здешних улиц, в них воспеты
Бунтовщики, гремевшие в веках.
Не позабыты первым горсоветом
Жан-Поль Марат и даже братья Гракх.
8
Здесь Циолковский жил. Землею этой
Засыпан он. Восходит лунный диск.
И на него космической ракетой
Пророчески нацелен обелиск.
А он не думал вечно спать в могиле.
Считал он: «Космос нужен для того,
Чтоб дружным роем люди в нем кружили,
Которые бессмертье заслужили, —
Ведь воскресят их всех до одного!»
Он был великим. Он был гениальным.
Он путь открыл в те звездные края…
Училась у него в епархиальном
Учительница школьная моя.
1943, 1952, 1972
В КОМПАНИИ
Эдуарду Бабаеву
1
Вот так идти бы снова
В распахнутых пальто,
Шарахаясь от рева
Мелькнувшего авто,
Острить и лезть из кожи,
Чтоб всех переорать,
Расталкивать прохожих,
Путей не разбирать.
О этот звонкий вечер,
Когда и черт не брат!
Всегда б такие встречи,
Такие вечера!
2
Темный парк услаждался джазом.
И Венера сияющим глазом
В мир глядела, юна и ясна.
Фонари в золотой паутине,
И в зеленой небесной тине
Пучеглазой кувшинкой луна.
1943
«В черные ямы-тени…»
В черные ямы-тени,
Знаю, не провалюсь.
В лапы воров-привидений,
Знаю, не попадусь.
И огоньком приветным
Светит мне память свиданья,
Делая незаметным
Пройденное расстоянье.
1943
«Незабвенной бессонницей ночь дорога…»
Незабвенной бессонницей ночь дорога.
В шуме ветра, в назойливом звоне цикад
Отпылала заря и ушла в берега,
И волна за волной откатилась назад.
Предо мной все, чем полон полуночный сад,—
Вздохи ветра и звезды в просветах аллей,
И трепещущей тканью стихов и цикад —
Образ твой в голубой полумгле.
1943
«Но ты реальна, и слишком даже…»
Но ты реальна, и слишком даже,
А голос твой просто груб,
И слово, родящее столько миражей,
Так редко слетает с губ.
Предусмотрительная, сухая.
Трезвый и ясный взор.
Пошлостью благоухает
Задушевнейший разговор.
Детским этюдом в четыре руки
Показалось мне все, что было.
Может быть, лучше, что мы далеки,
И разлука вовремя наступила.
1943
«Жизнь моя лежит еще вчерне…»
Жизнь моя лежит еще вчерне.
Может быть, и все ее тревоги
Только для того, чтобы верней
Их, созрев, оставить у дороги.
1943
«Ей дали порядковый номер. Сполна…»
Ей дали порядковый номер. Сполна,
По титулам называя,
Парадно ее именуют – Война
Вторая, Отечественная, Мировая,
И люди словно привыкли к ней,
Томясь повседневной бедой и славой,
Как ожиданием (столько дней!)
В вокзальной сумятице и суетне
Задержавшегося состава.
1943
РОКОВАЯ ЧАША
Война! Секирой над головою
Ее внезапная прямота.
Весть о ней чашею круговою
Переходила из уст в уста.
И все мы пригубили, все мы выпили
Из чаши грозившей каждому гибели.
И каждый, кто ждал ее поздно иль рано,
В то утро был ею застигнут врасплох.
И каждый по-своему, все были пьяны,
Все дико; и крик, и молчанье, и вздох.
И если иные с сухими глазами
Молчали, предвидя жребий свой,
И если, захлебываясь слезами,
Плакали женщины наперебой,
То мы от убийственного вина
Носились по улицам в шумном веселье,
Самозабвенно кричали «Война!»,
Наслаждаясь тупым металлическим звоном
Слова этого, эхом сырым повторенным,
Пока не пришло похмелье…
1943
КАЛУГА, 1941
1
Навеки из ворот сосновых,
Веселым маршем оглушен,
В ремнях скрипучих, в касках новых
Ушел знакомый гарнизон.
Идут, идут в огонь заката
Бойцы, румяные солдаты.
А мы привыкли их встречать
И вместе праздничные даты
Под их оркестры отмечать.
Идут, молчат, глядят в затылок,
И многим чудится из них,
Что здесь они не только милых,
А всех оставили одних.
Вот так, свернув шинели в скатки,
Они и раньше мимо нас
Шагали в боевом порядке,
Но возвращались каждый раз.
«И-эх, Калуга!» – строй встревожил
Прощальный возглас. И умолк.
А вслед, ликуя, босоножил
Наш глупый, наш ребячий полк.
2
Каждый вечер так было. Заноют, завоют гудки.
Женский голос из рупора твердо и строго
Повторит многократно: «Тревога! Тревога!
Тревога!»
Суетливые женщины, стайки детей, старики,
Впопыхах что попало схвативши с собою,
В новых платьях, в парадных костюмах,
как будто на бал,
Устремлялись толпою
В подвал…
3
А мы еще вместе. Но рядом разлука,
Которой нельзя миновать.
Отец не спит, ожидая стука.
Слезы глотает мать.
4
Не по-русски, а вроде по-русски.
Необычен распев голосов.
Белоруски они, белоруски.
Из лесов. Из горящих лесов.
Гром войны. Громыханье телеги.
Разбомбленный, расстрелянный шлях.
И на скорую руку ночлеги
В стороне от дороги, в полях.
5
Пейзажа не было. Его смели и смяли
И затоптали… Лишь густая пыль
Да медленное умиранье солнца.
И снова пыль. И люди, люди, люди.
Стада, телеги – все одним потоком
Катилось. Шумы, окрики, слова
Слились в единый гул, роптавший глухо.
И желтые вечерние лучи
Ложились тяжкими последними мазками
На спины уходящих… Тучи пыли
Мгновенно скрыли от сторонних глаз
Позор и горечь шествия… А я,
Встречая уходящих на восток,
Прощался с детством.
1943, 1971
ЗНОЙ
Как расшалившийся узбечонок,
Ветер прыгал и гикал в пыли.
Деревья с надеждою обреченных
Ждали, гадали, но тучи прошли.
И стало глуше и суше, чем прежде.
Солнце пекло, обжигая дома.
Обманувшись в последней своей надежде,
Степь сходила с ума.
1943
ТАШКЕНТСКАЯ ЗИМА
Тяжелые жаркие зданья,
Горячая синева.
Гнилой мишурой увяданья
Посвечивает листва.
Туманом небо оденется,
Дождик собьет листву.
И сразу все переменится
Как бы по волшебству.
На грязном, сером и желтом —
Снежная бахрома.
Гостем, ввалившимся с холода,
В город войдет зима.
На сквере, в снега закованном,
Сквозь хлопья блеснут фонари.
И будет он заколдованным,
Белым всю ночь до зари.
А утро… Ожившему миру оно
Готовит иные сюрпризы.
Сосульками иллюминированы
Сверкающие карнизы.
Обходят ручьи пешеходы.
Гремит капели оркестр.
Четыре времени года —
И все за один присест!
И перемена погоды
Как перемена мест.
1943
ТАШКЕНТСКАЯ ВЕСНА
1
Солнце! И арба в рассвете гулком
Месит грязь, дорогу бороздя.
Солнце! И клочки по закоулкам
От ночной сумятицы дождя.
Мгла рассеивалась, и росли в ней,
Солнцу подставляя синий снег,
Горы – насылательницы ливней,
Горы – прародительницы рек.
2
А весна еще не оперилась
И на дне иссохшего дупла
В листья прошлогодние зарылась,
Из сухих ветвей гнездо свила.
И не подгадать, как яркой ранью
Опустеет теплое дупло.
Вновь – листва, кипенье, щебетанье,
Вспенилось, запело, зацвело.
3
Снова кислой глиною дувалов
Пахнет ветер, пыльный и шальной.
Снова тополевым, небывалым
Мой Ташкент встает передо мной.
Будто лишь деревья, а не люди
В тесных двориках живут.
Против шерсти гладя, ветер будит
Заспанную, смятую листву.
А навстречу буйному рассвету
Тополя, сомкнувшие ряды,
Все передают, как эстафету,
Дворики, арыки и сады.
1944
ВЕСЕННИЙ ЛИВЕНЬ
Поют сады
На все лады,
Хоть полон рот воды.
1944
ВЕСНА В СТАРОМ ГОРОДЕ
Тупики замыкаются слепо,
Где нависли слепые дома,
Глинобитная сбитая крепость,
Замурованной Азии слепок…
На задворках стоит полутьма.
Ветер ветви чинары колышет.
И зеленые плоские крыши,
Как ступеньки, сбегают с холма.
День рождался вместе с апрелем,
Утро стряхивало испуг
Синей ночи. И детским весельем
Разливался флейтовый звук.
Этот воздух, поющий тонко!
Сыплют бубны грохот и звон.
Так приветствовали ребенка.
Нынче ночью родился он.
И какой-то скуластый, бойкий,
Гуттаперчевый акробат
Щелкал пальцами, делал стойки,
На земле расстелив халат.
1944








