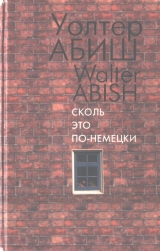
Текст книги "Сколь это по-немецки"
Автор книги: Уолтер Абиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 27 страниц)
(24) Центральное место в книге по праву занимает «В стольких словах» – второй из рассказов, использующих алфавитночисловые соображения. Именно здесь наконец явно проигрывается тема грядущего – потенциального и, следовательно, уже существующего – совершенства, вынесенная в название книги и лишь косвенно, исподволь затронутая до сих пор; причем по ходу развития этой темы традиционная абишевская ирония обретает в описании столь ему близкого американско-манхэттенского совершенства саркастическую желчность. Каждому фрагменту рассказа предшествует алфавитный список всех задействованных в нем слов, а каждому из двух этих парных абзацев предпослано еще и свое число – число входящих в него слов (подобное количественное «взвешивание» отрывков текста будет употребляться Абишем и дальше, например, в сборнике «99: новое значение»),
(25) Чтение утративших смысловые связи слов основного текста оказывается на удивление провокативным. В первую очередь бросаются в глаза странные, побочные по отношению к авторскому повествованию отношения, в которые подчас вступают меж собой, случайно встретившись, слова, причем слова отнюдь не случайные, слова, за которыми стоит вполне определенная – описываемая в рассказе – реальность. С чисто формальной точки зрения, их бессвязный алфавитный набор несет тем не менее в себе ту информацию, которая путем всяческих пермутаций и комбинаций и приводит к появлению текста. Рождение смысла из подобной комбинаторики – зрелище само по себе достаточно впечатляющее. С другой стороны, сопоставление двух текстов выпукло представляет лингвистический бином парадигматика/синтагматика, безусловно существенный для писателя, пытающегося разобраться в магии языковой реальности и занятого раскрытием различных стадий донарративного состояния языка, причем все это происходит в игровой манере, порождающей то иронические, то чисто юмористические эффекты.
(33) Ясно, что действенности этого метода во многом способствует аналитический строй английского языка, в котором слова не ведают перемен и готовы к никого не затрагивающему общению с себе подобными, и при переводе на флективный, склоняюще-спрягающе-чередующий русский его эффект несколько ослабевает, а сам перевод вновь требует принятия тех или иных волюнтаристских решений (на явной формулировке которых мы не будем здесь останавливаться).
(21) Уникален этот рассказ и еще в одном отношении. Из всех девятнадцати текстов, составивших два первых сборника Абиша, только здесь главная героиня, носительница пресловутого совершенства, не имеет собственного имени, фигурирует просто как «она». Не означает ли это, что совершенство, излюбленная мишень абишевской иронии, не выносит индивидуальности, требует анонимности, безличности? не нуждается, в силу привычности, в имени?
(20) Тут вступает еще один аспект: как и некоторые другие современные писатели, Абиш не только членит на фрагменты отдельные тексты, превращая их в самостоятельные puzzles, но и подстраивает свои тексты в некий объемлющий их глобальный Puzzle. Смыкаются друг с другом сцены, сюжеты, события. Из рассказа в рассказ дрейфуют одни и те же предметы, образы, ситуации и даже фразы. Женщины то и дело припадают к полу, к белому ворсистому ковру; в текст вдруг вступают какие-то VIP: «тут вступает…». В различных рассказах появляются одни и те же (или одноименные?) персонажи, особенно это характерно для более сложно организованного сборника «Мысли сходятся», в котором обнаруживаются и некоторые обитатели «В совершенном будущем», причем в персонажи попадают и совершеннейшие чужаки – такие как Жан Люк Годар (хоть сменивший свое имя) и Марсель Пруст, но самым эффектным образом препарирован там Наполеон: в завершающем сборник рассказе действуют не только новичок, мистер Бон, и уже ранее появлявшийся в книге мистер Ол; вскользь рассказчик вдруг роняет, что его самого зовут Нап… Смычку двух сборников помимо прочего осуществляет и один из ключевых образов Абиша – пустыня как зона, очищенная не просто от привычного, а от самой оппозиции привычное/непривычное, где все в равной степени и привычно, и непривычно. Особенно показателен в этом отношении рассказ «С Биллом в пустыне» из сборника «Мысли сходятся», в первой части которого два героя с полной серьезностью «играют» в пустыню в своей манхэттенской квартире, а во второй действие и вправду переносится на Африканский континент. Даже отношение между «Английским парком» и «Сколь это по-немецки» следует трактовать не только в плане генетическом, но и в плане взаимодополняемости.
(23) Хотелось бы сразу подчеркнуть еще один аспект, который роднит эти рассказы с несколько по-иному ориентированным грядущим романом. Несмотря на весьма точное, реалистическое (у критиков в ходу сравнение с фотореализмом; ср. также соседство внутри «В стольких словах» литографии Розенквиста и книги «Азбучная Африка») воспроизведение американских (в настоящем сборнике прежде всего манхэттенских) реалий, Абиш сплошь и рядом работает не прямо с действительностью, а с (социальными) знаками, несущими для «своего» читателя куда больший информативно-контекстный заряд: это и упоминание о герое популярного в эпоху написания рассказов телесериала Манниксе (Man X?), и топография повествования, будь то Мэдисон – или Лексингтон-авеню, Бауэри-стрит (весьма характерные нью-йоркские улицы) или Медвежья гора (курортная зона в штате Нью-Джерси). Для американского, то есть предполагающегося Абишем, читателя это не просто реалии, а именно знаки, причем куда более внятные и недвусмысленные, нежели те общекультурные знаковые представления о Германии, на основе которых он возводит романную действительность своей Германии.
(32) Юмор, смягчающий в рассказах Абиша постоянную нотку сарказма, играет в их восприятии ключевую роль. Не секрет, что в больших дозах ирония, лишенная юмора, обращается скепсисом, скатывается к весьма мрачной мизантропии или к самодовольству уверенной в своей непогрешимости сатиры. Ирония же, специфически абишевская ирония, пронизывает все его тексты, и причиной этому не только психологический склад писателя, но и последствия принятой им модели письма. Дело в том, что витгенштейновский треугольник реальность – мысль – язык мешает абсолютизировать в повествовании любую из своих вершин, и это с необходимостью приводит к двусмысленности, неоднозначности – не стратегии писателя, а ее результата, текста, – чаще всего приобретающей характер имманентной, в противоположность романтикам, тексту иронии. Единственной панацеей от перерастания подобной глобальной иронии в универсальный сарказм или самодовольство нравоучения служит обязательное ее приложение к самому автору (или хотя бы к его тексту), с блеском реализуемое Абишем во всех его рассказах. На помощь ему тут, в частности, приходит и то, что почти все они написаны от первого лица или по крайней мере несут в себе его иронически поданную инстанцию. Сложнее дело обстоит с романом: на протяжении большой формы авторский голос лишен здесь возможности сказать «я», и его абстрактная ироничность не в состоянии смягчить достаточно жесткий сарказм в отношении, например, Брумхольда-Хайдеггера; тот же отстраненный взгляд на персонажей, что и в рассказах, без былого юмора начинает вдруг отдавать неприязнью к ним, которая была просто немыслима в универсуме рассказов. По всей видимости, чувствует это и сам автор – по крайней мере, так можно трактовать его постоянные напоминания в интервью об игровом характере романа, о произвольном характере финальной сцены и, прямо-таки подтверждая наш рецепт, о том, что эта сцена воспроизводит случай, который произошел с ним лично…
(13) Любитель и знаток фотографии и кино, Абиш охотно ссылается на поверхностность своих текстов. Подчеркнуто языковая стратегия письма отнюдь не противоречит своеобразной кинематографичности его прозы; мы словно смотрим на мир через объектив кинокамеры, использующей для изображения вместо стихии света стихию слова, и эта смешанная стратегия при всей своей кажущейся парадоксальности («говорить – совсем не то, что видеть» – Морис Бланшо) сулит совершенно неожиданные достижения. Поверхность, являющаяся, согласно Делезу, вотчиной смысла, противопоставляется Абишем манящим неизвестно куда поискам глубины – мудрости и понимания. Только через поверхность можем мы воспринять непривычное и свыкнуться с ним – отсюда, в частности, и повторяющийся мотив раскраски как поверхностного посредника в общении с объемным, объемлющим в своей непривычности, миром.
(5) Да, нет ничего соблазнительнее сулящей освоение непривычного поверхности. Больше всего смыслов рождается именно из соприкосновения, из легкого и игривого касания, и Абиш, которого «на самом деле не занимает язык, а… в основном занимает смысл», никогда не проникает за событийную поверхность, а скользит по ее пленке. С этим связана и полная замкнутость, парменидовская шарообразность взыскующего совершенства мира Абиша, зовется ли он Америкой или Германией: здесь просто невозможно помыслить о каком-либо хайдеггеровском экстазе. Подчеркивается это, в частности, изобилием сексуальных (при отсутствии эротических) сцен, за которое ему подчас пеняют ревнители морали; ведь пол – та точка, где естественнее всего ждать хоть какого-то экстаза, «в постели хочешь, ждешь, жаждешь кроме совершенства чего-то еще». Но в мире Абиша женщины – лишь сексуальные образы образов желания, в экономике которого они и функционируют на уровне кредитных карт.
(2) Было бы слишком просто бездумно приписывать творчество Абиша к расплывчатому континенту постмодернизма, хотя все критики, конечно же, дружно сходятся в том, что именно по этому ведомству оно и проходит. На самом деле Абиш в первую очередь связан с постмодернизмом тем, что он – пусть и без вопросительных знаков – ставит под вопрос сами его постулаты и выводы (которые, надо сказать, порой неотличимы друг от друга). К примеру, такой: мир состоит из случайных, произвольно связанных меж собой элементов. Или: любая попытка отыскать в нем смысл привносит в него вымысел. Или: текст в конечном счете отсылает сам к себе и, по сути дела, не связан с внешним миром. Именно логически выправленная (безопасная ли?) бритва иронического, то есть сомневающегося в собственной непогрешимости, анализа и является основным инструментом Абиша. «Аналитический постмодернизм»?
(26) Шумный успех «Сколь это по-немецки», второго, а если вспомнить об экстравагантной форме «Азбучной Африки», то, по сути, первого романа писателя, обострил внимание критики к его творчеству и вызвал волну критических откликов. Основной массив первых отзывов ставил своей целью «довести» почти реалистический роман Абиша до полного – привычного – реализма; немудрено, что в первую очередь критическая братия экзальтированно восхищалась мастерством (?) писателя, так точно описавшего страну, в которой он ни разу не был, хотя на самом деле преследуемую им демифологизацию коллективных представлений много легче осуществить именно на таком, уже по-своему остраненном материале. Слово «демифологизация» появляется здесь не случайно: если в предыдущих книгах Абиш занимался остранением в области семиотики языка (его занимали отношения между означаемым и означающим, сами механизмы означивания и референции), то в романе он подходит с той же программой к социальным и культурным структурам: от языковой семиотики он переходит к семиотике культурной. Теперь он остраняет не столько язык, определяющий его повествование, сколько те культурные структуры, которыми определены – и определяют себя – в повествовании его персонажи. Тем самым эта книга вторит по своей интенции знаменитым «Мифологиям» Ролана Барта; особенно бросается это в глаза в отношении «вставного» сюжета, анализа Абишем обложки журнала «Тrеие» с фотографией Гизелы и Эгона.
(19) С «реализмом» повествования тесно смыкается предельно точный описательный тон романа, целью которого вроде бы является представить изображаемый в романе мир естественным, показать, что на его счет не может быть разных мнений. Посему так много выражений вроде «ясно», «наверняка», «конечно» или «несомненно» – особенно на первых страницах, сразу показывающих, что мы находимся в привычном мире, где все дороги ведут туда, куда и должны вести. Но в то же время эта подчеркнутая, чуть ли не навязчивая точность порождает и обратный эффект остранения, ибо нам, ведомым нарративным голосом, невольно приходится останавливаться на тех моментах, которые обычно – в силу их полной привычности – остаются за кадром нашего внимания; нам теперь нужно осмыслить, далеко ли распространяется сфера привычного уже в нашем собственном обустройстве бытия.
(14) Можно, пожалуй, согласиться с Малькольмом Бредбери в том, что «Сколь это по-немецки» вырастает из «Английского парка», – тем интереснее проследить происшедшие изменения. В более раннем тексте имелся рассказчик, безымянный американский писатель (по случайности, возможно, и Уолтер Абиш), повествовавший от первого лица, и дистанция между Германией и не Германией (Америкой) была тем самым введена внутрь текста, влившись в само повествование. В романе же исчез и повествователь, и внешний по отношению к Германии явно выстроенный контекст. При этом, с одной стороны, мы, особенно поначалу, невольно отождествляем себя с Ульрихом Харгенау (напомним, что в «Английском парке» его место занимал достаточно двусмысленный образ Вильгельма Ауса, чьи инициалы, между прочим, совпадают в оригинале с инициалами самого Уолтера, по-немецки Вальтера, Абиша), а с другой, побуждаемы отсутствующим рассказчиком еще более подчеркнуто соизмерять «немецкость» окружающего и происходящего, соотносясь с какой-то мифологизированной парадигмой. Последствия этому многочисленны, и некоторые из них представляются довольно опасными.
(8) Желательно, помимо всего прочего, не забывать, что мы воспринимаем роман, уже, так сказать, потеряв невинность. Мы читаем «Сколь это по-немецки», уже зная диспозицию, предложенную в «Английском парке», диспозицию одновременно более жесткую по формальной схеме и более априорно жестокую в отношении Германии, но и более, повторимся, доброжелательную к своим персонажам, более человечную из-за включенности в нее повествовательного «я». Когда в начале третьей части романа, к примеру, на фоне разговора о Дюрере впервые между делом упоминается лагерь Дурст, мы уже знаем, что Дурст – это концлагерь, небольшая, но законченная (совершенная) фабрика смерти, хотя в романе кроме подчеркнуто мимолетного упоминания о демонтаже газовых камер нет особых намеков на его мрачную роль – так, тюрьма как тюрьма.
(4) Готовность читателя с самого начала «встать на сторону» Ульриха, то есть воспринять его в качестве центрального, подменяющего собою нарратора, персонажа, морального фокуса повествования, исподволь расшатывается автором – причем без всякой его в глазах читателя дискредитации. Многие критики, стремящиеся вычитать из текста канонический, неподвижный, четко формулируемый смысл, строят его на противопоставлении двух братьев, Ульриха и Хельмута. Например, Фредерик Карл в своей книге «Американская беллетристика, 1940–1980» пишет, что Хельмут представляет собой новую Германию – это зодчий за постройкой нового общества, который проходится по старому бульдозером, будто по пустому месту. Он – воплощенная энергия, целенаправленность. Он глух к моральным или этическим соображениям и стремится только к свершениям, для которых ему совершенно ни к чему воспоминания. Ульрих же, с другой стороны, наделен тонкой чувствительностью. Он – романист, отчасти поэт, человек, который хочет разобраться со своими воспоминаниями. Он живет в языке, и язык для него отсылает к вещам: это не просто слова, подменяющие собой вещи. Однако Хельмут отнюдь не такой конформист, как кажется Карлу, он, как правило, непредсказуем, и именно он сплошь и рядом нарушает покой окружающих упоминанием об уродливом прошлом, к примеру, это в основном он упоминает в романе о существовании Дурста. С другой стороны, Ульрих своими романами как раз и пытается стереть то или иное прошлое («стереть все, что предшествовало его поездке в Париж»), а некоторая его отстраненность и невовлеченность постепенно приобретает малоприятные черты. К этому добавляется еще и амбивалентная тема терроризма, которая расположена под столь непонятным углом и к прошлому, и ко всему, что происходит в романе, что ее (как, впрочем, и всю последнюю часть романа) критика предпочитает не обсуждать…
(27) Щедрый подчас на чуть ли не казуистическое прослеживание возможных мотивировок и аргументаций, Абиш всячески избегает прямолинейных психологических или этических характеристик того или иного персонажа; все, за исключением поначалу Ульриха, подаются, по сути, через свои действия, причем в поведении каждого непременно появляются остраняющие его образ, неожиданные для неминуемо вырабатывающего свой стереотип читателя поступки. Вереница побочных героев, каждый из которых непонятен – и психологически, и событийно – сам по себе, сплетается при этом во вполне вразумительную ткань, где лакуны – или их, этих героев, тайны – ничуть не более разрушают общую картину, чем то происходит в реальной жизни, в которой мы тоже мало что знаем позитивным знанием – и о себе, и об окружающих (вспомним и про «всегда питаемое им [Ульрихом] убеждение, что ничто не является тем, чем кажется на первый взгляд»), А пресловутое отсутствие вопросительного знака в заглавии вполне согласуется с тем, что две «детективные» линии повествования: поиск-расследование преступлений конкретно-данных (акты терроризма, покушения) и преступлений метафизически-подразумеваемых (Третий Рейх, холокост), иначе – поиск идентичности героя и поиск идентичности «Германии», не могут, конечно, получить в романе конкретного ответа, как не получает разрешения и детектив жизни его героя.
(9) Загадочное изображение странного всадника (на ум невольно приходят и его апокалиптические коллеги с гравюры Дюрера, и другой, еще более дюреровский всадник – в сопровождении смерти и дьявола) появляется в раскраске, присланной Ульриху Дафной, и среди фотографий Риты, где оно представляет стрелявшего в Хельмута, с обложки книги, куда, в свою очередь, попало со случайно подвернувшейся писателю на глаза старой фотографии его жены, известного скульптора и фотографа Сесил Абиш. Фотография эта, несмотря на почетное и эмблематичное место в (и на) романе, по сю пору вызывает дружную неприязнь издателей, а подчас, как, например, в случае немецкого издания (о котором отдельный разговор – после написания «Сколь это по-немецки» все книги Абиша неукоснительно и оперативно переводятся на немецкий язык), и становится объектом препирательств – интересно, имеется ли она на обложке этой книги?
(10) Итак, по самому своему смыслу и замыслу «Сколь это по-немецки» – текст межкультурный, межнациональный; он вырастает на территории, определяемой дистанцией между Германией реальной и коллективной мифологемой Запада, Германией, какою ее представляет себе Америка, причем оптику восприятия этого расстояния осложняет еврейский глаз писателя-космополита. Посему нам остаются непонятны некоторые претензии американских читателей романа («Так сменил или нет Хельмут свою сексуальную ориентацию?», «Каковы отношения Паулы и Дафны?»), зато нам в отличие от них приоткрывается другой вопрос: если стремящаяся к беспамятству Новая Германия остается связанной с Третьим Рейхом, а с другой стороны – столь привычна на американский взгляд, не следует ли отсюда определенная близость этого самого Третьего Рейха и современных США? И чтобы довести эту мысль до конца, не побоимся все же поставить вопросительный знак: сколь немецки мы сами?
В. Лапицкий








