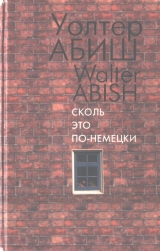
Текст книги "Сколь это по-немецки"
Автор книги: Уолтер Абиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
СКОЛЬ ЭТО ПО-НЕМЕЦКИ
И вновь для Сесил
На кону в действительности то представление, которое о себе имеешь.
Жан Люк Годар
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НА ГРАНИ ЗАБВЕНИЯ
1
Какие слова скорее всего услышишь по прибытии в немецкий аэропорт из Франции?
Бонжур?
Или гутен таг?
Или паспорт, битте?
И как прозвучит для немецкого уха имя Ульрих Харгенау? Не напоминает ли фамилия Харгенау изучающему паспорт чиновнику о недавнем – по правде, не таком уж недавнем – судебном процессе, на котором была установлена связь Харгенау – по крайней мере, некоторых из Харгенау – с тем, что пресса окрестила патологической и маниакальной попыткой свергнуть демократическое правительство Бундес республики?
Ульриху, однако, ничто уже не грозит. Его не спрашивают: по какой причине вы направляетесь в Германию и как долго собираетесь здесь пробыть? Очевидно, к его случаю этот вопрос не подходит. Обычно, какою бы ни была цель приезжего, на подобный вопрос отвечают: приятно провести время. Так оно или нет, но приятное времяпрепровождение вызывает полное понимание и приятие. Это правильный ответ. Должный ответ. Разве для поездки в Германию не достаточно просто желания приятно провести время. Полюбоваться уцелевшими немецкими замками, церквями, соборами. Несомненно, что бы ни приводило людей в Германию, это не может помешать осмотру величественной барочной и готической архитектуры, путешествию к немногочисленным романтично возвышающимся по берегам Рейна замкам, посещению того или иного посвященного музыке Вагнера или Бетховена фестиваля, когда час за часом внимаешь божественной музыке, растянувшись на душистой траве, а задником сцены служат Баварские горы. А сколько там работ Дюрера или Кранаха, Гольбейна Младшего, Конрада Вица, Мартина Шонгауэра, Лохнера, Бальдунга, Бройна, Амбергера, да еще и изумительный Изенгеймский алтарь Матиса Грюневальда в городском музее Кольмара. Но этим причины, по которым люди приезжают в Германию, не исчерпываются. Они приезжают, чтобы присмотреться к своему прошлому, навестить родственников или места, где родились их родители. Приезжают, чтобы открыть заново свои немецкие корни. А также навестить могилу Гёте и побродить по немецким лесам, впитать ту духовную привязанность к природе, которая лежит в основе всего немецкого. Они стекаются толпами, чтобы изучать музыку или драму или же посещать лекции Брумхольда, который, хотя ему уже и далеко за семьдесят, все еще преподает в Вюртенбурге. Следует добавить, что подчас попадает в Германию и иностранный писатель, стремящийся привлечь внимание к вышедшему немецкому переводу его книги. Немцы, в общем и целом, жадны до чтения. Они уважают книги, уважают печатное слово. Конечно, писатели приезжают в Германию и собирать материал. Они могут воспользоваться любым из великолепных архивов Бонна, Мюнхена, Нюрнберга или Берлина. Скрупулезно ведущиеся архивы восходят к эпохе Дюрера. Что-нибудь в архивах найдется про каждого. И про Харгенау? Тем паче про Харгенау.
Конечно, как немцу возвращение Ульриху после полугодового отсутствия гарантировано. В этом не может быть никаких сомнений. И проходит оно, насколько он может судить, незамеченным. Более нет никаких оснований включать его имя в какой бы то ни было черный список. Харгенау – добропорядочные, уважаемые немцы. Из лучших. Он может приезжать и уезжать когда захочет. Во Францию? Почему бы и нет? В любви ко всему французскому нет ничего необычного. Она не вызывает нападок. Прошлое уже забыто.
Ну а приезжие французы? Их в самолете с Ульрихом было несколько. Что же, скорее всего, первым делом бросится им в глаза?
Несомненно, чистота. Безукоризненная чистота. Как и пронизывающее все вокруг ощущение порядка. Успокоительная надежность. Пунктуальность. Чуть ли не одержимость пунктуальностью. И потом, конечно же, новая, поразительная архитектура. Новаторская? Едва ли. Творчески раскрепощенная? Да нет. Но свободная от былой мрачной и властной тяжеловесности. Возврат к экспериментам Баухауза? Увы, нет. Но все же нельзя не сказать добрых слов в адрес широкого использования в новых пятнадцати-двадцатиэтажных зданиях стекла, в котором отражается не только небо; в него, как в зеркало, смотрятся и более старые исторические кварталы – скопления зданий, тщательно восстановленные в попытке целиком воспроизвести уничтоженные в последней войне районы.
Разве могут не произвести впечатления на гостя из Франции, или Швейцарии, или Америки благовоспитанные, доброжелательные и дисциплинированные люди на улицах, в суете магазинов, в живописно заполненных ресторанах, на неизменно пользующихся успехом спектаклях, в опере. Немцы, как правило, просто счастливы помочь чужаку, иностранцу. По правде говоря, время от времени – но такое может произойти где угодно – сквозь уравновешенную и приятную поверхность внезапно прорывается неистовство, неожиданное насилие, вспышка, отдающаяся стуком пивных кружек по столу, пока те не разлетаются вдребезги, и оттененная гневным выражением на раскрасневшихся широких и мясистых лицах, которое на фоне черных кожаных пальто и черных кожаных перчаток может показаться куда более пугающим, более угрожающим, чем то может быть на самом деле. Но, за исключением этого время от времени случающегося срыва, приехавший в Германию, в Вюртенбург, невольно оказывается ошеломлен замечательно спроектированными скоростными автострадами, die Autobahn; быстроходными добротными автомобилями, сверкающими «мерседесами», «ауди», «БМВ», «порше», «фольксвагенами»; бодрыми, добродушными, вызывающими доверие лицами; процветающими среди изобилия товаров магазинами и супермаркетами; великолепными пейзажами, die Landschaft, тихими сосновыми лесами, озерами, Баварскими горами и голубым небом, der blаие Himmel; а также нарождающейся новой Германией: промышленными комплексами, отлично спроектированными насыпями и мостами, современными фермами, новыми городскими центрами – одним из примеров которых может служить Брумхольдштейн, названный в честь философа Брумхольда, – и большим количеством высоких белокурых мужчин и женщин, многие из которых носят кожаные пальто и куртки. Но откуда это любопытное пристрастие к коже?
И где остановиться приехавшему в Вюртенбург?
В одно-, двух-, трех – или четырехзвездочном отеле, в Gasthaus, в квартире или меблированных комнатах, которые можно снять на неделю или сезон. Но удобнее всего – в одном из лучших отелей, все еще гордящихся педантичностью своего обслуживания, своей кухней и отлично обученным многоязычным персоналом.
Ульрих Харгенау ставит в гостиничном журнале привычный росчерк.
Никаких ненужных вопросов. В нем сразу распознали и приняли немца. Привычна даже его фамилия. А лицо? Да, семейство Харгенау хорошо известно в Вюртенбурге. Ни для кого не секрет, что в определенных кругах его отца, Ульриха фон Харгенау, считают героем. Харгенау? Ну да. Тот малый, которого казнили в 44-м. Этим все сказано.
Комната 702. Вид на реку. И, так уж случилось, вид на тот самый район, где он прожил с Паулой пять лет. Пять ли? Это просторная, симпатичная комната с двумя стоящими рядом кроватями. Огромное, высоченное зеркало над каминной полкой. На окнах – тяжелые дубовые ставни. Роскошные стулья смотрят друг на друга через черный квадрат стола. Свежие цветы в высокой синей вазе. Изящный штрих. До телефона можно дотянуться с кровати. Едва заметно пахнет скипидаром.
Его брат занимает в телефонной книге Вюртенбурга три отдельные строки. Одна для офиса, две другие для дома.
Его брат во время телефонного разговора не скрывает своего раздражения. Ты вернулся в Германию и не удосужился меня оповестить, что сюда собираешься? Ты остановился в гостинице? Позвонишь мне через несколько дней? У тебя все в порядке?
В наши дни можно ехать в Германию, не опасаясь неминуемого столкновения с кем-то из представителей власти. Нет, не осталось ни малейших причин хоть в чем-то бояться немцев. Любой страх, если он все еще сохранился, если все еще дремлет в приезжем, просто-напросто нелеп и нереалистичен. Это страх, оставшийся от совершенно иного периода, и скорее всего он представляет лишь глубоко захороненное желание сохранить образ немцев как в массе своей опасных и тяготеющих к разрушению, склонных уничтожить и искоренить все, что хотя бы отдаленно может представлять угрозу для их существования. Нет. Как можно бояться немцев теперь, когда они до такой степени напоминают все остальные устойчивые постиндустриальные, технологически развитые нации; когда их здания избавились от внутренне присущей им немецкости – они просто, как и все изготовленное в Германии, хорошо построены, добротны и, похоже, долговечны; а их язык, die deutsche Sprache, как уже когда-то было, вновь заимствует слова из других языков. И все же, несмотря на сомнительные инородные элементы в сегодняшнем языке, немецкий до сих пор остается средством осуществления и ключом к восприятию метафизических исканий Брумхольда; этот язык и позволил ему, ведущему немецкому философу, сформулировать вопросы и решения, которые продолжали ускользать от франко – и англоговорящих метафизиков. Сколь это по-немецки? вполне мог спросить Брумхольд о своих метафизических исканиях, которые укоренены в богатой, темной почве Шварцвальда, укоренены в угрюмом, намеренно одиноком существовании, черпающем свою страсть, свою энергию и тягу к точности у пологих холмов, сосновых лесов и у замершей в неподвижности фигуры лесника в зеленой форме. Точно так же Брумхольд вполне мог бы спросись и о языке, насколько он все еще немецкий? Не приобрел ли он, столкнувшись с таким количеством иностранных материй, иностранных языков и опыта, в очередной раз чуждые примеси, этакую грязцу вроде слов о’кей или кола, топлесс или супермаркет, уик-энд или секс-шоп, не вобрал ли тем самым в себя означающие, по большей части окрашенные весьма декадентским материализмом? Или же все это касается уже не грамотеев, учителей или писателей, а только бизнесменов, которые денно и нощно пытаются продать посудомоечные машины жителям Эфиопии?
Как бы там ни было, вполне возможно, что иностранец, например француз, добираясь до Вюртенбурга, так и не заметит ни одной явственно немецкой черты, ведь дома здесь похожи теперь на дома во многих других европейских городах, а приземлившись, чужак обнаруживает, что новый аэропорт как две капли воды похож на новые аэропорты, разбросанные по всему миру, в Рио-де-Жанейро, в Лос-Анджелесе, Денвере или Дейтоне. Это само по себе раскрепощает. Ну не естественно ли предположить, что, по мере того как все предметы начинают выглядеть схоже, всеобщий характер конструктивных решений глубоко затрагивает и самих людей, так что немцы, французы и американцы думают и действуют все более и более схожим образом? В результате чего в один прекрасный день в самом ближайшем будущем можно будет слушать Баха или Бетховена на немецкой почве, не ощущая потребности или обязательства тут же выказать слишком уж привычные, заранее предуготовленные немецкие трепет и благоговение, с которыми этих композиторов слушали в прошлом: трепет и благоговение, обязывавшие слушателя или слушательницу выражать свой восторг после прослушивания, к примеру, записи Берлинского филармонического оркестра под управлением Фуртвенглера, сделанной «Дойче Граммофон» на старой, еще 78-оборотной, пластинке в бурные дни 1941 или 1942 года. В то время подходящим откликом было: hervorragend fabelhaft, ganz ganz schauderhaft, immens, toll, unglaublich.
Но с какой стати кому-то может захотеться в Вюртенбург?
Наверняка не только для того, чтобы сходить в исторический музей, приютивший крохотную коллекцию рисунков шестнадцатого и семнадцатого веков с двумя робкими пейзажиками, приписываемыми Дюреру, или осмотреть замок Альпергер, где хранятся недавно отреставрированный фрагмент большого полотна Тинторетто, на котором сохранилось изображение смирно сидящей английской борзой, скамеечки для ног и, отчасти, богато украшенного кубка с вином, и подготовительный набросок углем к картине Кранаха «Суд Париса», или посетить аббатство Лудовиц, или ныне реконструированную библиотеку Меронтальского собора, или коллекцию фарфоровых миниатюр барона Минца, или водопад Гуссл. Хотя Вюртенбург и не является приманкой для туристов, любопытствующему приезжему со склонностью к искусству и истории здесь есть на что посмотреть. Экспонируемое, однако, рассеяно, плохо выставлено и в общем и целом значительно уступает тому, что доступно в Мюнхене или Нюрнберге, Франкфурте или Кельне. Есть, конечно, в Вюртенбурге маленький, но замечательный ботанический сад и зоопарк, дар бывшего короля Неаполя Жозефа Бонапарта, в настоящее время насчитывающий двух зебр, одного слона, одну гиену, одного леопарда, четырех белых медведей и семнадцать горных козлов. Город дисциплинированно заменил всех тех животных, которые были убиты или даже съедены во время войны. Имеется и коллекция марок и монет барона фон Хиртенберга, прадедушка которого, еврей – скорняк, обратился в католичество. Наиболее ценные марки и монеты коллекции, расположившейся теперь в гостинице «Auf der kleinen Stufe», хранятся под замком на девятом этаже, но посетитель с двух до четырех может осмотреть то, что выставлено в бельэтаже. Фотографировать строго запрещается. Каталог собрания марок Хиртенберга продается в публичной библиотеке и в холле гостиницы. Выручка от его продажи идет на поддержание монумента в память о Первой мировой войне, возведенного на Хофмюль-гассе.
Весной и летом приезжие иностранцы в Вюртенбурге не редкость. Однако, бесцельно прослонявшись несколько дней по местным достопримечательностям, они уезжают, направляясь либо в горы, либо к музеям и прочим удовольствиям, которые сулит Мюнхен. Ничто не удерживает их в Вюртенбурге, если только приехали они сюда не для того, чтобы повидать друга или родных, или посетить лекцию Брумхольда, или – что достаточно маловероятно – разыскать здания, спроектированные и построенные Хельмутом Харгенау. Кое-кто – по причинам, которые не вполне ясны, – пытается взять интервью у брата архитектора, Ульриха Харгенау, автора «Теперь или никогда», «Лишний раз», «Что еще?», «Точь-в-точь», или же, потерпев в этом неудачу, надеется разыскать кого-нибудь из старых друзей или знакомых, одного из томящихся в заключении членов леворадикальной группы Einzieh, которые провели свои первые акты гражданского неповиновения в Вюртенбурге, – возможно, в надежде получить какую-либо информацию о семье Харгенау. Однако некоторые приезжие довольствуются бесцельными прогулками по старому немецкому городу, желая просто провести там несколько дней, по возможности в компании одной из высоких привлекательных блондинок, одной из этих холеных женщин на высоких каблуках, с золотыми браслетами и серьгами – с бледным лицом и высоким, пронзительным смехом. Другие счастливы провести все свое время в тянущихся вереницей вдоль набережной кафе, попивая кофе и глазея на прохожих, объедаясь выпечкой, сдобной немецкой выпечкой, незабываемыми для всякого сластены пирожными и печеньем.
Ничего нельзя исключить.
В прошлом французы приезжали в Германию не столько желая понять ее, сколько стремясь ее истолковать, беспристрастно проанализировать, к чему они были превосходно подготовлены учебой в Ecole Normale Superieure или Ecole des Hautes Etudes и французским языком. По случайному совпадению Вюртенбург оказался одним из городов, которые посетила мадам де Сталь, так докучавшая своими вопросами Гёте и Шиллеру во время своего пребывания в Германии. Это подтверждают документы. Вопрос только, готовы ли все еще немцы к достаточно нескромным вопросам об их прошлом и настоящем и об их взглядах, если таковые имеются, на свое будущее?
Ульрих рассматривает город из своего окна на седьмом этаже. Слева от него – старый Егерский мост, изящно переброшенный через Неккар. Или, если уж быть совсем точным, мост, до мельчайших деталей схожий со старым Егерским, разрушенным во время войны. Подобного рода копии свидетельствуют о благоговении немцев перед прошлым и исторической правдой, о благоговении перед формами и структурами, запечатлевшими столь многие из их идеалов.
Дальше. Прогуливаясь по Хертлангер-хаупштрассе, заполненной под вечер высыпавшими из своих контор за покупками служащими, Ульрих остановился у табачного киоска, с удовлетворением заметив на витрине пачку французских сигарет, к которым он постепенно привык. Никто не обратил на него внимания, когда он покупал пачку. Подобные мелочи играют в жизни человека куда большую роль, чем он готов признать. В канцелярском магазине Хеллера он купил небольшой блокнот с пружинкой, и один из продавцов, похоже, узнал его. Не по имени, а просто как постоянного в прошлом покупателя. Продолжая идти в направлении университета, он нырнул в универмаг, где купил голубую рубашку в красную вертикальную полоску. Повернув со своей покупкой налево на Иоханесс-плац, он зашел в пивную и заказал кружку пива, а потом, увидев, как за соседним столиком кто-то со смаком уписывает за обе щеки чесночные сардельки с картофельным салатом, заказал тарелку и себе. Заказал, подчиняясь внезапному порыву, сардельки. Позже, поравнявшись с пекарней, он с трудом удержался, чтобы туда не зайти.
Дальше. По сути, так приятно прогуливаться без всякой цели, разглядывая – словно в первый раз – вюртенбургские дома, военный мемориал, церкви, выставленные в витринах предметы: абажуры, столовое серебро, ковры, радиоприемники, мебель, продукты, – все расположено так привлекательно, хотя и без французского шарма, к которому он, всего за шесть месяцев вдали от Германии, так привязался. Без чего-то, чего его соотечественникам, несмотря на все их эстетические теории, на неуклонные поиски совершенства, похоже, не хватало. Так или иначе, было трудно поверить, что жизнь здесь могла когда-либо быть иной. И что все эти дома отстроены совсем недавно.
Дальше.
Что хорошо известно?
Что неизвестно?
Что предполагается?
Что опущено?
Что искажено?
Что прояснено?
Что ощущается?
Что пугает?
Что восхищает?
Что завершено?
Что отброшено?
Что заметно?
Что не одобряется?
Что разрешается?
Что увидено?
И что сказано?
Когда Ульрих позвонил своему брату, он спросил себя: Ну что я могу сказать ему, чего он сам не знает?
Откуда ты звонишь? снова и снова повторял его брат. И Ульрих наконец ответил: Возвращаюсь, я был на грани забвения.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИДЕЯ ШВЕЙЦАРИИ
1
Великолепное немецкое лето.
О, не говори.
Лучшее, наверное, лето за последние тридцать три года.
Тридцать три? Ну да, конечно, согласился он.
Когда его отца, Ульриха фон Харгенау, расстреляли ранним августовским утром 1944 года, последними его словами было: Да здравствует Германия. Так, по крайней мере, рассказывали ему родные. Отец был казнен в вымощенном булыжниками крохотном внутреннем дворе. Каким выдалось лето в 1944 году? Оживленным. Наверняка оживленным.
Тот, кто рассуждает о погоде, или о погоде пишет, или повторяет чужие слова на сей счет, едва ли подвергается какой-либо опасности. Можно с уверенностью заключить, что люди, обсуждая погоду, скорее всего стремятся избежать более спорных тем, способных вызвать досаду, раздражение и даже чей-либо гнев – все равно чей – в пределах слышимости. Пора, когда он избегал риска, миновала. Всего через несколько недель после возвращения из Парижа на спокойной и безлюдной улице он едва избежал смерти под колесами желтого «порше». Стоял прекрасный летний день, и он обдумывал, не начать ли, пользуясь впечатлениями от своего пребывания в Париже, новую книгу. Ульрих был убежден, что водитель «порше» намеревался его убить или оставить на всю жизнь калекой. Да, определенно. Вывести его из строя. Можно без большого риска так и написать. Он не узнал водителя, лицо которого видел какую-то долю секунды. Лицо скорее привлекательное. Немецкое, как и у него самого. Решительное и по-своему ожесточенное лицо, которое в качестве модели для рисунка или картины могло бы привлечь Дюрера. Считайте, что вам повезло, сказал случайный прохожий, помогая ему подняться на ноги. Прохожий полагал само собой разумеющимся, что Ульрих говорит по-немецки. Как полагал Ульрих, для него само собой разумелось и то, что он стал свидетелем простого дорожного случая – точно так же, как для Ульриха само собой разумелось обратное.
Ты действительно должен принять определенные меры предосторожности, сказал его брат Хельмут, когда Ульрих упомянул об инциденте. И прежде всего, почему ты вообще решил вернуться в Вюртенбург?
Потому что устал слушать, как все вокруг говорят только по-французски, легкомысленно ответил Ульрих.
Ну ладно, постарайся не очень рисковать.
Юмором Харгенау не славились. А то бы его брат, чего доброго, сказал: В конце концов, что смешного в том, что тебе проломят башку?
2
Что говорил его брат?
Тебе не следовало жениться на Пауле.
Я был от нее без ума.
Если бы наш отец не оказался треклятым героем, а твоя фамилия не была Харгенау, ты бы просидел за решеткой от десяти до пятнадцати лет. Может быть, они разрешили бы тебе иметь пишущую машинку, чуть подумав, добавил Хельмут.
Его брату еще не представлялось возможности спроектировать казенный, как его эвфемистически называют, дом, но он уже спроектировал большой сборочный цех для «Друк Электроникс», аэропорт в Крефелде, библиотеку и административный центр в Хейлбронне, очередную фабрику для водопроводной компании «Шттупфен» и по меньшей мере полдюжины жилых домов и несколько административных зданий, не считая нового полицейского участка и новой почты в Вюртенбурге. Хельмут спроектировал также сельский дом, где и проводил вместе с семьей большую часть уик-эндов и куда они выезжали каждое лето. Ульрих не мог не признать, что Хельмут трудился куда усерднее его. Он работал не прерываясь, проводя большую часть времени за телефоном, указывая, уговаривая, меняя планы. Он, казалось, никогда не выходил из себя. Не терял терпения. Хельмут был весь в отца. А Ульрих?
Когда Ульрих собрался уходить, проведя уик-энд с братом и его семьей, Хельмут сказал: Мы с тобой должны держаться вместе. Мы в самом деле должны сесть и все обсудить. Ульриху не хватило духа сказать ему, что на самом деле обсуждать им уже нечего. Когда-то, в былые годы, между ними имелись какие-то разногласия, сейчас это вряд ли играло какую-то роль. Он даже не помнил толком, в чем они заключались. Возможно, он тогда завидовал успехам брата, успехам, воспринимавшимся Хельмутом как должное. Он этого и ожидал. Он даже поведал Ульриху, что, не будь их отец таким самодовольным и самоуверенным аристократом, из него мог бы выйти куда лучший заговорщик. По крайней мере, его расстреляли, а не оставили болтаться на крюке перед увековечивающей это событие съемочной группой.
Каждое утро Хельмут вставал в половине седьмого. К семи десяти вся семья собиралась за столом для завтрака. Никто никогда не опаздывал. Дети внимательно следили за Хельмутом. Они ждали от него знака, по которому они могли бы определить, что им сулит предстоящий день. Хельмут посмотрел на часы и поджал губы. С самого утра ему предстояли две важные встречи. Он обо всем сообщил Марии. Она была такая же светловолосая и голубоглазая, как и он. За столом они сидели точно друг напротив друга. Она добросовестно сообщила ему, как намеревается провести день. Не было ничего банального, не достойного упоминания. Дети внимательно слушали. Они непосредственно наблюдали, как разворачивается жизнь в мире взрослых. Это был реальный мир. Они понимали, что каждый день их отец вносит в этот мир нечто осязаемое. Каждый день немало зданий по всей Германии вырастало на несколько метров и еще более приближалось к завершенному состоянию, первоначально, если можно так выразиться, возникшему у него в мозгу. К этому времени вся семья знала архитектурную кухню вдоль и поперек. Они знали, как архитектор, чтобы реализовать свои замыслы, должен уговаривать, выслушивать и убеждать своих нервных и беспокойных клиентов. Дети смотрели в голубые глаза Хельмута, и это наполняло их уверенностью. Английский костюм говорил сам за себя. Без четверти восемь Хельмут уже сидел за рулем своего автомобиля. Дети им восхищались. Им восхищалась жена. Им восхищалась секретарша. Им восхищались, правда неохотно, коллеги. Им восхищались его чертежники. Им более чем восхищались его клиенты, они пытались подражать его непринужденному подходу ко всему, что может произойти. Они видели перед собой высокого светловолосого и голубоглазого мужчину в английском, желательно в клетку, костюме прекрасного покроя, с однотонным галстуком несколько темнее строгой рубашки на пуговицах. Его рукопожатие было крепким, рука сухой. Он никогда не потел. Даже на телевидении под сходящимися на нем яркими лучами прожекторов. С полной непринужденностью он обращался к телевизионной аудитории, к широкой немецкой аудитории, обсуждая свою любимую тему, архитектуру. Величественную историю архитектуры. Греция, Рим, Византия, неспешный парад архитектурных свершений, венчаемый новым полицейским участком в Вюртенбурге. Большинство жителей Вюртенбурга включало телевизоры, чтобы послушать брата Ульриха, изумляясь сокровищам, которые он представлял им в назидание: сокровищам, существующим по соседству с ними, сокровищам былого гения. Хельмут Харгенау – это нечто, говорили они, изумленно покачивая головами.
А его брат Ульрих?
Лучше о нем не говорить. Мало ли кто – услышит.
3
У него на письменном столе стояла в рамке фотография отца, сделанная в кабинете. Слева на заднем плане виден рисунок Дюрера. На лацкане отцовской куртки поблескивает крохотная свастика. Фотография была сделана летом 1941 года, в удачное для Германии лето. Рядом с фотографией отца – фотография Паулы, его бывшей жены. Снимок, сделанный на прогулке. Не сообщила ли она ему уже тогда, что друзья спрятали у них в подвале пару ящиков с сохранившимися со времен Второй мировой войны ручными гранатами? В нашем подвале? В нашем подвале? Она упомянула об этом так небрежно, будто речь шла о припасенных для вечеринки ящиках шампанского. Он не мог не восхищаться ее невероятным хладнокровием. Ее явным равнодушием к опасностям, связанным с тем, что она делала. Как и его отец, который снял свастику с лацкана своей куртки в 1942-м, она верила в справедливость и правосудие.
Теперь, зная, где она, почему он не пытался с ней связаться?
Отвечай.
Немедленно отвечай.
4
Великолепное лето. Великолепное немецкое лето. Повтори.
Временами ему казалось, что его мозг пристрастился к повторениям, ему нужно услышать, как все повторяется раз, а то и два, чтобы удостовериться, что формулировки правильны и не вводят в заблуждение. Он обнаружил, что сам же повторяет, что собирается делать дальше, хотя и готов первым признать: повторение препятствует достижению совершенства или, как сказал американский мыслитель Уайтхед, совершенство не призывает к повторению.
Его мозг побуждал его к повторению. Требовал повторно прокручивать все, что он предпринимал. Продолжал спрашивать: Почему я здесь? Теперь? И что я собираюсь делать? Завтра? Послезавтра? Еще через день?
Лето в этом году и вправду выдалось совершенно исключительное. Почти (отметьте это почти) само совершенство. Не слишком жарко днем, а вечером – приятная прохлада. Возможно, он это придумал, но довольное выражение на лицах ежедневно встречаемых им людей отражало – в этом он был уверен – их удовлетворение погодой, а также приятным и гармоничным окружением, а также более или менее любезными друзьями и родными, а также интимными связями, которые не могут то и дело не завязываться, особенно когда лицо, о котором идет речь, не слишком озабочено или раздражено, что могло бы повредить его или ее способности судить о людях и, среди всего прочего, правильно отвечать на сексуальную инициативу в момент ее проявления.
Он встретил Паулу в Английском парке в Мюнхене. У него кровоточил порез, полученный, когда полицейский ударил его в лицо на массовом митинге, в котором он принимал участие вместе с группой друзей. Одним из первых вопросов, который она ему задала, был: Вас никогда не посещало искушение взорвать полицейский участок? Он только рассмеялся.
Ты просто-напросто потерял рассудок, изрек в своей самой что ни на есть напыщенной и снисходительной манере Хельмут, когда Ульрих сообщил, что собирается жениться на Пауле. Отец пришел бы в восторг от силы ее характера, сказал Ульрих. Да, характер-то у него был, но мало что еще, ответил его брат, иначе бы он перебрался в Швейцарию. Хельмут видел Паулу всего несколько часов. Что же смог разглядеть в ней Хельмут, чего не удалось увидеть ему?
Отвечай.
Немедленно отвечай.
Можно сказать, что герои его книги свободны от эмоциональных расстройств, от эмоциональной ущербности. Они встречаются в разных местах, в парках или на митингах, и, не тратя слишком много времени на анализ своих насущных надобностей, предоставляют мозгу краткую передышку, заключая в постели друг друга в объятия. Ты очень хороший любовник, признала Паула, но способен ли ты взорвать полицейский участок?
В чем на самом деле состоит эмоциональная ущербность?
Может ли быть, что внутренний разлад, отсутствие ясности, неустранимая путаница, сомнение в себе, ненависть к себе обусловлены всего-навсего неспособностью человека насладиться идиллической погодой?
В это мгновение погода в Вюртенбурге и его ближайших окрестностях была близка к совершенству. Теперь, в этот момент, вместе со всем населением Вюртенбурга (согласно последним данным, примерно 125 968 человек), он наслаждался чудной погодой. Он полностью расслабился. Абсолютно ничего на уме. Ничего, кроме мысли о том, как он собирается провести этот приятный день. Он не ожидал новостей ни от Мари-Жан Филебра, ни от своей бывшей жены Паулы Харгенау – первая, как он полагал, оставалась в Париже, вторая теперь была вольна отправляться куда ей заблагорассудится.
Повтори.
Куда ей заблагорассудится.
Мозг продолжает настаивать, что способен прожить на одних образах. Без слов.
Хельмут, встретившись с ним в гостинице после его возвращения из Парижа, сразу же сообщил, что Паула живет теперь в Женеве. Хельмут, похоже, смутился, когда он расхохотался. Припадок смеха. Женева? Ну что она может делать в Женеве? Хельмут криво улыбнулся, потом пожал плечами. Ей, должно быть, нравится место.
Паула. В Женеве? Невозможно.
По всей видимости, он ошибался. Он по-прежнему не знал, что она замышляет в Женеве, но не имел ни малейшего желания наводить справки. Он не хотел смущать ее своими вопросами, своей заинтересованностью или присутствием. Но был счастлив, что она на свободе.








