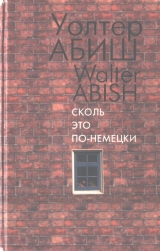
Текст книги "Сколь это по-немецки"
Автор книги: Уолтер Абиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц)
Уолтер Абиш
Сколь это по-немецки
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ. ПРЕДИСЛОВИЕ[1]1
Предисловие к британскому изданию «В совершенном будущем» (1984). Здесь и далее тексты печатаются с учетом пунктуационных особенностей оригинала.
[Закрыть]
На протяжении 1960-х и начала 1970-х годов американская беллетристика представлялась исключительно богатой волнующими экспериментами, и если вас интересовало, как вписываются современные роман или рассказ в непрерывающийся, живой и серьезный поиск, то именно к ней, скорее всего, вам и стоило обратиться. Существенные изменения карта хорошего письма претерпела, похоже, только позднее. Живая и яркая беллетристика – то есть беллетристика, которая не просто успокаивает вас, пересказывая в очередной раз привычным образом привычные рассказы, а ведет к чему-то новому, как в смысле опыта, так и в смысле формы, – пришла к нам тогда из существенно более широкого круга стран: из Европы, Японии, Южной Америки и даже из самой Великобритании. На американской же сцене устоялось своего рода общепринятое экспериментаторство, а героическая его пора явно пошла на убыль. Хотя, конечно же, радикальное новаторство сошло на нет не совсем. В конце концов, остался же Уолтер Абиш – на мой взгляд, самый значительный писатель, появившийся в Соединенных Штатах за последние десять лет, чьи серьезнейшие поиски, без сомнения, продолжаются и набирают силу.
Вполне возможно, впрочем, что вообще не стоит относить Абиша к американским писателям. Родившись в еврейской семье в Австрии, он возмужал в Шанхае, когда вокруг распадалась старая социальная система. Его международные и многоязычные «университеты», которые во многом сформировали его манеру письма, на этом не закончились; он жил в Тель-Авиве и прошел подготовку в Израильской армии, но сейчас в основном живет и работает в Нью-Йорке. Именно в Америке и появлялись до сих пор все его книги: «Азбучная Африка», «Мысли сходятся», «В совершенном будущем» и «Сколь это по-немецки» – именно здесь он завоевал уже прочную и значительную репутацию у критики. Роман «Сколь это по-немецки» был удостоен в 1980 году премии ПЕН/Фолкнера, ныне единственной серьезной американской премии в области художественной литературы. Несомненна важность Америки для его прозы, именно здесь, как он однажды обмолвился в интервью, «я знаю, что привычно». Весьма выразительная фраза, поскольку привычность и непривычность – то, как рассказы и романы приучают и приручают нас, вызывая аллюзию стоящей за реальностью сущности, впечатление кроющейся под поверхностью глубины, или ставят под сомнение этот процесс, – всегда остается у него спорным моментом. Сочинениям Абиша присуще нечто скептическое или пародийное, побуждающее его создавать воображаемые страны из тех же языковых материалов, которыми мы пользуемся для изображения наших, внешне вполне реальных. Америка – в частности, Нью-Йорк и Калифорния – служит ему для этого как нельзя лучше. Но в том же интервью он добавляет: «Я стремлюсь установить или восстановить привычное в чужеродном», выбивая у нас почву из-под ног. И для этой цели другие страны, в особенности Германия и Африка, подошли ничуть не хуже, а может, и лучше.
Итак, Абиш работает в Америке, но при этом не воспринимается нами как обычный американский писатель – и в этом во многом его сила. Его книги часто связывали с экспериментальным художественным направлением, которое было окрещено довольно расплывчатым термином «постмодернизм» и воспринималось как в первую очередь американское. Сама эта идея, как мне кажется, способна завести в тупик, но в любом случае подобный ярлык разве что чуть приближает нас к писателю. Возможно, он и разделяет с этим направлением, каким оно проявилось в литературе, его наиболее характерный признак – отказ назвать так называемую реальность реальной, ощущение, что язык, который удостоверяет то или иное в качестве истории, географии или биографии, – язык, изобретенный человеком. Определенные черты, определенная озабоченность его творчества подтверждают, что Америка – наиболее подходящая для него среда, и связывают его произведения с творениями других новейших американских художников, прежде всего нью-йоркских, прежде всего живописцев, скульпторов, кинематографистов или поэтов языковой школы вроде Джона Эшбери. Его рассказы проникнуты тем неуютным духом современного беспокойства, тем ощущением распада, которые так свойственны современному американскому искусству; архитекторы и художественные объекты, кинематографисты и фотографии, как и близкие им проблемы окружения и пространственного решения, съемки, фиксации и дистанцирования, – все они играют в его текстах важную роль. Но те же заботы царят и в Тель-Авиве, или в Вене, или в Германии. Несовершенный, лишенный центра мир, о котором он пишет, простирается повсюду; и Абиш ничуть не дальше от таких австрийских писателей, как замечательный Петер Хандке (или, если на то пошло, австрийских философов вроде Витгенштейна), чем от зачастую не знающих в своем кипении удержу вязких писаний американцев вроде Томаса Пинчона или Джона Барта, по отношению к которым он кажется скорее экономичным и проницательным наследником, а не современником.
На самом деле, хотя и кажется вполне уместным назвать Абиша экспериментальным писателем, в его произведениях присутствуют точность и ясность, к которым нас никоим образом не приучило ставшее в последние годы почти что общепринятым ориентированное на случайность, свободное по стилю экспериментаторство. Он не просто использует необычные формы или создает романы-сюрпризы, ему присуще глубокое осознание собственных возможностей и цели. Пока у него не так много (и при этом не слишком толстых) книг; многое – собранное в этом томике и в «Мысли сходятся» – написано им в короткой форме, единственная «толстая» книга, «Сколь это по-немецки», на самом деле выросла из входящего в настоящий сборник рассказа «Английский парк». Цель же Абиша диктуется его принципиальным интересом к отношениям между языком (или, говоря высокопарнее, семиотикой) и повествованием. Тем самым то, что он делает, оказалось весьма созвучно разворачивающейся революции в современной критической и, шире, интеллектуальной мысли, которая хочет на настоящем этапе прежде всего разобраться с проблемой языка. Поднятая в дальнейшем этим процессом волна тяжелой, если не сокрушительной, критики неявным образом принизила писателя в его ипостаси серьезного источника творчества. Другое, куда лучшее следствие: писатель превратился, по сути, в исследователя, вместо нас бьющегося над проблемой, как мы составляем значимые послания, как создаем чувство подлинного или, как мог бы сказать Абиш, совершенного. Довольно уклончивым образом Абиш соприкоснулся с подобного рода расследованием, что делает его творчество интересным в чисто интеллектуальном плане. К счастью, оно этим отнюдь не исчерпывается; в основе произведений писателя лежит проницательный ум и ясность характера, которые ставят его выше пустопорожней болтовни. Его письму присущи прозрачность и определенность цели, которую мы связываем с лучшими из ему подобных: Беккетом, Борхесом или Бартельмом; ну что ж, теперь пришла очередь А.
Не следует недооценивать азбучные соображения, ведь алфавит и в самом деле весьма его занимает. Алфавит составляет необходимый языковой код, определяет метод, по которому мы перечисляем запас наших слов в словаре. «Азбучная Африка», первая книга Абиша, выстраивает воображаемую Африку из алфавитных перестановок. В перспективе своего рода укороченного персонального словаря писатель начинает книгу одними только словами, начинающимися с буквы А, затем включает слова, начинающиеся на Б, и так добавляет по одной букве, пока не исчерпывает весь репертуар, после чего запускает обратную процедуру, исключая по одной букве, пока вновь не доходит до А. Этот прием вновь возникает и в рассказе из нашего сборника «Ardor/Awe/Atrocity» [ «Пыл/Трепет/Жестокость»], который построен на наборах по три слова, начинающихся на каждую букву алфавита; но почему берутся именно эти тройки? Другой рассказ, «В стольких словах», предъявляет нам в алфавитном порядке словарный запас, который будет использован, чтобы, расположившись в определенной последовательности, сложиться в следующем абзаце в повествование. Все это может создать впечатление, будто его текст напоминает этакий литературный Центр Помпиду, в котором трубы и прочие коммуникации, обеспечивающие всю постройку, выставлены напоказ, что отчасти и составляет ее пафос. Но повествуется тут о кризисе и психических или лингвистических лишениях, о прогулке по музею слов, в котором представлена бесконечная боль и в который постоянно возвращается насилие. Все это имеет отношение к словам, как, например, в рассказе «Мысли сходятся»:
Когда какое-либо слово не понято, тот, кто его использовал, обязан произнести его по буквам… Подальше от городов люди в Соединенных Штатах не пытаются произносить сложные слова… Вместо этого они погружают в непонятливого нож в виде буквы V, а тот в ответ стонет «Ооо». Буква о, как оказывается, занимает к тому же в алфавите пятнадцатое место. По той или иной причине ее часто используют те, кто не чувствует себя в безопасности.
Скрывающийся за знаками мир жестокости и насилия постоянно присутствует у Абиша и вносит свою лепту в присущий ему тон. Тон внешне нейтральный и аналитический, тон проницательного абстрактного наблюдения, которое рассматривает отношения слов к предметам или вымышленных понятий к поступкам. Но именно эта нейтральность нас и тревожит, заставляет присмотреться к самому изложению.
Особенно это относится к тому рассказу, который, по моему мнению, является лучшим, наиболее богатым в нашем сборнике, к «Английскому парку», предшественнику «Сколь это по-немецки». Он обращается к вопросу о том, как мы выстраиваем для себя непривычный мир и наделяем его привычностью, справляемся с прошлым, с историей, и к нашим рассказам о действительности. Рассказ очень удачно запускается наблюдением лучшего американского поэта «школы языка» Джона Эшбери: «Пережитки былых зверств не исчезают, а превращаются в искусные сдвиги в ландшафте, которому эффект своего рода “Английского парка” придает требуемую естественность, пафос и надежду». Глубокое значение «былых зверств» для еврейского писателя вроде Абиша не вызывает сомнения; на самом деле, конечно, лишь очень немногое в серьезной послевоенной беллетристике не затронуто этой темой. Тем не менее, как заметил Кацуо Ишигуро по поводу другого запредельного зверства, атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму и Нагасаки, делая их темой литературных произведений, мы рискуем свыкнуться с этими трагедиями, превратить их из реально пережитого опыта в троп, дабы этого реального опыта избегнуть. В «Английском парке» американский писатель приезжает в Брумхольдштейн, заново отстроенный на месте бывшего концлагеря немецкий город, чтобы взять интервью, и обнаруживает, как горожане сумели приручить, нейтрализовать и материализовать и прошлое, и свой нынешний мир:
Город назван по имени немецкого философа, который, как и многие его предшественники, выяснял природу вещи. Свое философское исследование он начал с простого вопроса: Что такое вещь? Для большинства жителей Брумхольдштейна этот вопрос не представляет никаких проблем. Они первыми подтвердят, что краны с горячей и холодной водой в ванной комнате – вещи, точно так же как вещи и окна в новом торговом центре. Вещи наполняют собой каждое столкновение, каждое действие.
Но американский писатель со своей раскраской и заранее заготовленными представлениями о национальном поведении и национальном языке настаивает к тому же и на вопросительной форме той же самой проблемы отношения знаков и предметов, чтобы получить в ответе «Германию». Однако в каком-то смысле Германия – не ответ, и читатель так и остается посреди поисков интерпретации, в неприятно непривычном мире, в который и хотел поместить нас Абиш.
Абиш интересен не только тем, что помещает нас в затронутый иронией, непривычный, пугающий мир, но и тем, что он побуждает к поиску интерпретации. «Меня на самом деле не занимает язык», говорится в рассказе «Доступ». «Как писателя меня в основном занимает смысл». Оценить достоверность этого утверждения не так легко; тон Абиша, кажется, часто в насмешках над самим собой выходит за привычные рамки. Но как-то раз в одном из своих эссе Абиш описал себя как «будущего писателя», что не может не подразумевать вполне осознанно предпринимаемых им поисков. Эти поиски и сами не обходятся без иронии, поскольку писатель все время стремится развить некую не способную пока быть удовлетворенной потребность, двигаясь к какому-то ускользающему центру интерпретации, который станет конечным воплощением привычного, вещей в их естественном действии. В «Пересекая великую пустоту» центр будет лежать в конце путешествия, где-то в пустыне. Абиш говорил о «своем осознании ограниченности письма, как и определенной двусмысленности в отношении роли писателя». Мы находимся перед лицом ситуации, которая не поддается объяснению: «И все же мы интерпретируем и объясняем. Все что угодно. Все». Абиш, как сегодня и многие из наших лучших писателей, пишет о мире, в котором смысл сведен к минимуму. Но под плоскостью банальности все еще скрываются возмущающие поверхность темные смыслы, и посему должно продолжаться, оставаясь скептичным в отношении самого себя, тщательное исследование письма. Абиш пишет в социальном и историческом мире, где письмо должно встретить лицом к лицу свою собственную иронию, вот откуда в его произведениях столько силы, вот почему он – один из тех писателей, которые, кажется, добрались до сердцевины вещей и обязательно должны быть прочитаны.
Малькольм Брэдбери
В СОВЕРШЕННОМ БУДУЩЕМ. РАССКАЗЫ
Джеймсу Локлину
Мадлен: И где для тебя центр мира? Поль: Центр мира?
Мадлен: Да.
Поль: Забавно. Ну, то есть мы никогда не разговаривали друг с другом, и стоило нам заговорить, как ты задаешь такой поразительный вопрос.
«Мужское / Женское», фильм Жана Люка Годара
Моя страна долго уклонялась от истории.
Ален Таннер
АНГЛИЙСКИЙ ПАРК
Пережитки былых зверств не исчезают, а превращаются в искусные сдвиги в ландшафте, которому эффект своего рода «Английского парка» придает требуемую естественность, пафос и надежду.
Джон Эшбери. Три стихотворения
Одна из страниц купленной мною раскраски в деталях показывала новый аэропорт: слева стеклянный восьмиугольник здания терминала, а на заднем плане заходящий на посадку самолет «Люфтганзы». Это немецкая раскраска, и, естественно, все лица в ней обычны для раскрасок, это красивые лица, улыбающиеся и счастливые лица. В них нет ничего характерно немецкого. Ничто, как мне кажется, не становится по сути немецким, не получив своего цвета.
Можно сказать, что раскраска тщательно воспроизводит почти все, что, так сказать, существует в голове ребенка, и ежедневно тысячи детишек усердно закрашивают лицо за лицом, предмет за предметом, все, что заполняет пространство на странице раскраски почти так же, по крайней мере на глаз, как и пространство в реальной жизни.
Когда, не будучи немцем, оказываешься в Германии, перед тобой встает проблема определения уместности и, до некоторой степени, жизненности всего, с чем ты сталкиваешься. Вопрос, который все время себе задаешь: Сколь это по-немецки? И: настоящий ли это цвет Германии?
Глядя в небо, ты почти готов поверить, что это то самое небо, которое немцы с тревогой разглядывали в 1923-м, и в 1933-м, и в 1943-м году, то есть тогда, когда их не отвлекали цвета чего-то еще. Чего-то, возможно, куда более отвлекающего. Теперь небо голубое. По-немецки соответствующее слово – Blau. Но у синего и голубого столько оттенков… у каждого ребенка огромный выбор… Французы говорят blеи, а мы говорим blue.
Купленная мною коробка карандашей тоже изготовлена в Германии. Они похожи на карандаши, изготовляемые в Америке, во Франции и в Японии. Дожидающийся меня в аэропорту человек вполне мог бы сойти за одного из полудюжины счастливых персонажей со второй, третьей или четвертой страницы раскраски. Плащ военного покроя перекинут через руку. Сияют башмаки. Он сразу меня заметил. Тепло приветствовал на запинающемся, но правильном английском. Улыбнулся, протянув руку. Я коснулся гладкой и сухой ладони.
Машину встречавший меня мужчина не ведет. Он сидит рядом со мной и рассказывает о своей недавней поездке в Белград… время от времени прерываясь, чтобы указать мне на ту или иную удаленную деталь пейзажа. Я послушно поворачиваю голову в том направлении, куда он указывает. На нем хорошо скроенный коричневый костюм в мелкую полоску. Костюм степенного делового человека. Шофер носит форму. Темно-зеленую. Как лес. Цвета Черного леса? Небо сплошь затянуто облаками. «Мерседес» темно-коричнев. Это немецкая машина – превосходная, надежная и безопасная. Не то чтобы дорожных происшествий совсем не было. На дороге всякое может случиться. Прокол шины, просчет водителя. Но никто не скрывает этих случайностей от широкой публики, как раз напротив…
Изображены в раскраске и автомагистрали, чуть ли не до последней детали схожие с той, по которой мы едем. Ничто не упущено. Вот она, покрытая асфальтом магистраль, позволяющая автомобилям и грузовикам в мгновение ока преодолевать огромные расстояния. Мы делаем семьдесят миль в час. Вокруг нас в том же направлении, к солнцу, мчатся другие автомашины – «ауди», «БМВ», «фольксвагены» и «мерседесы». Во многих машинах с воскресных пикников возвращаются домой целые семьи… более или менее удовлетворенно розовеют их лица. День клонится к вечеру. Они уже нагулялись. Неспешно выпили свою чашечку кофе. Надышались сельским воздухом. Fabelhaft. Hervorragend. Не жаль потраченного на езду времени. Определенно. Оно окупилось сторицей. Определенно.
К кому бы я ни обратился, каждый подчеркивает, что жить в Брумхольдштейне на редкость удобно. Живешь, можно сказать, в сельской местности со всеми удобствами, доступными только в городах. И всего в двадцати минутах езды на машине начинаются села. Всего через двадцать минут можешь увидеть коров и лошадей, ручьи, фермы, сараи, пастбища и людей иного века. У тех, кто этим занимается, уйдет еще не менее двадцати лет, чтобы застроить эту местность до неузнаваемости…
Немецкие знаки, приметы Германии, на траве, на улицах, на автомагистралях, стоянках призваны предупредить путешественника – точь-в-точь как в раскраске, где те же знаки воспроизведены, чтобы предупредить ребенка о жизни, которая скоро поглотит его. Да, страница за страницей, все то, что ребенок может надеяться когда – либо увидеть. Безмятежные домашние сценки, красочные ландшафты, папа, мама, и, за ручку с ними, гуляет по лесам маленький Руди, садится в самолет «Люфтганзы», посещает зоопарк, катается на лодке по озеру, ах, безмятежность, ах, природа… обедает в ресторане, посещает колбасную фабрику и вступает в новую немецкую армию. Как возбуждает ландшафт, полный причудливых крохотных лавочек, бензоколонок, гостиниц, книжных магазинов и железнодорожных станций. То тут, то там приземистый, плотный мужчина поднимает кружку с пивом. Если верить раскраске, провинцию снова так и распирает активность, собранная в кулак энергия, на каждой странице предоставляющая пространство для цвета, который станет ее движущей силой.
На мой взгляд, некоторые страницы раскраски по своему замыслу вполне могли бы изображать ту часть Брумхольдштейна, в которой я сейчас нахожусь. С кое-какими незначительными изменениями все это вполне может превратиться в Брумхольдштейн. Почему бы, собственно, и нет. Возможно, авторы раскраски, рисуя свою книжку, подразумевали как раз этот город. Брумхольдштейн назван в честь крупнейшего из живущих ныне немецких философов, Брумхольда. На одной из страниц раскраски видно, как выступает перед учениками его двойник. На доске у него за спиной написаны слова: Что мы делаем сегодня? Философский смысл этой фразы скорее всего недоступен ученикам, которым от силы по восемь-девять лет. И поэтому, в свою очередь, маловероятно, что пожилой человек за кафедрой – и в самом деле Брумхольд. Тем не менее, сосредоточившись на преподавателе и забыв о его слушателях, можно чуть ли не услышать, как Брумхольд говорит, услышать его спокойный, сдержанный низкий голос, способный выражать также и глубоко прочувствованные эмоции – например, когда Брумхольд говорит о множестве немцев, которые в беспорядочном процессе, называемом нами историей, потеряли, похоже, после Первой мировой войны свою родину или, по крайней мере, ее часть или долю. Процесс, который, можно добавить, повторился и после Второй мировой войны. Преподаватель вполне мог бы быть Брумхольдом, но им не является. Прошли годы, с тех пор как Брумхольд ушел в отставку. Сейчас он уже старик и больше не учит молодых немцев. Он проводит дни в размышлениях и пишет… пишет о том, почему человек мыслит – или не мыслит, или пытается мыслить, или избегает мыслить, – тем самым принуждая каждого, кто читает или пытается читать его достаточно сложные книги, задуматься, мыслит ли он на самом деле или только делает вид, что мыслит.
Не Брумхольд причиной тому, что я нахожусь в Германии, хотя его озадачивающие вопросы, возможно, и стали без моего ведома дополнительным побуждающим мотивом к посещению страны, где метафизические вопросы великого философа впервые увидели свет. В конце концов, можно ли, если процитировать самого Брумхольда, отделить удовольствие, доставляемое жизнью, путешествием по чужой стране, новыми ощущениями, от самого процесса сосредоточенного размышления. Брумхольд пишет о глубочайшей потребности и побуждении мыслить, и нужно признать, что в каком-то смысле немцы всегда обладали склонностью к сосредоточенным размышлениям, той форме мысли, которая, возможно, граничит подчас с меланхолической одержимостью. Язык, на котором они говорят, безмерно помог им придать своим вопросам форму и к тому же позволил спросить: К чему все эти размышления? Вопрос, который не помешал им с успехом создавать дороги и новые города, автомобили и пишущие машинки, как в пределах нынешней Германии, так и за этими самыми пределами.
Тем не менее, если оставить в стороне метафизику, немцы любят удовольствия. И первые же с этим согласятся. У них есть слово и для удовольствия, и для блаженства, и для удовлетворения, и для восторга, и для экстаза. Кроме того, они, как и американцы, глубоко и искренне верят в совершенство. Совершенство, например, добротно сделанного стола, или удобного кресла, или отлично спланированного города, заманчивого парка со столиками для пикников и раскидистыми тенистыми деревьями, или мощного автомобильного двигателя, прилавка с пластиковым верхом, или белой эмалированной поверхности кастрюли.
Изучив изображенных в раскраске людей, замечаешь, что им не хватает лишь толики цвета, чтобы ожить, обнять друг друга, а затем в наилучшем расположении духа отправиться в ближайшее кафе и взять там Bratwurst или еще какую-нибудь Wurst, а затем, в завершение, посмотреть хороший фильм, добротный фильм с яркими красками, яркими красками раскинувшейся вокруг них Германии, красками, которые все еще нужно добавить к этим страницам, красками, которые выделяют в фильме детали, в совокупности складывающиеся в совершенство… заставляющее призадуматься совершенство…
Брумхольд любит подчеркивать различие между расчетливой и созерцательной мыслью. По счастью, что касается детей, ничто изображенное в раскраске не заставит их мыслить либо одним, либо другим образом. Раскрашивая картинки, любой может предаваться и тому, и другому.
Мне нравятся созерцатели, сказала Ингеборг Платт.
Естественно, поскольку любая мысль включена в рамки технологического общества, неоспорим приоритет расчетливости. Она определяет темпы роста городов, время, которое понадобится, чтобы застеклить окно, вломиться в банк, расписать стену, сочинить додекафонную симфонию и спросить себя: Кто этот чужак с третьего этажа?
Этот чужак – я.
Что он тут делает?
В настоящий момент он задумчиво моет руки. Немецким мылом. Под блестящим немецким краном над белой немецкой раковиной. Белая плитка на полу и стенах – тоже немецкая, как и оконная рама, стекло, душ, ванна и вид из ванной комнаты. В раскраске, и на это следует обратить внимание, присутствуют лишь очертания всех этих деталей, этих предметов, этих вещей. Ребенок увидит очертания ванной комнаты глазами, которые еще способны воспринять универсальность всех ванных.
В раскраске люди, каких встречаешь каждый день, предаются своей повседневной жизни: рассеянно моют руки, причесываются, перекусывают, водят машину, подстригают попавшийся под руку газон; роль раскраски – отразить и зафиксировать все то, что возможно. Но возможности эти из тех, которые никогда ни у кого не вызовут неодобрения. Раскраска просто пробуждает присущее большинству из нас желание раскрасить что-либо лишенное цвета. В данном случае – нормальную повседневную деятельность людей, занимающихся своими делами: кормящих собаку, ребенка, мужа, тропических рыбок, самих себя, признавая тем самым некую потребность – и не обязательно ставя ее под сомнение, хотя они и могут размышлять, зачем… зачем кормить тропических рыбок, ребенка, мужа. Что, в свою очередь, заставляет людей ставить под сомнение и другие вещи. Почему эти рабочие заняты очередной библиотекой.
Что делает этот человек на третьем этаже?
Он звонит по телефону. Он разговаривает с мэром Брумхольдштейна. Мэр, естественно, знает, что я здесь. Он ждал моего звонка. Он знает, где я остановился. Знает дом, улицу и другие, менее существенные детали; к примеру, он знает размеры сточной трубы, ширину балкона, количество ступенек, ведущих на третий этаж, где я остановился. У него хорошая память на детали. Он говорит на прекрасном английском. Более того, он этим наслаждается. Он получает удовольствие, когда говорит: Вы обязательно должны прийти к нам завтра на обед… и еще: Надеюсь, вам нравятся тропические рыбки… и: Обязательно дайте мне знать, если я могу что-то сделать, чтобы вам было удобнее…
Я бы предпочел второй этаж, но он занят, как занят и первый. Трехэтажные дома в Брумхольдштейне не имеют лифтов. Из ваших окон вид куда лучше, чем у пары со второго этажа, сказали мне.
Прежде как раз на этом месте располагался довольно обширный лагерь, построенный как город, со своей почтой, библиотекой, медицинскими заведениями, пекарней, конторами, теннисными кортами, зонами отдыха, деревьями – все это было обнесено несколькими рядами колючей проволоки. По всему лагерю были размещены немецкие знаки, стрелки на которых указывали в том или ином направлении. Исчезли знаки, исчез лагерь. Он более не существует. Кое-кто в Брумхольдштейне еще помнит, как играл ребенком в этом просторном лагере, пришедшем к тому времени в полный упадок, – стекла выбиты, телефонные провода оборваны, дорогостоящее оборудование исчезло, туалеты варварски обезображены. Лагерь назывался Дурст. В раскраске он не представлен. Он был построен приблизительно в то же время, когда Брумхольд, обращаясь в университете к студентам, пытался сообщить им о прискорбном положении их соотечественников, немцев, которые были вынуждены покинуть свои дома… и студенты рыдали… представляя себе немцев, людей, склонных, как и они, к созерцанию, оставляющих позади то, что не могут с собой взять… оставляющих позади те драгоценные предметы, которые подпадают под философскую категорию вещи. Столы, стулья, бытовые электроприборы, деревянные ставни, вековые дубы, коров, красный сарай, сенокосный луг, все то, что так или иначе воспроизведено в раскраске.
Естественно, в лагере Дурст тоже находилось много предметов, которые нетрудно обнаружить на страницах раскраски. Скамьи, стулья, электрические лампочки, кухонные раковины, все нынче рассеялось… пропало. Привычность предметов в раскраске успокаивает, как, должно быть, успокаивали вновь прибывших и предметы в лагере Дурст. Ах, погляди: стул, стол. Вряд ли все так уж плохо. И если бы существовала раскраска, представляющая Дурст, она бы тоже показывала людей, прилежно занятых своим повседневным существованием, стоящих навытяжку или сидящих, может быть даже и развалясь, пережевывающих пищу, переваривающих ее, спящих, прогуливающихся, все вполне нормально, разговаривающих до и после завтрака, стоящих ровными рядами, говорящих Yа или Nein… хотя многие, на самом деле – большинство тамошних обитателей, не будучи немцами, не умели бегло говорить по-немецки, из-за чего по большей части были не в состоянии произнести более или менее правильно построенную немецкую фразу… и потому не могли достичь того уровня созерцания, которым способен наслаждаться средний успевающий немецкий студент.
Брумхольд, часто говоривший в своих трудах о бегстве человека от мысли, так и не нашел времени на посещение названного в его честь города. По общему признанию, Брумхольдштейн являет собой не более чем еще одно проявление современной архитектуры – со всеми его тщательнейшим образом спроектированными жилыми микрорайонами, с украшенными сводчатыми галереями торговыми центрами и удобно расположенными общественными туалетами, помеченными: Damen и Неггеn. К десяти часам утра галереи заполнены покупателями. Но никто не выказывает признаков спешки. Люди говорят: Bitte и Danke. И смотрят друг на друга без какой-либо подозрительности.
Они смотрят на меня без какой-либо подозрительности. Хоть я и иностранец. Но они привыкли к иностранцам. Иностранцы их ничуть не смущают. Особенно знакомые с Бахом, Гёте и Брумхольдом… Достаточно упомянуть Брумхольда – и ты принят, тебя даже могут назвать другом. Немцы скоры на это слово. Возможно, это связано с их наследием или со старинными застольными песнями, которые до сих пор поют люди… В раскраске не слишком сложно определить, кто с кем дружит… В определенном смысле каждый изображенный в раскраске дружит со всеми остальными.
В 1967 году, когда были готовы первые две с половиной тысячи квартир, под влиянием момента было решено назвать город именем не государственного деятеля, не поэта или промышленника, а философа. Выбрать правильное имя было особенно важно еще и потому, что город был построен на месте бывшего концентрационного лагеря. И, по крайней мере в 1967 году, всем еще было не по себе, когда поднималась эта тема.
В русле великой традиции греческой и немецкой философии Брумхольд поднял вопрос о смысле, внутренне присущем вещи смысле, проявляющемся в контексте метафизики. Более того, если слегка напрячь воображение, можно обнаружить определенную взаимосвязь между вещью, какою мы ее знаем и понимаем, и двумя с половиной тысячами квартир, не говоря о дополнительных услугах, пожарной станции, почте, библиотеке, школе, медицинских учреждениях, кино, театре, цветочном магазине, ресторане, кофейне, книжном магазине и т. д. …








