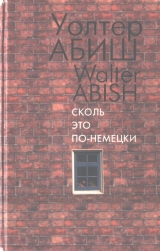
Текст книги "Сколь это по-немецки"
Автор книги: Уолтер Абиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Брумхольд первым признал бы, что слово «идея» пришло из греческого языка… и по-гречески означает «видеть» или «столкнуться лицом к лицу». Несомненно, признал бы он и то, что можно, к примеру, составить достаточно точное представление о Брумхольдштейне, не потрудившись в нем побывать. Нужно только вооружиться карманным атласом, опубликованным по возможности после 1963 года, и отыскать Брумхольдштейн на одной из многочисленных маленьких карт, чтобы составить себе достаточно точную о нем идею. Небольшой, но быстро растущий центр городского типа, уже не городок, но еще и не крупный город. Новые дома населяют новые люди, которые переехали в Брумхольдштейн из более крупных, перенаселенных центров, чтобы быть ближе к природе и жить там, где лучше школы, меньше чужаков и больше возможностей по работе. Здешние жители, средний возраст которых составляет двадцать девять лет, разделяют одни и те же интересы и заботы. Их заботит качество обучения и уровень загрязнения воздуха, проблемы преступности и алкоголизма, качество медицинского обслуживания, то есть высокий уровень как докторов, так и медицинского оборудования, и все они весьма рады близости гор, возможности кататься зимой на лыжах, заниматься рыбной ловлей, греблей и плаванием в остальное время. Не следует забывать и о разнообразных развлечениях: театр, новейшие американские фильмы, раз в месяц оперный спектакль. По сути, как раз к этому и стремится большинство немцев, но жители Брумхольдштейна, а это по большей части управленцы, интеллигенция, средний класс, то есть люди, которые получили лучшее образование и умеют лучше выразить свою мысль и живее высказать – или, по крайней мере, быстрее осознать и сформулировать – свое недовольство, находятся в лучшем положении, чтобы получить то, чего они хотят, – с определенными, конечно, ограничениями.
Люди, которые живут в Брумхольдштейне, то есть – теперь, когда наконец достроена новая автострада – всего в двадцати минутах езды на машине от Демлинга, всегда спешат высказать свое демократичное мнение, что ничто на свете не мешает жителям Демлинга приезжать в Брумхольдштейн на еженедельные камерные концерты, посвященные музыке Моцарта, Вивальди, Гайдна, или на спектакли оперы «Глориана», сейчас исполняющей «Мечту всех народов» Хугеля Каминштейна, или на серию лекций о раскопках во Внешней Монголии профессора Паулуса Херднера, или на представление кукольного театра Браудвица, или на ежегодный фестиваль зарубежного кино, на котором представлены ленты Поланского, Феллини, Бергмана и Форда. Однако по какой-то причине жители Демлинга продолжают искать развлечения в других местах. Они избегают Брумхольдштейн, если только им не приходится там работать, они избегают с виду бодрых, хорошо, с претензией на небрежность, одетых молодых людей, живущих в новеньких, с иголочки домах, они избегают их празднеств под открытым небом, их танцев в зале новой школы. Если уж танцевать, так они предпочитают свой собственный захудалый танцзал. Пусть они работают в Брумхольдштейне по пять, а то и шесть дней в неделю, никто не может заставить их полюбить это место.
Старожилы Демлинга все еще говорят о Дурсте со своего рода ностальгией, но не о Дурсте военной поры, а о Дурсте 50-х. Кому могло пригрезиться, что каких-то двадцать лет спустя десятки восьми – и девятиэтажных домов и двухэтажных коттеджей заменят такое продуманное сосредоточие военных бараков и обширного комплекса складов, предохраняемое двумя, а кое-где и тремя рядами колючей (прежде находившейся под током) проволоки, на равном расстоянии от которого и от бывшего завода И. Г. Фарбен, разрушенного незадолго до конца войны, продолжало возвышаться единственное здание – железнодорожная станция. Это был огромный комплекс построек, включавший в себя теннисные корты, офицерскую столовую, комнаты для отдыха офицеров, несколько тюрем, две газовые печи, крематорий, несколько огромных кухонь, пекарню и вездесущие деревянные дозорные башни; все это ныне исчезло, кроме пустой и заброшенной железнодорожной станции и заросшей сорняками заржавевшей колеи.
Ну мог ли кто предвидеть грядущее. Здание муниципалитета со стенами из зеленого стекла, или живописный фонтан в мощеном внутреннем дворике административного центра, или особую акустику филармонического зала, или закрытый пятидесятиметровый бассейн, или особое место для выгула собак, или дорожку для верховой езды, или мраморную облицовку строящегося музея, названного, как и город, по имени величайшего современного мыслителя Германии, Эрнста Брумхольда.
В начале 50-х Дурст все еще оставался излюбленным местом встреч ребятишек. Попасть в лагерь не составляло тогда особого труда, поскольку колючая проволока во многих местах была уже давно разрезана, а присматривали за имуществом лишь два немолодых добродушных охранника; будучи родом из Демлинга, они даже и не думали поднимать шум, если приходившие оттуда же ребята играли на старом плацу, бывшем, по слухам, местом сбора заключенных, в футбол. У большинства сохранившихся построек к тому времени отсутствовали окна и двери, а стены были испещрены надписями, но ни одно из выведенных по серой деревянной обшивке слов не имело ни малейшего отношения ни к прошлому, ни к чему-либо хоть отдаленно связанному с политикой.
Для ребят поход в Дурст был приключением. Изредка по заброшенной территории с зажженными фарами медленно проезжала полиция, просто напоминая о своем существовании. Но к этому времени все, что не было привинчено или прибито, из лагеря уже исчезло. Остались только сами строения, теперь уже обесточенная ограда и несколько сторожевых башен, старые и шаткие лестницы которых вряд ли могли выдержать что-либо тяжелее двенадцатилетнего мальчугана. Вокруг бараков валялись битые бутылки, поломанная электроарматура, мусор и обломки. Все проемы, и окна, и двери, были заколочены, но это не мешало детям пробираться внутрь. В начале 50-х жители Демлинга все еще приезжали в Дурст, когда возникала нужда в стройматериалах для новой комнаты или в топливе для очага. Ну и дети. Они были везде, куда ни посмотри. Некоторым из них так это нравилось, что они даже оставались там на ночь.
Дурст, конечно же, значится в каталоге новой библиотеки в Брумхольдштейне. В конце концов, он был, так сказать, предшественником Брумхольдштейна. Однако книг о Дурсте там не найдешь. Таким образом, у Дурста нет официальной истории; то есть никто до сих пор не позаботился придать ей связную форму. Дело не в том, что кто-то попытался утаить или скрыть тот факт – напрасный, право, труд, – что в здешнем концлагере принудительно трудилось Бог знает сколько тысяч чужаков, иностранцев, военнопленных, политзаключенных и прочих нежелательных элементов, включая, естественно, и евреев, которые представляли явную угрозу выживанию Германии. Некоторые утверждают, что почти все заключенные лагеря были как раз евреями. Все это в свое время было исчерпывающе отражено в документах, кое-какие материалы даже доступны по запросу специалистов в библиотеке. В конце концов, для чего библиотеки существуют? Они – хранилища информации. Дурст упоминается даже в книгах о Брумхольдштейне, но, за одним или двумя исключениями, только в сносках. Дурст, ранее железнодорожный узел, построен в 1875-м, расширен в 1915-м и еще раз в 1937-м, вскоре после организации в Дурсте трудового лагеря. Переломной датой остается для Дурста 1956 год, когда, чтобы сравнять лагерь с землей, прибыли огромные бульдозеры, а чудовищный трейлер вывез газовые печи и остальную механику в металлолом. Библиотека в Брумхольдштейне приобрела полное пересмотренное издание Собрания сочинений Брумхольда 1974 года, есть там и обширная коллекция книг о Второй мировой войне, но на полках не найдешь ничего о Дурсте, поскольку Дурст, как может объяснить библиотекарь, по сравнению с остальными концентрационными лагерями, был весьма мал и, с точки зрения числа пропущенных через него людей, весьма незначителен. Следует указать, что, по мнению жителей Брумхольдштейна, ставить в вину лагерь смерти надо не только немцам. Ведь если американцы и англичане не одобряли эти самые лагеря смерти и так называемую политику истребления, то почему же они и палец о палец не ударили, чтобы помешать переброске в лагеря людей и материалов? Смехотворный аргумент. Библиотека также гордится своим обширным собранием атласов, карт и путеводителей, пользующимся постоянным спросом, – немцы заядлые путешественники и первопроходцы. До сих пор там, однако, имеется всего лишь один путеводитель по Брумхольдштейну, написанный директором лицея Херманном Венрайхом. Опубликованный в 1972 году, он далек от полноты, хотя и содержит несколько карт и целый ряд иллюстраций. В нем, кроме того, перечисляются наиболее знаменитые жители города, а также архитекторы и проектировщики, отдавшие все силы, чтобы успеть к январю 1962 года сдать в срок первую очередь зданий. Упомянуты физик Клинкерт, художник-портретист Ильзе Хюбнер, авторы детективов Линфор, Альберт и его жена Ильге, и Бернард Фейг, автор восемнадцати книг о путешествиях и приключениях. Бернард Фейг – наша надежда на будущее, заявил однажды мэр города Альберт Канзитц-Лезе на обеде в честь местного отделения АНП (Ассоциация Немецких Писателей). Его романы, сказал мэр, не утонули в прошлом, а герои его книг, к счастью, свободны от набившей нам оскомину зацикленности на периоде с 1940 по 1945 год. Бурные аплодисменты.
8
Нет никаких причин, чтобы я не мог получить все, что хочу, здесь, в Брумхольдштейне, самодовольно сказал Хельмут своему брату. И он был прав. Каждый был готов приложить дополнительные усилия, чтобы доставить Хельмуту удовольствие, снабдить его любимыми сигаретами, привозными винами, рубашками, обувью фирмы «Балли», иностранными журналами, музыкальными записями, пирожными и прочей выпечкой, всем, что делает жизнь более сносной. Ему достаточно было сказать слово, и владельцы магазинов готовы были свернуть горы. Не удивительно, что уже через несколько недель он почувствовал себя в Брумхольдштейне как дома. Словно прожил здесь всю свою жизнь. На самом деле люди здесь были куда заботливее, намного внимательнее к его нуждам, нежели в Вюртенбурге.
В 12:30 ланч в «Сливе». Хельмут выбрал «Сливу» не из-за Франца, а потому, что этот ресторан намного превосходил все остальные в городе. Ланч дело серьезное. Они с Хельмутом встретились в мэрии. Мэр показал Ульриху на карте местоположение музея, который строил его брат, и муниципалитета. 12:20. Пора идти. Невинная шутка с сексуальным подтекстом в адрес секретарши мэра, которая перекусывала прямо у себя за столом. Йогурт. Клинышек сыра. Яблоко. Выходя из мэрии, все еще добродушно посмеивались. Хорошая команда, сказал мэр. Шутка хорошая, заметил Ульрих. Хельмут и мэр в ответ рассмеялись. Ульрих понял, что это часть ежедневного ритуала. Вызывающие смех шутки.
Они пересекли площадь. В центре Хельмут. Он выше других. И Хельмут, а не мэр, первым вошел в «Сливу». Ульрих лишь на мгновение задержался за широкой спиной мэра, чтобы переброситься парой слов с Францем. Неужели действительно прошло пятнадцать лет? Ja, Herr von Hargenau. Я как раз говорил Дорис… Просторные залы с деревянными панелями на стенах, официанты в безукоризненно белом, выкатывающие с кухни тележки. Метрдотель склонил голову. Их ждали. Стол накрыт на троих. В центре с полдюжины ярко-красных роз. Сумрачные, почти угрюмые манеры обедающих говорили о полной серьезности, с которой здесь, в этом просторном, освещаемом пятью огромными хрустальными люстрами помещении, поглощалась пища. Мэр, Хельмут и Ульрих тщательно изучали обширное меню, а слева от Хельмута, полный внимания, их ждал Франц, их верный Франц, готовый предоставить, если потребуется, свои советы. Это была уже вторая встреча Ульриха с Францем. Неужели он так и не найдет, что ему сказать?
В первый раз при виде входящего в «Сливу» Ульриха Франц, забыв о сдержанности, бросился ему навстречу. Но сейчас, во время ланча, Франц был куда напряженнее, чувствуя на себе острый взгляд метрдотеля. Мы с нетерпением ждали вашего возвращения, херр фон Харгенау, довольно натянуто произнес он. Мы? Ульрих пытался вспомнить человека в красных подтяжках, восседавшего за их большим кухонным столом. Он пытался вспомнить имя жены Франца. А твоя женушка? С ней, надеюсь, все в порядке?
Францу хватило ума, или, возможно, такта, Ульриха о жене не спрашивать.
Они не спешили с выбором того, что будут есть. Раз или два даже меняли в последнюю минуту выбор. Нет-нет.
Я, наверное, возьму то же, что и мэр, но без стручковой фасоли. Когда Франц наконец ушел с их заказом, они знали, что могут на него положиться, что он позаботится об их интересах, скажет на кухне: Это для стола мэра – или он скажет Харгенау?.. Как бы там ни было, они – то есть мэр и Хельмут – тут же продолжили свою беседу об охоте на кабана. Охота на дикого кабана? Насколько мог припомнить Ульрих, Хельмут, как и он сам, никогда не отличался каким-либо охотничьим рвением. При своей разборчивости Харгенау могли участвовать в этом кровавом спорте только с явной неохотой. Но теперь – чтобы сделать приятное мэру? – Хельмут с чувством рассказывал об их былых вылазках в лес. Он даже утверждал, что в свое время Ульрих был отличным стрелком. Хельмут, широко улыбаясь, посмотрел на него, словно предлагая оспорить это утверждение. Осмелится ли Ульрих ему противоречить. А мэр? Не почувствовал ли он, что что-то не так? Нет… ничуть. Считалось само собой разумеющимся, что Ульриху тоже знаком трепет, который охватывает, когда преследуешь раненого кабана, с бешено колотящимся сердцем идешь по кровавому следу, чтобы потом, загнав побежденного зверя в подлесок, испытать незабываемый миг торжества, когда пуля разносит ему череп.
Хельмут переключил свое внимание на список вин. Нахмурив брови, его изучил. Хоть их помощь и не отвергалась, остальные, мэр и Ульрих, могли предложить очень немногое. Они с радостью приняли его выбор. Высказали свое одобрение. Превосходно. Да, 73-й – удачный год. Надежный. Они невольно повернулись, чтобы видеть, как специальный официант подходит с бутылкой вина, показывает Хельмуту ее этикетку и с большим тщанием начинает откупоривать. Вполне безболезненная операция. Хельмут пробует вино. Да, заключает Ульрих, столик явно заказан на имя Хельмута, а не мэра.
Его брат – очень пунктуальный человек. Пунктуальный и требовательный. Но также и любезный – зубы так и сверкают, когда он победно, слишком победно улыбается всем и каждому, – а прежде всего он демократ. Нужно жить в свою эпоху. Что, иначе говоря, означает: внутри мы все, по сути, одинаковы. Чушь собачья. Хельмут упомянул, что говорил с Францем о Дурсте. Мэр тут же насторожился. Ни при каких обстоятельствах не стоит упоминать Дурст в переполненном ресторане. Это магическое название. Но, не обращая внимание на молчаливый призыв мэра, его брат сообщил, что обменялся с Францем – что было, то было – весьма вызывающими словами. Да, вызывающими. В этом отношении Хельмут никогда не шел на уступки. Плевать, что думают другие, если я нахожу это забавным, или интересным, или стоящим. Хельмут также сумел вытянуть из Франца, как он довел до их сведения, то, что обычно в Брумхольдштейне оспаривалось, а именно, что в Демлинге, где жил Франц, Брумхольдштейн презирают. Ну и ну, сказал мэр. Это заходит слишком далеко! Ладно, тогда возмущаются им, сказал Хельмут, с готовностью соглашаясь на не такое сильное слово. Но почему же, ведь мы их главный источник доходов, запротестовал мэр. Просто ерунда какая-то. Что их может возмущать? Дома, средний класс, новая состоятельность? Возможно, подсказал Ульрих, возмущением подменяют зависть?
Каждый раз, когда Франц обращался к Хельмуту, он, казалось, слегка волновался. Словно отчаянно пытался придумать, что интересного для Хельмута может сказать. Но Хельмут умел обходиться с людьми. Ему доверялись даже совершеннейшие чужаки. Ну зачем тебе это, Хельмут? всегда хотелось спросить Ульриху. Что ты надеешься из них извлечь?
Франц и Хельмут изо дня в день пускались в ритуал приветствий и чересполосицу доверительных реплик, столь естественных для официанта и его излюбленного клиента: Могу ли я предложить палтуса? Или телятину? Или фаршированное свиное филе в соусе из эстрагона? Я, если будет позволено дать совет, не брал бы сегодня пряное жаркое. И картофель, увы, чуть-чуть отсырел.
A-а, этого не надо. Нам не нужен сырой картофель. Ха-ха-ха.
Очевидно, его брат за короткое время справился с тем, на что у других уходят месяцы, если не годы. Не простой стол. Лучший. Отныне рассматриваемый как стол господина архитектора, доктора фон Харгенау. Преданный форме, Франц не способен отказаться от их семейного фон.
Ну ладно, промычал Хельмут, когда Франц нагнулся, чтобы убрать корзинку с хлебом, так когда ты собираешься нас пригласить? Когда собираешься показать нам свою спичечную копию Дурста? И захваченный врасплох, смутившийся, покрасневший Франц примирительно ответил: Когда вам будет угодно нас посетить. В любое удобное для вас и вашего брата время. Затем, почувствовав, что мэр может счесть, будто им пренебрегают, он с извиняющимся видом повернулся к нему: И, конечно же, для вас, сударь, тоже.
Может быть, Франц хочет завершить свой проект, прежде чем принимать посетителей, сказал Ульрих. Его поддержал мэр. Да. Да. Здравая мысль. Ерунда, возразил Хельмут. Вы должны это увидеть. Вы только подумайте, копия того, что находилось как раз тут, где мы сейчас сидим. Архитектурная копия чего-то стертого нами с лица земли. Франц с подносом в руках спешно ретировался, едва не столкнувшись лоб в лоб с другим официантом.
А как вам понравилась квартира, в которой вы остановились? спросил Ульриха мэр.
Очень удобная.
Это хорошо, сказал мэр.
Я же понимал, что так Ульриху будет куда свободнее, вмешался Хельмут.
Конечно, откликнулся мэр. Приходишь и уходишь когда заблагорассудится.
Позже встаешь, сказал Ульрих.
Приглашаешь кого-нибудь на вечер, подколол Хельмут.
Мэр рассмеялся. Дайте нам знать, когда у вас будет вечеринка.
Он слишком скрытен, сказал его брат. Он держит все про себя.
А, он не любит делиться.
Делиться? Ульрих не поделился бы с вами и плиткой шоколада, не говоря уже о женщине.
Разве женщинами делятся? поинтересовался Ульрих.
Что я вам говорил, сказал Хельмут. Опять смех.
Мэр чуть повернул голову – проверить, не слышал ли их кто.
Ну а теперь шутки по боку, сказал Хельмут, сурово глядя на своего брата. Ты хочешь виноградный рулет или миндальное? Что ты посоветуешь, Франц?
Ja, herr ober, поддакнул мэр. Мы в ваших руках.
Едва заметная улыбка потревожила плотно сжатые губы Франца. Требовалось проявить определенное легкомыслие. Господа обсуждали достоинства шоколадного мусса, яблочного пирога со сливками, пирожного с кремом мокко, захеровского торта и, наконец, шварцвальдского вишневого торта.
Как? У вас есть шварцвальдский вишневый торт?
Мэр наслаждался удивлением Ульриха: В Брумхольдштейне, знаете ли, далеко не все выставлено напоказ.
Франц, сжимая в руках небольшое серебряное блюдо, замер как истукан слева от них.
До завтра, сказал Хельмут.
До завтра, сударь, сказал Франц.
У меня голова раскалывается от боли, пожаловался Хельмут, когда они вышли из «Сливы».
Так не надо возвращаться на службу, посоветовал мэр. Пройдитесь с Анной по лесу. Он подмигнул Ульриху. Это лучшее лекарство.
Хорошо, я, наверное, последую вашему совету, нерешительно посмотрел на Ульриха Хельмут. Ты ведь найдешь, чем тебе заняться?
Я собираюсь обследовать Брумхольдштейн.
Вам не нужен кто-нибудь в помощь? спросил мэр.
Не помешало бы. В другой раз, наверно.
Мы хотели бы позвать вас на обед, извиняющимся голосом объяснил мэр, но у нас как раз красят дом.
Этим надо будет потом заняться и мне, сказал Хельмут. Покрасить жилье. Тут только одна проблема. Я не выношу запаха краски.
Они расстались на площади, и каждый пошел своей дорогой. Когда Ульрих взглянул в направлении «Сливы», он увидел, что Франц все еще стоит у входа, уставившись им вслед. Что у него на уме? подумал он.
9
Что знает Франц?
На самом деле ближайшим соседям Франца вовсе незачем смотреть в сторону, тем самым стараясь с ним не здороваться, когда он выходит из дому, но именно так они и поступают. Он это знает. Он между делом упоминает об этом своей жене Дорис. Он говорит ей, я готов поверить, что у наших дорогих соседей что-то на уме. Им, должно быть, стыдно за то, что они сделали или сказали, коли стоит мне их увидеть, как они отворачиваются, лишь бы меня не заметить. Я не видел их лиц уже месяцев шесть. И представь, мне нет никакой охоты видеть эти рожи. Я не хочу видеть самодовольно-пренебрежительное выражение удовлетворенности на их налитых пивом лицах, но у меня возникает отчетливое впечатление, что, отворачиваясь, они пытаются мне что-то сообщить. Не могу догадаться, что именно?
Что отвечала Дорис? Дорис была немногословна, зная, как он может возбудиться. Как легко что-либо сказанное ею без всякой задней мысли способно вызвать у него жуткую ярость. Как внезапно он мог раскалиться из-за одного слова, одного-единственного слова. И потому она помалкивала. Но вот в постели она куда красноречивее. Тут-то она говорит. Тут она шепчет ему на ухо. Тут она рассказывает ему о том, что он всегда знал. Но на кухне или в гостиной ей кажется, что лучше молчать. Ей кажется, лучше оставаться застенчивой и, несмотря на возраст, кокетливой.
Но что Дорис знает? Многое о садоводстве. Это ее любимое занятие. Когда Франца нет дома, ее всегда легко найти в садике за домом, где она то что-то сажает, то пересаживает. Подрезая, обрывая, пропалывая, напевая при этом про себя. Счастливая душа. Когда она в саду, соседи расслабляются. Весело отвечают на ее подчеркнутое «доброе утро». Они даже обмениваются рецептами. Говорят о чудесной погоде. О новой попытке ускользнуть через стену из Восточной Германии.
Соседи постоянно ходят друг к другу в гости. Сегодня все они в саду слева, назавтра все собираются в саду справа. Каждый раз, когда ее приглашали присоединиться к ним, она неизменно отказывалась. Либо придумывала какую-нибудь отговорку, либо приходила всего на несколько минут. Они понимали. Они слышали, как воет по ночам Франц. Один сосед утверждал, что так воет раненый пес, другой – что это похоже на гиену. Все сошлись на том, что это жалобный крик. Вызывающий глубокое беспокойство. Все на их улице теперь уже поняли, что виновен в нем Франц. Рева. Так они его называли. Рева. И Франц встречал взглядом каждого на улице, будто говоря: Ну-ну, давай же, сделай что-нибудь. Попробуй-ка.
Что еще знает Дорис? Она знает все о первом супружестве Франца, еще одна никогда не всплывающая тема. Обби, когда их изредка навещает, зовет своего отца «Франц», а ее «Дорис». Соседи, которые не раз и не два его видели, не знают, как с ним быть. Он что, племянник? Или кто-то еще? Дорис старается не проявлять чрезмерной заботы, чрезмерной доброты к Обби, потому что Францу это может не понравиться. Обби и так всякий раз напоминает Францу о его первой жене. Красивой, но шлюхе. Но Франц признает, что озадачен нелепым внешним видом Обби. Толстяк, увалень, растяпа. Откуда он такой взялся? Мой сын – недотепа?
Дорис знала, что ее муж садится на автобус в Брумхольдштейн в одиннадцать, как раз вовремя, чтобы, пройдя пешком от кольца автобуса до ресторана, успеть обслужить пришедших на ланч. Для завтрака ресторан открывался только по субботам и воскресеньям, когда посетителям предлагался стол с шампанским. Но, поскольку по воскресеньям Франц был выходным и допоздна работал по субботам, в бранч он обычно на работу не выходил. Что еще она знала? Что его стандартный костюм официанта сидел на нем как перчатка. Она и с закрытыми глазами видела, как он в своей отлично сидящей форме стоит, наполовину скрытый одной из колонн в обеденном зале, наблюдая за столиками с клиентами. Ускользало от Франца немногое. Он стоял там, готовый подать следующее блюдо, готовый услужить немногим своим любимцам, не позволяя себе опуститься до раболепства. Он не лебезил перед клиентами. Он мог бы уже стать метрдотелем, но не был готов – как часто ей говорил – лебезить. Ну как она могла его за это порицать? Уж чем-чем, а его независимостью она гордилась. Не лебезил он и всю войну. Он был одним из немногих, кто вышел из 45-го невредимым и кому при этом не пришлось лебезить ни перед своими офицерами, ни перед СС или Тайной полицией, или перед богатыми родственниками, или перед русскими или американцами. В том, что Франц не будет кланяться до земли, вы могли быть уверены.
У него еще был младший брат в Аргентине, который, несмотря на все былые расхождения, былые стычки, писал Францу длинные письма. Младший брат женился на разведенной аргентинке, у которой было двое детей от первого брака. Она немного говорила по-немецки, а он – по-испански. Они жили в пригороде Буэнос-Айреса. Но что ему известно о жизни? риторически вопрошал Франц. Он живет, укрывшись в своем Буэнос-Айресе. Тем не менее, пусть этого и не признавая, Франц предвкушал получение занятных писем с вложенными в них снимками семьи брата. Его младший брат работал мастером на стекольной фабрике и был заядлым футболистом. В своей команде, A.H.V., Die Alte Herren Vereinigung, он был капитаном. Он никогда не забывал присовокупить любезнейшие приветы в адрес Дорис и постоянно убеждал Франца переехать к нему. Франц всегда сможет получить работу на стекольной фабрике. Ты полюбишь Аргентину, писал он. Вы можете остановиться у нас. Конечно, мне не хватает Германии, но все мои друзья здесь – немцы. Каждое воскресенье мы играем в футбол. В этом сезоне мы нацелились на первое место. Что творилось в голове у Франца, когда он читал эти письма? Что он пишет? всегда спрашивала Дорис. Все как обычно, говорил он и затем неохотно зачитывал ей несколько строк, всякий раз подытоживая: В любом случае я никогда не смогу свыкнуться с пищей. Со всей этой испанской пряной пищей. Никогда.
10
К вольготно расположившемуся в глубине лесистого участка большому дому Харгенау вела узкая дорога, отходящая от автострады неподалеку от старой, полуразрушенной железнодорожной станции. Чтобы свернуть на эту дорогу, надо было переехать через железнодорожное полотно. Саму станцию затеняли обступившие ее со всех сторон деревья, деревья, которые, по-видимому, выросли уже после войны. Проехаться от станции до дома Хельмута оказалось весьма приятно. Анна подобрала Ульриха в одиннадцать прямо у дома, в котором он остановился. Она долго извинялась, когда резко затормозила на красный свет и он, не удержавшись на своем сиденье, едва не врезался головой в ветровое стекло. Пока она вела машину, он исподволь разглядывал ее, словно пытаясь прочесть у нее на лице что-либо имеющее отношение к нынешнему душевному состоянию его брата, ведь разве не представляла она в каком-то смысле самый последний выбор, если не избранницу Хельмута?
Вам у нас нравится? спросила она.
Он был гостем, и они до определенной степени отвечали за то, чтобы с ним все было в порядке. Ему только и оставалось сидеть, удобно откинувшись на спинку, и ждать, когда его доставят с одного места на другое. Он все же ожидал, что поселится у своего брата. То, что он остановился в городе, – приведенные Хельмутом доводы были смехотворны – должно было показаться несколько странным любому, в том числе и Анне, его нынешнему шоферу, которая во время их недолгой поездки рассказывала о своем классе в школе, о путешествии в Грецию, о недавнем концерте Штутгартского филармонического оркестра, посетившего Брумхольдштейн две недели назад. На узком проселке ни одной машины. По какой-то причине он решил не расспрашивать ее о том, как она, по словам брата, столкнулась – или встретилась? – с Паулой в Олендорфе. Он сказал о своей нелюбви… ну ладно, нерасположенности… к путешествиям. Стоит мне приехать туда, где мне нравится, я чувствую себя как дома и не хочу оттуда уезжать. Почему он так сказал? Это было не совсем так. Что, на ее взгляд, он имел при этом в виду?
Вы все еще живете в Женеве?
Да. Пока что.
Они поставили машину рядом с большим черным «мерседесом» и, огибая дом, прошли по дорожке к теннисному корту, где мэр Канзитц-Лезе, который весело помахал в их сторону ракеткой, играл с его братом. Ну что? Закончим на этом? спросил Хельмут. Ни в коем случае, сказал мэр. Я настаиваю на реванше. Хельмут, прищурившись, подал. Спокойный, сдержанный и явно более сильный игрок, он безжалостно гонял дородного мэра по всему корту. Анна представила Ульриха жене мэра, Вин, которая сидела в тени большого вяза, потягивая из высокого стакана какой-то напиток со льдом. Лимонад? Джин с тоником? Дом оказался больше, чем ожидал Ульрих. Похоже, он был построен еще до Брумхольдштейна. Присоединившись к ним после игры, Хельмут первым делом сказал Ульриху: Готов поспорить, ты не ожидал ничего подобного.
Все, кроме Ульриха, казались расслабленными… чувствовали себя как дома. Они вели себя так, будто знали Хельмута целую вечность. Анна, не дожидаясь, пока ее попросят, ушла внутрь за напитками.
Он был гостем.
Наверху, в главной, по всей видимости, спальне, вместо кровати Хельмут положил на натертый до блеска пол широкий матрас. Двери во всех комнатах второго этажа отсутствовали. Зачем их убрали? Невольно смущаясь, Ульрих помочился в туалете без дверей.
Когда он вернулся, Хельмут и обливающийся потом мэр все еще были на корте, от души смеясь над какой-то фразой Вин. Над каким-то, по-видимому, комментарием в адрес вычурной и бессистемной игры мэра. Хельмут в великолепном расположении духа криками подбадривал своего соперника. Ульрих уселся рядом с женой мэра. Вы не очень-то высокого мнения об их игре, да? сказала она.
С дороги был виден соседский дом. Обычный дом при ферме, приклеившийся сбоку к невысокому холму. В какой-то момент Ульрих услышал шум мотора и, посмотрев в сторону дороги, увидел машину с двумя или тремя пассажирами; сбросив у дома Хельмута скорость, она ползла как черепаха, а ее водитель не сводил с них взгляда. Скорее всего, на несколько миль вокруг теннисный корт был только у Хельмута.
У Хельмута всегда была превосходная подача. Каждая, когда он по-настоящему старался, являла собой предельное физическое усилие. Его мычание при подаче было слышно всем. Непристойный звук, напоминающий мычание или хрюканье животного. На мэра, который предпринимал смелые, но безрезультатные попытки их отбить, сильные, резкие, обескураживающе точные подачи тратились, по сути, впустую. В каком-то смысле, подачи опровергали принятую Хельмутом дружескую и небрежную позу. Как бы он ни подбадривал мэра, Хельмут не мог и даже не пытался скрыть, сколь решительно он настроен выиграть очко. Но мэру дух соперничества был совершенно чужд. По крайней мере, на теннисном корте. Крупный, переживающий свою неуклюжесть мужчина, который привык, частенько не попадая по мячу, подшучивать над собой, глядя при этом, будет ли смеяться с остальными и его жена.








