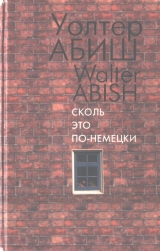
Текст книги "Сколь это по-немецки"
Автор книги: Уолтер Абиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
А ты когда-нибудь забивался в угол? спросила она отца.
По крайней мере, я об этом не помню.
Она забивается куда попало или в какой-то особый угол?
Не знаю. По-моему, нет никакой разницы. Возможно, у нее есть любимый угол.
Почему?
Почему? У нас у всех есть любимые вещи. Любимые стулья, любимые комнаты, любимые парки. Даже любимые улицы. Я не вижу, почему в данном случае ей не иметь любимого угла. Ты удовлетворила свое любопытство?
Я так и не понимаю, почему она забивается в угол.
Спроси у фрейлейн Хеллер.
Уж не Эгон ли ее заставляет?
Надеюсь, что нет.
А фрейлейн Хеллер когда-нибудь забивалась в угол?
Ты что, одержима этой темой? Если фрейлейн Хеллер и забивалась в угол, она никогда мне об этом не сообщала.
А ты был бы счастлив, если бы увидел это?
Довольно. Хельмут сурово посмотрел на нее. Довольно.
Если ты больше не любишь маму и не любишь Анну, ты, может, любишь Гизелу?
Нет. Я не люблю жену Эгона. Слишком худа и истерична.
Ты же должен кого-то любить.
Кто тебе сказал?
Ты же должен кого-то любить.
Ты прочла слишком много книг.
Готова поспорить, что ты влюблен в Риту.
Она тебе нравится?
Она занятная.
Даже чересчур, правда?
Гизела бросила на него лукавый взгляд. Иногда она тоже забивается в угол, чтобы сделать фотографию.
25
Франц не часто оказывался на переднем сиденье автобуса, отправлявшегося в Брумхольдштейн в 11:25. Не часто оказывался в этот час за рулем и Хаген. Не ожидал встретить вас на этом рейсе, сказал Франц.
Поменялся с другим шофером, сказал Хаген.
Когда они выехали из Демлинга и водитель смог слегка расслабиться за рулем, Франц между прочим упомянул, что во время обеденного перерыва, в три часа, собирается воспользоваться библиотекой. Давно уже туда собираюсь, сказал он.
Я-то читаю мало, откликнулся водитель. Люблю отдыхать на свежем воздухе, где-нибудь под деревом. Могу сидеть так часами. Забываю о времени… и вообще обо всем.
В библиотеке, сказал Франц, возвращаясь к занимающей его теме, есть справочный зал, зал периодики, а еще специальный зал, где можно слушать музыку. Там выдают наушники. Даю голову на отсечение, что в Демлинге нам такой библиотеки не видать.
В общем-то, сказал, не отрывая взгляда от дороги, шофер, я предпочитаю футбол. Могу часами смотреть его по телевизору. На Хагене были американские авиационные очки от солнца. Темно-зеленые стекла и золотистая металлическая оправа. На безымянном пальце правой руки он носил кольцо с большим опалом. Получил он его в наследство, в подарок или где-то купил? Не желая проявлять любопытство, Франц заметил только, что у Хагена замечательное кольцо, однако тот ничего на это не ответил.
Хаген был выше Франца ростом, но держался не так подтянуто. Франц почему-то решил, что водитель по крайней мере лет на пять его старше. Как и большинство немолодых водителей, водителей поколения Франца, он был абсолютно надежен, первоклассный шофер, которого нелегко вывести из равновесия. Не из тех, кого можно втянуть в спор. О, нет. На самом деле, стоило кому-то из пассажиров на что-то пожаловаться, Хаген замыкался в себе. И ни звука.
Странно, размышлял вслух Франц. Столько лет в Брумхольдштейне, а впервые собираюсь зайти в библиотеку.
Ее строили у меня на глазах, прокомментировал Хаген.
Кто-то заработал на этом кучу денег, сказал Франц.
У меня на глазах построили и ратушу, и старый торговый центр.
Уйма денег.
А теперь это странное здание, музей.
Это другое, сказал Франц, тут же встав на защиту Харгенау. В конце концов, это хранилище культуры. Так сказать, склад истории.
Может и так, стоял на своем Хаген, но денег-то уйма.
Он будет открыт для публики, доказывал Франц. Его строит Хельмут фон Харгенау. Старая семья из Вюртенбурга. Я когда-то у них работал. В большом загородном доме. 1948-й, 1949-й. Отца расстреляли в 44-м.
Водитель благодушно смотрел на дорогу. Отличный денек. А по радио сказали, что будет дождь…
Сколько раз за день вы проезжаете туда и обратно, спросил Франц. Этот вопрос он задавал уже не раз. Как обычно, водитель не ответил.
Водитель про себя улыбнулся и, заметив вопрошающий взгляд Франца, объяснил: Мы как раз проехали мимо дома, в котором я однажды провел целое лето. В те времена я и подумать не мог, что буду водить автобус.
А эта дорога тогда уже была?
Но не такая. Узкая.
Что же вы здесь делали?
О, просто жил у знакомых.
А они так тут и живут? Франц не мог скрыть своего разочарования, что пропустил этот дом.
Как я понимаю, вполне может статься.
Интересно, знают ли они, что вы весь день ездите мимо них?
Может, да, а может, нет.
Я не рассмотрел этот дом, сказал Франц. Когда вы о нем сказали, было уже слишком поздно. Это не то большое серое здание с двумя трубами?
Нет.
Значит, рядом с ним.
Неподалеку. Самый обычный дом.
Вы видитесь с людьми, которые в нем живут? полюбопытствовал Франц.
Моя дочь сегодня рожает, сообщил водитель.
Первенец?
О, нет. У них уже трое.
В Демлинге?
Нет, Демлинг не для них. Слишком старый.
Он фермер?
Нет, механик.
Авто?
Нет. Механик на заводе, где собирают пишущие машинки.
До вечера, сказал Франц, когда они приехали в Брумхольдштейн. Нет, сказал Хаген. Вечером я буду у дочери. Он помахал на прощание рукой, но как-то робко, Франц с трудом мог поверить, что это тот самый человек, с которым он разговаривал пять, а то и шесть раз в неделю. Человек, к которому он давно перестал относиться как к случайному знакомому. Обязательно ли читать надпись на стене? вывел кто-то черным карандашом на бледно-желтой кирпичной стене библиотеки. Франц прочел эту фразу и почувствовал гнев к тому, кто сознательно осквернил стену, кто покусился на это учреждение. Он придержал стеклянную дверь перед женщиной, которая, не поблагодарив, вошла в библиотеку перед ним. Из-за справочного стола за ним наблюдала молодая женщина. Что-то в ее резком, угловатом лице, в подбородке… в суровом выражении ее лица заставило его замешкаться… отбило у него охоту к ней подходить. Почему, собственно, он сам не может найти то, что ищет?
При всей своей новизне и современности библиотека являла собой привычное и тем самым успокоительное зрелище: люди за столами, погруженные в чтение газет и журналов, один или два старых чудака, бормочущие что – то себе под нос. Читатели, курсирующие с книгами под мышкой между столами и стеллажами. Чтобы найти каталог, Францу потребовалась пара-другая минут. Маленький успех. В каталоге Брумхольдштейн значился, как значился и Маркс, и Немецкая армия, и Париж, и Сопротивление: смотри Франция, смотри Италия, смотри СССР, смотри Польша, смотри Австрия, смотри Германия. Под рубрикой Секс в каталоге значился и секс, разбитый на десятки подрубрик: сексуальное образование, фильмы по сексуальному образованию, сексуальная дискриминация. Сексуальные отклонения. Сексуальные преступления. Сексуальные обычаи. Значилось в каталоге и несколько книг Ульриха Харгенау, как и архитектурные проекты Хельмута Харгенау. В каталоге перечислялись книги по архитектуре, в которых можно найти его работы. Франц отыскал Дурст. Карточка гласила: смотри Брумхольдштейн, смотри Концентрационные лагеря – Германия, смотри Военная деятельность во Второй мировой войне, смотри Железные дороги – Германия. Он осмотрел зал музыкальных записей, зал справочной литературы и зал периодики, но следов другого справочного стола нигде не обнаружил. Когда ему до возвращения в ресторан оставалось всего двадцать минут, он спустился на лифте на первый этаж, надеясь, что женщину за справочным столом сменил за это время кто-то другой. Но она оставалась на месте. Тогда он прошел к стеллажам и посмотрел, есть ли на полке какие-нибудь романы Харгенау, но их там не было. Когда он наконец подошел к справочному столу, библиотекарша разговаривала по телефону – и, к его изумлению, ее лицо оживилось, отчасти утратив свою суровость. Франц смотрел на нее в упор, но она игнорировала его присутствие. В конце концов он отвернулся, бормоча про себя «Чертова сука». Звонит по личным делам в рабочее время, в то время, которое должна уделять ему. Оставалось десять минут. Он опять повернулся к ней. Она смотрела куда-то в пространство. Запинаясь, он объяснил, что ему нужна информация о концлагере Дурст. Она оценивающе его оглядела.
Что именно вы ищете?
Я строю модель… такую… копию концлагеря Дурст, и мне нужны архитектурные планы… чтобы она была достаточно точной… это вроде архитектурной модели… то, что я строю.
Не вижу, чем мы можем вам помочь, сказала она, бросив на его лицо быстрый взгляд.
Я нашел Дурст в каталоге, сказал он. Там перечислены Брумхольдштейн, Железные дороги и Концентрационные лагеря – Германия. Она встала и, не извинившись, куда – то ушла. Сбитый с толку, он неловко мялся перед ее столом, дожидаясь, когда она вернется.
По крайней мере, она могла быть повежливей, сказал Франц своей жене Дорис, вернувшись вечером домой. Могла бы сказать: Прошу прощения, и подойти вместе со мной к каталогу, чтобы убедиться самой. Именно так, по – моему, принято.
Воскресенье: Тут вступает немецкое Sontag. Тут вступает немецкое спокойствие и этикет. Люди выходят на прогулку, любезно приветствуя соседей. Guten Morgen. Guten Tag. Schones Wetter, nicht wahr? Ja, hervorragend. День доброжелательных приветствий. День пикников, неспешных трапез, прочитанных на диване газет. Франц, сидящий в своем маленьком садике за чтением воскресной газеты, повернувшись спиной к шумным соседям, повернувшись спиной к привычному зрелищу их карточной игры, сознательно повернувшись спиной к их воскресенью. Дорис в зеленом платье, которое она сшила на своей швейной машинке… весело помахивающая ему рукой из окна спальни на верхнем этаже. Эй… Франц… помахивающая и зовущая, будто соседям ее не слышно. Через час-другой он, возможно, поддастся искушению и спустится в подвал, чтобы на несколько часов погрузиться в работу над моделью Дурста. Но не обязательно. Это зависит и от его настроения, и от того, что он прочтет, и от того, что показывают по телевизору. Зависит это и от того, не наведается ли Обби с кем-нибудь из своих идиотов-приятелей.
Воскресенье: Кофе в саду. Франц не переставая рассказывал о водителе автобуса Хагене, дочь которого только что родила упитанного мальчугана.
Воскресенье: В спальне. Франц расположился у окна, задумчиво глядя на дома по ту сторону улицы. Дорис напевала что-то в ванной. Знак? Она оставила дверь в ванную открытой. Еще один знак? Ей нечего бояться. Она напевала, чтобы продемонстрировать свое бесстрашие. Свое пылкое бесстрашие. Знаки накапливались. В свое время Франц насмотрелся на раздетых женщин. На раздевающихся для него женщин. Снимающих с исполненным покорности очарованием свои платья, свои блузки и юбки, свое черное белье – ради него, ради того, что последует. Трепет ожидания. Полный ожидания женский смех, когда он приближался к их обнаженным телам. Тут все было ясно. Но мало кто был так пылок, как Дорис. Ему только и оставалось, что обернуться и увидеть свою Дорис ожидающей, раздетой…
Ладно, пусть подождет еще немного.
Франц упрямо продолжал смотреть в окно, чтобы освежить в памяти или, по меньшей мере, подкрепить свою ненависть к соседям. Он наблюдал, как Обахт, живущий рядом с ним полицейский, рыжеволосый мужчина лет под пятьдесят, вышел от кого-то из соседей с газетой под мышкой и проследовал к себе, даже не взглянув в сторону садика Франца.
Только ли революции способны подорвать тиранию привычных повседневных событий?
Спокойное воскресенье: Франц, аккуратно приклеивающий у себя в подвале очередную спичку. Он не просто воспроизводил эпоху бедствий. Или то, что в конце концов разрушили, дабы дать место Брумхольдштейну. Он не просто воспроизводил в уменьшенном масштабе во всех деталях нечто столь же привычное в свое время для всех в Демлинге, как коровы в хлеву. Он намеревался пробудить в знакомых ему людях чувство неуверенности, чувство сомнения, чувство тревоги, чувство отвращения. Вот чего в конце концов он должен был добиться. Он словно осознавал, что всем революциям присущ элемент бестактности. В его случае борьба за бестактность означала борьбу за революцию.
Но почему Дурст, снова и снова спрашивала его Дорис. Почему не Бранденбургские ворота или мост через Рейн?
Заключение Обби было простым: Потому что он – чертов фашист. Но он не говорил этого отцу в лицо. Слишком уж Франц был непредсказуем. Никто не знал, что он может выкинуть.
Что знает Франц?
По Прудону, он знает преимущества и неудобства профессии официанта. Одно из этих преимуществ – присутствовать при обмене небрежными, прозаичными репликами наделенных властью людей. Мэра. Хельмута фон Харгенау. Можно ограничиться этими двумя именами.
Точно ли изображает Франц властность, передразнивая неловкое шутовство мэра Брумхольдштейна?
Можно ли считать преимуществом знание того, с кем нынче проводит ланч мэр, с кем нынче спит фон Харгенау?
Франц знает, где живет мэр. Общедоступные знания. Будучи официантом, он также знал, что предпочитает мэр на ланч и на обед. Но все эти знания добыть несложно. И что предпочитает жена мэра, Вин: Hirnsuppe, Lacks in Weisswein mit Champignons, Spargel Cocktail mit Hummer. Франц заметил, что за столом она не сводила глаз с Хельмута фон Харгенау. Он уловил и то, как архитектор и Вин обмениваются быстрыми взглядами, выражающими соучастие, взаимопонимание. Настоящий официант, который недаром ест свой хлеб, быстро становится умелым интерпретатором подобных диалогов.
Франц не раз и не два слышал, как мэр говорит кому – то из своих знакомых: Вам нужно познакомиться с Харгенау. С архитектором. Моим хорошим другом.
Франц также знал, где обосновался Хельмут фон Харгенау, хотя самого дома никогда и не видел. Он знал, какую машину водит архитектор, а также и кое-что о его подругах. Помимо вполне вероятной связи с Вин, женой мэра, архитектора часто видели в компании школьной учительницы Анны Хеллер. Но на кухне в «Сливе» кто-то утверждал, что это всего-навсего уловка, или, точнее говоря, отвлекающий маневр, призванный скрыть настоящую страсть. Согласно преобладавшему на кухне «Сливы» мнению, Вин, жене мэра, палец в рот не клади.
Зачем нападать на нее просто из-за того, что она сексуальна, сказала Дорис, не скрывая своего негодования, своего возмущения.
Франц работал над одной из сторожевых башен, когда в подвал спустилась Дорис. По ее походке ему было ясно, что что-то произошло. Франц, Франц! У него засосало под ложечкой, когда она сказала: тебе звонил господин фон Харгенау. Он интересовался, не могут ли они с братом заглянуть к нам сегодня вечером. Он был так вежлив и несколько раз переспросил, уверена ли я, что они не причинят нам неудобств. Естественно, я пригласила их на обед.
И он, естественно, согласился, сказал Франц.
Да, сказала она.
Не верю я в это, безразлично произнес Франц. Ты не знаешь Хельмута фон Харгенау, как знаю его я.
Но ты же им восхищаешься?
Какое это имеет отношение к тому, что он дерьмо?
26
Что еще следует знать о Франце?
Ульрих успел на автобус, уходящий в Демлинг в 7:15. Не имею ничего против автобуса, сказал он своему брату. До автобусного вокзала от того места, где он остановился, легко дойти пешком. Автобус тронулся ровно в 7:15. Кроме него в автобусе было всего два пассажира. Он сел спереди, сразу за водителем, который на вопрос, помнит ли он Дурст, ответил: Еще бы. Пренеприятная история. Надо сказать, когда всех этих полумертвых от голода людей вдруг выпустили из-за решетки… по большей части они отправились в Демлинг. Они никому не угрожали. Просто бродили вокруг и, как сомнамбулы, заглядывали в окна… а потом они ушли, и тогда уже наши отправились в Дурст. Он сам себе улыбнулся. Там было брошено полно барахла, мебель… Кое-кто из лагерных охранников и администрации жил просто-напросто припеваючи.
Я знаю одного человека, сказал Ульрих, который строит из спичек модель Дурста.
Водитель уклончиво ответил: Ну да.
Точную уменьшенную копию, подчеркнул Ульрих.
Должно быть, вы имеете в виду Франца, официанта из «Сливы».
Ульриху пришло в голову, что из упоминания о модели Дурста водитель может заключить, что он едет в гости к Францу. А еще? Что он, по-видимому, родственник Франца или друг его семьи.
Высаживая его на автобусной остановке в Демлинге, водитель сказал: Передайте Францу от меня привет.
Передам.
Водитель помахал ему рукой. На дороге ни души.
Воскресный вечер с Францем, его женой Дорис, его сыном Обби и Вилли Хюбнером, приятелем Обби, нанятым Хельмутом ухаживать за садом. Обеденный стол накрыт на семерых. Хельмут, должно быть, сказал, что приведет с собой кого-то еще. Бокалы, столовое серебро, тарелки с синей каймой, точно такие же, как в «Сливе». Не вынес ли он их оттуда, подумал Ульрих. Открывший ему дверь Франц не сводил с него страдальческого, полного укоризны взгляда, словно говоря: Как ты мог так со мной поступить. Этот вечер был ему навязан. Бедный Франц.
И Дорис, с распростертыми объятиями бросившаяся к Ульриху, издав пронзительный, чуть приглушенный вопль, словно собирающаяся взлететь неуклюжая птица: Aber Herr von Hargenau… Herr von Hargenau… заставляя Франца отступить в дальний угол, вызывая мину неудовольствия на его длинном лице. В знак осуждения ее назойливого, небезопасного зова. Осуждения того, как она замерла на их пурпурном ковре, задевая платьем кофейный столик тикового дерева, на котором рядом с огромной пепельницей стояла стеклянная ваза с кэшью и изюмом.
Прошло так много времени, господин фон Харгенау.
Лучше и не вспоминать.
А Франц как раз только что рассказывал о вашей замечательной семье.
Какой милый домик, сказал Ульрих.
Мы стараемся сделать его поудобнее. В конце концов, когда Франц возвращается из Брумхольдштейна, ему нужна, чтобы расслабиться, удобная и теплая комната.
Франц, с еще более страдальческим видом: Дорис, тебе ничего не нужно сделать на кухне? И она, с непониманием уставившись на Франца: Нет-нет… Все уже сделано.
Ульриху было слышно, как в соседней комнате Обби беседует с Вилли.
Франц, сказала Дорис, ты же не предложил господину фон Харгенау что-нибудь выпить. И Франц весьма скованно, возвращаясь к роли официанта, спросил: Что вам угодно?
Воскресенье: Восемь тридцать. Они спускаются в столовую после обязательного обхода верхнего этажа, где Ульриху были показаны все до одной комнаты: А это комната для гостей, здесь останавливается Обби, когда приходит к нам в гости, а это, как вы видите, туалет, а это кладовка, а эта лестница ведет на чердак, но вы ведь вряд ли захотите туда заглянуть? Дорис, возбужденная, с раскрасневшимися щеками, прошептала что-то на ухо Францу. И тот: Да, в общем-то стоит пройти к столу, а то обед перестоит и будет испорчен. Ульриха посадили между Дорис и Обби. Он извинился перед Дорис: Я чувствую себя страшно виноватым, но мой брат никогда не может прийти вовремя.
Они перешли к горячему, когда зазвонил телефон. Обби, который чавкал за едой как свинья, отчего его отцу было явно не по себе, послушно поднялся из-за стола, стоило Францу сказать, Обби – телефон!
Не знаю, кто может звонить нам в такое время в воскресенье, сказала Дорис. Франц мрачно посмотрел на нее, но не произнес ни слова.
Обед – просто объедение, сказал Ульрих Дорис.
Вернулся Обби. Это тебя, сообщил он Францу. Господин фон Харгенау.
Дорис старалась не встретиться с Ульрихом взглядом. Взяв свою тарелку, она пробормотала какие-то извинения и вышла из комнаты. Из коридора до Ульриха доносился голос Франца. Все нормально, сказал Франц. Я понимаю. Молчание. Да. Понятно. Ульриху было ясно, что именно понимает Франц. Франц сказал: Все нормально, и повесил трубку. Когда Дорис подошла к нему в коридоре со словами: Франц, господин фон Харгенау как раз упомянул… Франц прошел мимо нее и отправился на кухню. Она вернулась к столу и, увидев тарелку мужа, сказала: Бедный, он не доел цыпленка. Потом, пока Ульрих описывал ей свои первые впечатления от Брумхольдштейна, ему было слышно, как Франц, в этом не могло быть сомнения, бьет об стену или об пол тарелки и бокалы. Дорис привстала было со своего стула, но передумала. Он так рассчитывал, что на обед придут ваш брат и фрейлейн Хеллер.
Я не знал, что он собирается прийти с фрейлейн Хеллер, сказал Ульрих.
Такая милая дама, откликнулась Дорис, а Обби захихикал. Обби, прекрати сейчас же, сказала она.
Когда Франц вернулся, в одной руке он держал бутылку вина, а в другой штопор.
Не желаете? спросил он Ульриха.
Обби спросил Ульриха, умеет ли тот поджигать машины.
Вы обращаетесь не по адресу, ответил Ульрих.
Друг Обби Вилли не мог сдержать ухмылки. Это совсем просто, серьезно сказал Обби. Открываете бензобак, опрокидываете машину на бок, для этого может понадобиться пара человек, и бросаете спичку в лужу вылившегося бензина.
Пых, радостно подхватил Вилли.
Мой слабоумный сын, снисходительно сказал Франц. По-моему, он мечтает о своего рода революционной роли.
По крайней мере я не трачу половину времени с подносом в руках, а вторую – играя со спичками без головок, откликнулся Обби и в поисках одобрения посмотрел на Ульриха.
Вон отсюда, крикнул Франц, обеими руками вцепившись в стол, словно сдерживаясь, чтобы не броситься на своего сына. Убирайся сию же минуту.
Ну надо же, сказала Дорис, когда Обби со своим другом вышли из-за стола. Вечно они ссорятся. Подрагивающей рукой Франц налил себе еще один бокал, а затем встал и перегнулся через стол, чтобы подлить Ульриху, проливая вино на скатерть. Дорис посмотрела на него с упреком. Франц, ты совсем позабыл о манерах.
Франц уселся и пристально посмотрел на Ульриха. Ладно, ну а что вы скажете о нашей братской могиле?
Какое-то мгновение Ульрих не мог понять, говорит ли Франц иносказательно о своем доме и семье или имеет в виду могилу, разрытую рядом со школой в Брумхольдштейне.
Та еще история, да? сказал Франц.
Ужас.
Им надо было сразу же залить все это тонной бетона. Но нет, наш мэр должен руководствоваться буквой инструкции.
Пока Дорис выметала на кухне перебитые тарелки и бокалы, Ульрих пытался втянуть Франца в беседу. Но Франц, мрачно уставившись на свой бокал, не желал отвечать на веселые воспоминания Ульриха: А сохранились ли те красные подтяжки? Никогда не забуду, как ты сидел в своих красных подтяжках за кухонным столом, аккуратно раскладывая зеленый лук и редис, селедку и сосиски, картофельный салат и соления, Liptauer.
Вы все выдумываете, сказал Франц.
Нет. Не выдумываю. Ульрих нагнулся к Францу, словно намереваясь окутать его своим восторгом перед деталями прошлого, которыми он, Ульрих, был с охотой готов поделиться.
А ваш брат и в самом деле сказал, что собирается прийти? внезапно спросил Франц.
Да. Но что-то, должно быть, изменилось… Мне надо будет скоро идти.
Только после того, как вы отведаете торт, сказала Дорис, входя в столовую с большим свежеиспеченным тортом на блюде.
Этого не может быть, сказал Ульрих с наигранным энтузиазмом.
Этого просто не может быть. Это же мой любимый шварцвальдский вишневый торт. Сколько лет я его не пробовал… может, с…
С прошлой недели, в «Сливе», сказал Франц.
Воскресенье: В десять тридцать Ульрих отправился пешком на автобусную остановку, так и не посмотрев на модель концлагеря Дурст. Он успел на последний автобус в Брумхольдштейн. За рулем тот же приветливый водитель. Хорошо провели время? спросил он Ульриха. О, да.
Приятные люди, сказал водитель.
Что-то я не могу найти Франца, сказала Дорис, когда они с Ульрихом стояли в дверях. Эй, Франц. Франц! Тишина. Франц?
Они постояли, дожидаясь ответа. Так и не дождавшись, она сказала: Надеюсь, когда вы в следующий раз к нам придете, с братом или без него, вы сможете увидеть модель Дурста. Она почти закончена. Франц, похоже, никак не может решить, оставлять ли ее как есть или выкрасить в темно-серый цвет.
Воскресенье: На обратном пути водитель упомянул о «Сливе». Время от времени я захожу туда выпить кружку пива. Все собираюсь зайти как-нибудь с женой…
Да, там неплохо кормят.
А их торты и выпечка, сказал водитель. Они делают даже шварцвальдский вишневый торт.
А вы его когда-нибудь пробовали? вежливо спросил Ульрих.
27
На торжественной церемонии памяти Брумхольда, которая состоялась под открытым небом, в нарядном парке позади библиотеки, мэр зачитал заготовленную по этому поводу довольно-таки пространную речь. В ней он попытался установить связь – никто не спорит, достаточно хрупкую – между философом Брумхольдом и городом, названным в честь покойного метафизика, величайшего немецкого философа двадцатого века. Мэр, опытный оратор, говорил с большой теплотой и, как показалось слушателям, искренним восторгом по отношению к человеку, чьим творчеством он всегда восхищался, хотя, как он тут же признался, осилить его так и не смог. Стоял прекрасный летний день, и мероприятие, несмотря на недавно раскопанную братскую могилу, из-за которой поначалу кое-кто советовал мэру отложить церемонию, собрало немало народу. Там была Анна Хеллер, был хозяин книжного магазина Йонке, и жена мэра, и их друзья Эгон и Хельмут, и фотограф Рита Тропф-Ульмверт, которая фотографировала выступающих. Хельмут то и дело поглядывал на часы. Его дочь Гизела сидела рядом с Эрикой в первом ряду, в то время как большинство школьников расселось сзади. Кроме того, Хельмут время от времени записывал что-то в маленький блокнот, дополняя заметки, которые он сделал для своей импровизированной речи. Разумеется, по такому случаю присутствовали все сотрудники библиотеки и все школьные учителя. Большая бронзовая плита с именем Брумхольда оставалась еще задрапирована белым полотнищем. По случаю торжеств в главном зале были выставлены все книги и статьи Брумхольда из собрания библиотеки, а также ряд книг и фотографий, предоставленных по случаю церемонии другими библиотеками.
Но кто же читает сегодня Брумхольда? риторически вопросил читающий свою речь по бумажке мэр.
Гизела особо не сомневалась, что ее отца тоже попросят произнести речь о Брумхольде. К удивлению Хельмута, приглашение поступило так поздно, всего за день до церемонии, что его так и подмывало отказаться. Сидя рядом с Хельмутом, Ульрих безуспешно пытался встретиться взглядом с Анной Хеллер. Хоть он и видел, как она разговаривала с его братом, сесть она предпочла вместе со своими учениками сзади. Хельмут все еще сердился, что его пригласили высказаться о Брумхольде только в последний момент. Но почему, недоумевал Ульрих, никто и не подумал попросить об этом меня? Они что, и в самом деле предпочитают архитектора известному писателю? Таков ли был бы выбор Брумхольда?
Впрочем, что ни говори, Хельмут умел увлечь публику. Читал ли он Брумхольда? Какое это имеет значение? А читал ли его физик Клинкерт, которому тоже предстояло произнести речь, или художник-портретист Хюбнер? Или Эгон и его очаровательная Рита? Или, если уж на то пошло, нелюдимый хозяин книжного магазина Йонке? Никто не спорит, читать Брумхольда тяжело. Но ведь мы, немцы, как любит говорить Хельмут, склонны к метафизике и нас нелегко обескуражить трудностями.
На свой восьмидесятый день рождения, незадолго до смерти, Брумхольд согласился дать журналу «Тrеие» интервью при условии, что оно будет опубликовано только после его смерти. Это первое интервью, которое он дал за сорок лет. Ульрих прочел его, когда оно появилось через неделю после смерти мыслителя. Во многих отношениях оно разочаровывало. Никаких новых откровений, ни признаний, ни сожалений. Как всегда настороже, Брумхольд, парируя вопросы о возрождении фашизма и о нигилистической тактике репрессий в разворачивающейся в современном городе партизанской войне, повторял, что он не вправе судить о подобных предметах. Я живу, твердил он, в бревенчатой хижине, которую много лет тому назад построил в лесу. Лес, по крайней мере по соседству, ничуть не изменился. Я живу просто. У меня нет ни радио, ни телевизора. У меня осталось мало времени, и я стараюсь тратить его, размышляя о действительно важном. Ни в самом интервью, ни в пространной сопроводительной статье не было никаких упоминаний о Брумхольдштейне, городе, названном в его честь. Непонятно, насколько сознательным было это упущение. Во всяком случае, на решимость мэра Брумхольдштейна организовать в честь философа поминальную церемонию это не повлияло. Первоначально было запланировано выступление пяти ораторов. Имя Хельмута добавилось лишь потом. Помимо речей, Брумхольдштейнский ансамбль камерной музыки, хор школьников, Gumpendorfer Gesangs Verein и муниципальный оркестр исполнили «Магнификат» Баха. Друзья библиотеки и гётевское общество обеспечили собравшихся прохладительными напитками. После некоторого количества дружеских увещеваний Хельмут согласился выступить с завершающим словом, на которое ему выделили двенадцать минут. Куда меньше, чем директору школы или нумизмату-любителю Frau Doktor Инге Нойрат, которая недавно оповестила о своем намерении передать Брумхольдштейну свою коллекцию редких монет – при условии, что она войдет в постоянную экспозицию нового музея.
Начиная с 1970 года Брумхольд ежегодно получал приглашение посетить Брумхольдштейн, которое ежегодно примерно в одних и тех же выражениях отклонял. В чем, учитывая его преклонный возраст, не было ничего удивительного. Удивляла скорее настойчивость мэра. Все эти непрекращающиеся приглашения, которые Брумхольд очевидно и с полным на то основанием не собирался принимать. В конце концов, зачем восьмидесятилетнему философу – пусть ему и было на девять лет меньше, когда он получил приглашение в первый раз – тратить целый день на разговоры с людьми, которых он, по всей вероятности, никогда больше не увидит? К чему канитель с общественностью города, мало в чем отличающейся от любой другой послевоенной общины? Едва ли Брумхольдштейн мог хоть чем-то удивить человека, который вплоть до своего смертного часа бился над основной проблемой метафизики: Что такое мысль? Что такое бытие? Что такое существование? Вряд ли у Брумхольда могли вызвать особый интерес современные жилые здания из красного кирпича, или галереи магазинов, или отлично спланированные улицы с рядами деревьев, просторные парки и игровые площадки, большой крытый бассейн, подземные гаражи, теннисные корты или хорошо одетые, благонамеренные жители Брумхольдштейна – ведь все это, дома и люди, казалось таким же, как и всюду. Все, если можно так выразиться, было привычным. Но ведь с самого начала никто и не собирался планировать или возводить город, который бы поражал любого, местного жителя или приезжего, своей непривычностью.
В этом посмертно опубликованном интервью Ульрих прочел слова Брумхольда, который проводил каждое лето в своей скромной хижине, затерянной в глубине столь страстно любимого им леса: Лес продолжает манить нас. Ибо в лесу место наших глубочайших грез и желаний. Чтобы восстановить наши корни и нашу цель и вернуться к простоте жизни, которой уже не найдешь в немецком обществе, мы обращаемся к лесу. С сумой за плечами мы в одиночку отправляемся бродить по лесу, наугад выбирая тропу за тропой, не зная, куда ведет нас лес, с готовностью отдаваясь на своем пути инстинктам и случаю, в уверенности, что тем самым становимся ближе к нашему прошлому, к нашей истории, к нашему немецкому духу.








