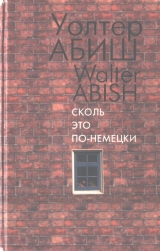
Текст книги "Сколь это по-немецки"
Автор книги: Уолтер Абиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Но почему же Дафна уехала в Женеву? Warum Genf?
29
В день смерти Брумхольда сообщение о ней обошло все французские, швейцарские и немецкие газеты. Пространные некрологи. Величайший со времен Гегеля немецкий мыслитель. Фотографии Брумхольда в его бревенчатой хижине, до которой от спроектированного братом Ульриха для себя самого дома было каких-то двадцать минут езды. Целая страница, перечисляющая философские достижения Брумхольда. К удивлению Ульриха, издатели не побоялись упомянуть о кое в чем предосудительной и этически сомнительной роли философа во время прихода к власти национал-социалистов. Чуть позже в тот же день он наткнулся в незнакомом ему районе Женевы на маленький, но очень хороший книжный магазин. Он с удовольствием обнаружил там целый ряд книг Брумхольда, как на немецком, так и на французском. После некоторых колебаний он выбрал «Jetzt zит letzten Mahl» и «Ohne Grund», раннюю работу, опубликованную в 1936 году. Выходя из магазина, он краем глаза – но в этом не было никаких сомнений – заметил сидящую рядом с водителем в проезжающем мимо светло-желтом «порше» Дафну. Размахивая руками и выкрикивая ее имя, он бросился за автомобилем и едва не попал под встречный грузовик. Глядя на него, остановились несколько прохожих. Автомобиль не затормозил. Скорее всего, Дафна его не видела. Несколькими часами позже, когда он вернулся в гостиницу, дежурный протянул ему принесенную кем-то записку. Он узнал почерк Паулы. Записка гласила: Хватит с тебя. Оставь нас в покое.
Нас? Нас? Кого это – нас?
Отвечай.
Немедленно отвечай.
30
Интервьюер пришел ровно в три. Его имя звучало как – то не по-немецки, и Ульрих тут же его забыл. Уж не еврейское ли это было имя? Интервьюеру было хорошо за двадцать. Темные волосы, темные очки, одет в очень поношенный твидовый пиджак. У Ульриха не было никаких оснований ему не доверять. Он прошел через слишком большое количество интервью. Ульрих улыбался ему, ни на секунду не забывая о толстых очках интервьюера, о его неухоженной внешности, его смущающем своей пристальностью взгляде, о болтающемся у него на плече диктофоне, – все это оружие он хотел нейтрализовать своей сердечностью и прямотой. Диктофон был из самых дешевых. Не из тех, которыми пользуются профессионалы. С самого начала было трудно понять, кто у кого, собственно, берет интервью. Молодой человек оглядывал комнату, обращая внимание на немногие находящиеся в ней вещи Ульриха: на портативную пишущую машинку (взятую напрокат), на кипу бумаги, на небольшую стопку книг, на сохнущее на спинке стула белье, туфли на полу, путеводитель на кровати. Ульрих предложил ему бокал вина, но он отказался. Ульрих предложил заказать чай или кофе, но он заявил, что только что поел. Он не грубил, по крайней мере не грубил намеренно. Ульрих зажег сигарету, налил еще один бокал вина и подошел к окну, глядя на лежащую внизу улицу и в каком-то смысле отделяя себя от незваного гостя, который присоединился к нему у окна.
Как вам удалось найти меня в Женеве? спросил Ульрих.
Мне повезло. Это замечание сопровождалось мимолетной самодовольной ухмылкой, которая тут же исчезла.
В чем?
Кто-то из журнала узнал вас на улице и сообщил об этом мне. Я обзвонил несколько гостиниц. Сначала я искал счастья в более дорогих.
В Женеве не так уж мало гостиниц, заметил Ульрих.
Мне, как я уже сказал, повезло.
Ульрих воззрился на него с сомнением. Как называется журнал, для которого вы пишете?
Он повторил название популярного швейцарского журнала, который, как правило, интервью с писателями не публиковал. И они попросили вас взять у меня интервью?
Если хотите, можете позвонить и проверить.
Нет-нет. Вы уверены, что не хотите ничего выпить?
Тот уселся на кровать, но сразу же извинился и перебрался на стул, когда Ульрих попросил его на кровать не садиться. Для неприязни к этому человеку у Ульриха не было никаких оснований. Совсем никаких. И все же Хельмут на его месте попросил бы его уйти. Без труда. Он бы сказал, мне не по душе ваше лицо, и на этом бы все закончилось. Ульрих придвинул стул и уселся лицом к лицу с молодым человеком.
Вы упомянули по телефону, что в будущем году у вас выходит книга.
Сейчас я вношу в нее последние штрихи.
Вы не собираетесь написать и о Женеве? Включить это в книгу?
Едва ли. Как правило, я предпочитаю писать о городе, только удалившись от него на значительное расстояние. С другой стороны, Сегален, книгу которого я как раз сейчас читаю, сумел, продолжая жить в Пекине, написать необыкновенный роман, действие которого происходит в этом городе.
Сегален? Швейцарец?
Нет, француз.
Он записал имя на маленьком желтом листке и, избегая смотреть на Ульриха, заметил, что, как ему сообщили, Паула сейчас проживает в Женеве. Не является ли это одной из причин, почему вы сюда приехали? И общались ли вы с ней?
Ульрих затянулся сигаретой. Он чувствовал легкое головокружение. Он уютно расслабился на своем стуле. С этого места ему была видна улица внизу. Она напоминала о фильмах Таннера… именно такие ничем не примечательные улицы любил снимать в своих фильмах Таннер.
Нет, сказал Ульрих. Мы с женой разошлись. Я не знаю, где она. Мы не виделись с самого процесса.
Она не винит вас за чрезмерно длительные сроки приговоров, вынесенных группе?
Вам нужно спросить у нее.
Как у единственного в группе писателя, не было ли у вас искушения вести дневник на протяжении того времени, когда вы… были с ними связаны?
Я не вижу никакого смысла в обсуждении этой группы. Она ушла в прошлое. Более того, наше с Паулой решение разойтись никак не связано с группой Einzieh или исходом судебного процесса. Я пришел к выводу, что большинство политических процессов позарез нуждается в своего рода козле отпущения, чтобы уйти от вопросов, пытающихся проникнуть чуть-чуть глубже… Этот процесс не был исключением. То, что мне пришлось сказать на следствии, вопреки мнению большинства, отнюдь не было сказано под давлением. Я никогда не был действительным участником или членом группы.
Совпадение ли, что оба общественных здания, взорванных группой «Седьмое июня», были спроектированы одним из Харгенау?
Сомневаюсь, что эта акция направлена на Хельмута или на меня. И конечно, она не направлена на моего покойного отца, который в Германии – своего рода герой.
Ваш отец ведь тоже был писателем?
Он написал несколько книг, но писателем себя никогда не считал.
Не написал ли он в конце тридцатых годов книгу, которая вызвала много споров?
Книга, о которой идет речь, – «Германия: Новый Восток». В ней он исследует влияние…
Евреев?
Нет… Посторонних. Не думаю, что сейчас время обсуждать во многом необдуманные и импульсивные писания моего отца на исторические темы.
Вернемся к вам. Вы планируете остаться пока в Женеве?
Да, я надеюсь завершить свой роман здесь. Почему именно в Женеве? Без какой-либо особой причины. Я уже был в Женеве и полюбил ее. Между прочим, мы с Паулой уже останавливались в этой гостинице несколько лет тому назад. Помню, как мне было приятно, когда я узнал, что здесь в 1940 году на несколько дней останавливался Музиль.
Как называется ваша новая книга?
«Идея Швейцарии».
Идея Швейцарии?
Ну да, основой послужило прочитанное мной о Паганини. Похоже, Берлиоз любил Паганини, но в идее, а к его музыке испытывал отвращение.
И как это соотносится со Швейцарией?
О, Швейцария тут не более чем словцо, ярлык.
Это подводит меня к одному интересному вопросу. Многие критики упоминают о присущей большинству ваших произведений двусмысленности. Читая ваши книги, всегда испытываешь такое чувство, словно жизненно важная часть информации от тебя скрывается.
Не знаю, как ответить. Если кто-то и утаивает информацию, то наверняка не просто ради ее утаивания. Все – таки персонажи, как и все люди, частенько неправильно истолковывают намерения друг друга. Как бы там ни было, «Идея Швейцарии» призвана это недопонимание нейтрализовать. Я, конечно же, имею в виду тот образ, который рождается у людей при слове Швейцария. Своего рода контролируемый нейтралитет, по-своему антисептическое спокойствие, которое даже я нахожу успокоительным. Подчиняйся закону, и тебе нечего бояться. На меня, конечно, могли повлиять и фильмы Таннера.
Но он же по самой своей сути политически ориентирован. Его фильмы всегда наделены политическим содержанием…
Да?
Ну, и…
Да?
Какого рода политическое заявление делаете вы в своей книге?
Извините, я отвлекся. Что вы сказали?
Какого рода политическое заявление делаете вы в своей книге?
Я не верю в заявления. И менее всего в политические.
Молодой человек, воинственно: Вы только что сказали…
Роман – не восстание. Точно так же, как он утверждает и делает приемлемыми формы человеческого поведения, утверждает и делает приемлемыми он и общественные установления.
Это вас смущает?
Отнюдь. С чего бы?
Когда вы планируете вернуться в Германию?
Как только закончу роман. Я, можно сказать, ищу подходящий конец. Во вчерашней газете было упоминание о молодой женщине, которая выбросилась из окна четырнадцатого этажа административного здания всего в нескольких кварталах отсюда. По чистой случайности кто – то, сидя за своим столом у окна не то на седьмом, не то на восьмом этаже, умудрился встретиться с ней взглядом. Я упоминаю об этом только потому, что в жизни выброситься из окна означает конец, в то время как в романе, где самоубийства случаются налево и направо, это становится объяснением. Интервьюер поднял свой диктофон, нажал на одну, потом на другую кнопку и с выражением непритворного горя на лице объяснил, что забыл нажать на кнопку записи. Может, мы пройдемся по вопросам еще раз? Совсем коротко…
Ну да, почему бы и нет, снисходительно согласился Ульрих. Какая дьявольская насмешка, подумал он.
Через час, уже после ухода интервьюера, зазвонил телефон, и, когда он снял трубку, с готовностью ожидая любого вмешательства, любой отвлекающей мелочи, лишь бы только не садиться, в попытке что-то написать, за стол, на другом конце провода раздался голос его брата Хельмута, по-видимому, в этот час еще не ушедшего из своей конторы, который спокойно произнес: Я подумал, тебе будет интересно узнать, что Дафна Хейзендрак вовсе не является Дафной Хейзендрак.
Конечно, является.
Она вполне могла бы, должна ею быть, но это не она. Дафна Хейзендрак… до чего абсурдное все же имя… как бы там ни было, теперь мы говорим о настоящей Дафне… а она замужем за главой предприятий «Даст-Индастриз» в Испании. Его зовут Уилок. План Уилок.
План?
Да. План. П… Л… А… Н… Они живут в Мадриде. У них трое детей. На самом деле Дафна – ее второе имя. А первое, поверишь ли, Роза. Она говорит по-немецки с испанским акцентом. Его брат истерически рассмеялся.
Ты говорил с ней?
Только что повесил трубку.
Кто же тогда наша Дафна?
Ни малейшего представления.
Ты не сообщил об этом своему тестю?
Ты что, меня за осла держишь?
Ты засек ее у себя дома. Увидел насквозь. Поэтому ты ее и расспрашивал?
Нет. Я просто дотошен. И не хочу, чтобы ты впутывался. Это отнимает у меня слишком много времени.
Между прочим, сказал Ульрих. Жалко, что так получилось с полицейским участком.
Мы его подлатаем. Но мне сказали, что сгорели все их досье, включая и твое.
31
Это Швейцария, сказал он себе, когда вышел в тот же день прогуляться. Это место, где умер Музиль, где умер Рильке, где жил и умер Готфрид Келлер, где родился Жан – Жак Руссо и всего несколько лет тому назад жил Набоков, такой же пленник прошлого, как я пленник настоящего.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СЛАДКАЯ ИСТИНА
1
Великолепное немецкое лето.
Не то слово.
В воздухе благоухание цветов.
Разве не чудесно.
Наверное, лучшее лето за последние тридцать четыре года.
И какое умиротворение.
Когда его отца вывели на расстрел в Оффенбахе, последними его словами было: Да здравствует Германия. Так, по крайней мере, рассказывали ему родные. Он был казнен в августе 1944-го. Каким выдалось лето 1944 года? Оживленным. Наверняка оживленным.
Один из испокон веку принадлежавших им Дюреров был недавно продан на аукционе в Лондоне за сто сорок две тысячи долларов. Теперь он принадлежал музею в Техасе. Со ста сорока двумя тысячами нельзя не считаться, сказал Хельмут.
Его брат Хельмут работает над очередными проектами, музеем в Брумхольдштейне и небольшим колледжем в Маклебурге. А как. там со взорванным полицейским участком? поинтересовался Ульрих. О, они решили заказать его кому-нибудь другому, ответил Хельмут. Возможно, испугались, что я приношу несчастье.
Группа освобождения «Седьмое июня» время от времени, примерно раз в две недели, взрывает мост или автомашину, просто чтобы – или так кажется – не утратить навыка. Но несмотря на всю их активность, они постепенно исчезли с первых полос и, соответственно, из сферы общественного внимания. Похоже, что общественному вниманию вообще отмерен недолгий срок. А кроме того, как указал Хельмут, страховые компании, по-видимому, предлагают адекватные меры по финансовой защите владельцев поврежденной или уничтоженной собственности. Где бы мы были без надлежащего страхования, риторически вопросил Хельмут по случаю еще одного взрыва, на сей раз – склада оптового торговца цветами.
В последний раз одна школьная учительница из Брумхольдштейна видела Паулу на пляже в Олендорфе.
Как ты узнал?
Но у брата были свои источники.
А Дафна?
Хельмут не знал. Она тебе действительно нравилась? В знак изумления он медленно покачал головой. У нас с тобой такие разные вкусы. Ты любишь хрупких и немного беспомощных.
Вряд ли Паула беспомощна, возразил Ульрих.
Да, согласился Хельмут. Она, наверное, была исключением из правила.
Хотел бы я знать, что она замышляет сейчас.
Подозреваю, она бы с радостью вышибла тебе мозги, осклабившись сказал Хельмут.
О, нет. Никогда. Но сказал он это без большой убежденности.
Привыкнув жить в роскоши, Хельмут остановился в «Савое». А где же еще? Две просторные комнаты выходят на озеро. Зачем ему две комнаты? Приехал ли Хельмут в Швейцарию, только чтобы увидеться с ним… или он совместил это путешествие с какими-то делами? Не выискивал ли он в Женеве клиента и заказ?
Здесь я чувствую себя как дома, чуть ли не защищаясь, сказал Ульрих, когда Хельмут пришел к нему в гости. Симпатичная квартирка. К тому же всего в часе полета от Вюртенбурга. Симпатичный уголок, снисходительно сказал его брат, проинспектировав жилье. Тебе, похоже, по нраву запустение вокруг и изможденные лица здешних обитателей. Он выглянул из окна и состроил гримасу. Экзотика. Долго ли ты собираешься здесь оставаться? Не находишь ли ты Швейцарию несколько душной? Ну же, согласись.
Почему Паула вышла за меня замуж? спросил Ульрих.
Честно признаться, это всегда меня озадачивало.
У меня не было денег.
Да, но у тебя было громкое имя.
Ты ведь и в самом деле привязан к нашему имени, да?
Еще как, с жаром произнес Хельмут, уставившись на него. Бросая ему вызов.
Непереносимой для меня оказалась, сказал Ульрих, упрямая, несгибаемая, просто безумная потребность Паулы в действии. На самом деле – потребность во внимании: она якобы все еще в бегах, хотя за ней некому гнаться.
Почему бы тебе не приехать ко мне в гости, предложил Хельмут. Тебе понравится Брумхольдштейн. Встретишь новых людей. Он оценивающе посмотрел на Ульриха. Нам всем не помешают новые люди.
Ты знаешь, Дюрер никогда не был в Женеве. Он добрался только до Базеля.
К черту Дюрера, сказал Хельмут.
Ульрих как ни в чем не бывало продолжал: Но он побывал, перебравшись через Бреннер, в Венеции и Болонье, где, как сообщил в письме одному другу, он собирался изучать секреты перспективы. Вот его подлинные слова: Danach werde ich nach Bologna reiten um der Kunst in geheimer Perspective willen, die mich einer lehren will.
Ты в самом деле помнишь всю эту фигню? спросил Хельмут.
Так или иначе, Дюрер так и не добрался до Женевы, сказал Ульрих. В одиночку или вместе с женой он посетил Ахен и Кельн, Бамберг и Ашаффенбург, Майнц…
Хватит, сказал Хельмут.
И Кольмар, Аугсбург и Брюгге, Гент и Брюссель, и Зеландию, где он надеялся зарисовать выброшенного на берег кита. Всегда возвращаясь в Нюрнберг.
Иногда я не могу понять, чем ты, собственно, живешь, задумчиво произнес Хельмут.
И Брумхольдштейн. Посещал ли когда-нибудь Дюрер то место, где расположен Брумхольдштейн?
Я бы не удивился, сказал Хельмут. Он мог проезжать там по пути в Италию. Мог остановиться на одном из тех живописных постоялых дворов, которые ныне существуют лишь на картинках в книгах. Насколько известно, он вполне мог сделать несколько набросков манящего ландшафта с горами вдали. Брумхольдштейн, если смотреть фактам в лицо, с точки зрения недвижимости близок к образцу, даже если ты и знаешь о…
О лагере?
Да, о Дурсте, первоначально названном по имени торговца углем Эршвангера Дурста…
Эршвангера… Не верю.
В девятнадцатом веке это был простой железнодорожный узел. Естественно, после того как там построили лагерь, он стал приобретать все большее и большее значение.
Интересно, пользовались ли при проектировании концлагерей услугами архитекторов?
Меня не трогают твои инсинуации, сердито сказал Хельмут. Моя работа ограничена строгими рамками проектирования зданий. Кроме того, этика не является главным критерием в архитектуре.
Хельмут дождался ланча, чтобы сообщить, что ушел от жены. Между прочим, небрежно сказал он, я ушел от Марии. И ты ждал все это время, чтобы сказать мне об этом? спросил Ульрих. Хельмут смотрел мимо него то ли на сидящую за соседним столиком парочку, то ли на официанта, то ли за окно. Официант принес карту вин. Хельмут не обратил на него внимания. В действительности, сказал он Ульриху, у нас с Марией совершенно разные взгляды на жизнь. Мы ни о чем не могли договориться. Ни о собаке, ни о воспитании детей. Само собой, я оставил ей дом и все, что в нем было. Все до последней мелочи, включая новую стереосистему, которая стоила мне бешеных денег. И в придачу все записи. Однако мы по-прежнему в хороших отношениях. Я знаю, что для детей это удар. Но, должен тебе сказать, меня начинали воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Да, начинали мною восторгаться. Даже меня почитать. Меня можно было сравнить с этакой скалой. Опять же само собой разумеющейся. Я имею в виду, что скала не способна в одну прекрасную ночь вдруг исчезнуть. Меня это бесило…
Почему мы не заказываем вино, спросил Ульрих.
Ты понимаешь, что я имею в виду? Хельмут испытующе посмотрел на него.
В этом, безусловно, есть смысл.
Ты задница.
Чего ты хочешь? спросил Ульрих.
Ты ведь всегда ее недолюбливал, а? Согласись.
Кого, Марию? Не имею ничего против нее.
Согласись. Напускная веселость. Сметка, оптимизм, энергия, преувеличенная вера в меня?
Я ни с чем не согласен. Преувеличенная вера в тебя? Ты же любишь преувеличения. Ты на них процветаешь…
Ну ладно, давай уж закажем вина. Ты хочешь что-нибудь конкретное? Ульрих покачал головой. Ладно, сказал Хельмут с наигранной бодростью, что у нас тут? и погрузился в изучение вин.
Было нелегко отказаться от дома, сказал Хельмут, когда официант отошел. Я вложил в него столько труда. Это лучшее, что я когда-либо сделал. Я получил за него премию, ты же знаешь?
Да.
Работа над этим проектом принесла мне огромное удовлетворение. В то время я чувствовал, что проектирую как бы все наше будущее. Наши будущие успехи. Я никогда не сомневался в своих будущих успехах. Я, наверное, мог бы побороться. Все же дом остался, так сказать, в семье. Но ее ничто не удержит от его продажи… Ей нужно только хорошее предложение. И она это сделает просто назло, убежден в этом. Первый предоставившийся шанс. Проучить Хельмута. Проучить скалу.
Я приеду к тебе в гости, сказал Ульрих. Как насчет следующего месяца?
Дети отнеслись к этому спокойно. Не встали, похоже, ни на чью сторону. Мы видимся каждые несколько недель. Они приезжают в Брумхольдштейн. Им нравится у меня… это не совсем в Брумхольдштейне. Надо чуть – чуть отъехать. Ты увидишь…
Да, как насчет следующего месяца?
Отлично. Хельмут вытянул шею, вглядываясь в направлении кухни. Что-то они не спешат. На чем я остановился? Он вопросительно посмотрел на Ульриха.
Рассказывал о своем жилье.
Да, оно мне нравится. Невтерпеж показать его тебе. Мне нравится вновь быть одному. В Брумхольдштейне у меня офис и совсем немного сотрудников. Несколько чертежников и секретарша.
Симпатичная?
Нет. Совсем без этого. Я не хочу никаких привязанностей.
А почему вдруг Брумхольдштейн?
Он подвернулся в нужное время. Последней каплей стал полицейский участок в Вюртенбурге.
Ты имеешь в виду его разрушение?
Нет. То, что мне не заказали отстроить его заново. Это был мой проект. Эти ублюдки уничтожили мой проект. Казалось, город захочет, чтобы я поработал над тем, что, по сути, является моим зданием. С моими-то связями, я же, в конце концов, был их любимцем, следовало ожидать, что работу получу я. Естественно, приватно каждый выразил свое глубокое сожаление. Уж поверь мне. У всех серьезные лица, а на них – отражение чуткой заботы. Шайка говноедов. Ты ведь знаешь, обычная история. У меня-де связаны руки. Я не могу повлиять… Городской совет счел, что в интересах Вюртенбурга лучше поручить работу кому-то другому, тому, кто не так тесно связан с событиями. С какими событиями? Что вы имеете в виду? Все мои друзья клянут бюрократию. К черту, они и есть бюрократы. Он поднял руку, подзывая официанта. До чего они медлительны, сказал он. Что они там делают на кухне? Надо было занять столик на террасе – там почему-то обслуживают быстрее.
На террасе мы можем выпить кофе, предложил Ульрих.
Это мысль. Но в следующий раз…
После того как были поданы закуски, Хельмут продолжал то и дело приглядываться к сидящим на террасе. Как только они покончили с горячим, Хельмут встал со своего места и проследовал на террасу, где, с опущенной головой обогнув один из столиков, выбрал место напротив входа в зал, из которого они только что вышли.
Хельмут откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, подставил лицо под лучи солнца. Готов поспорить, что ты все еще в недоумении от моего решения оставить Марию, с определенным самодовольством сказал он.
Ты же только что объяснил его, сказал Ульрих, чувствуя, что невыносимо привычный диалог завлек его в ловушку. В ловушку языка, который, казалось, направлял его мысли, его ответы. О, жить бы там, где говорят на языке, которого он не понимает. К их столику подошел официант, и Хельмут спросил Ульриха, что ему взять.
Кофе.
Не желают ли господа еще что-нибудь.
Что-нибудь слоеное, задумался Ульрих и остановился на наполеоне.
Хельмут заказал кофе и булочку со взбитыми сливками.
Ты бывал здесь раньше? спросил Ульрих.
Да. И у них недурная выпечка.
Когда ты был здесь? Не проглядывала ли в его голосе определенная обида?
Ну, какое-то время назад, сказал Хельмут. На самом деле не помню. Затем расплылся в широкой улыбке. А что?
Да нет, просто так.
Нет уж, скажи. Хельмут засмеялся, и Ульрих, все еще полный беспричинной обиды, присоединился к нему. Ха-ха-ха.
Братья.
Воссоединение семьи.
Возьми еще, сказал Хельмут, давай же. Прошу тебя.
Не могу.
Ты должен. Хельмут подозвал официанта. На этот раз он заказал эклер.
Ну, так когда ты приедешь ко мне в Брумхольдштейн?
Как насчет следующего месяца?
Когда.
Когда захочешь.
Хельмут вытащил из кармана календарь, нахмурившись изучил его и, вновь покачав головой и по-прежнему теребя его пальцами, остановился на восемнадцатом.
Подходит. Прилечу.
Отлично. Я тебя встречу. Затем, щурясь от солнца, Хельмут наклонился вперед: Ты знаешь, что дом, который я спроектировал для Гизелы и Эгона, напечатан на обложке «Тrеие» за эту неделю? Прежде чем Ульрих мог что – либо сказать в ответ, Хельмут поднял руку и остановил его. Только одно незначительное упущение, возможно, недосмотр. Он рассмеялся. Поверишь ли, нигде не упомянуто мое имя. Они опустили мое чертово имя.
Не понимаю.
Чего не понять – статья об Эгоне и Гизеле, об их прекрасном доме, об их прекрасной собаке, об их прекрасном полотне Магритта, об их прекрасных друзьях, об их хорошем вкусе. Новая Германия, знаешь ли. Но ни строки о Хельмуте Харгенау. А ведь, казалось бы, как архитектор, как человек, который этот чертов дом построил, я должен быть упомянут, чтобы четыреста пятьдесят тысяч читателей имели шанс, если им когда-нибудь выпадет удача, со мной связаться. Возможно, в журнале пошли на это из-за фамилии Харгенау. Возможно, они предпочитают писать о нас, только если мы замешаны в какой-либо жалкой политической заварушке. Как бы там ни было, приятно видеть дом на обложке. Ты ведь встречался с Эгоном?
Да. Я знаком с ним и его женой. Он к тебе приезжал?
В ответ всплеск мимики. Приезжал ли он ко мне? А как, ты думаешь, я получил подряд на строительство музея? Эгон – мой связной. Он дружит с мэром. Хельмут вертел в руках свой наполовину съеденный эклер. В Вюртенбурге они вкуснее. Он посмотрел на озеро и, встав, извинился. Чувствую себя не вполне здоровым. Должно быть, из-за солнца.
Когда они вышли из ресторана, Хельмут спросил, не подбросить ли его куда-нибудь. Нет, сказал Ульрих. Я никуда не собираюсь. Ладно, сказал Хельмут с нервным смешком, быстро взглянув на часы. Хотел бы остаться с тобой… но должен идти. У меня до отъезда в Брумхольдштейн еще свидание.
Дела?
Раз не могу тебя подвезти, то давай прощаться. До следующего месяца.
Спасибо за ланч. Жаль, что у вас так с Марией. Хельмут, подняв руку, остановил такси. Это не могло не случиться. Я даже рад своей свободе, сказал он, залезая в машину. Увидимся восемнадцатого.
Хельмут не упомянул о Франце Метце.
Правда, на это у него, наверное, не было причин.
Я свяжусь с тобой, сказал Хельмут через окно такси. Ни во что не ввязывайся.
Он упомянул Марию, Паулу, Дафну, Эгона, Гизелу, своих детей, но не Франца.
Почему Ульрих помнит Франца?
Потому что тот носил ярко-красные подтяжки.
Потому что, восседая за большим кухонным столом, он обычно обставлял свою вечернюю трапезу с тем любовным тщанием, с каким офицер собирает свои войска. Редис, Radischen, направо. Зеленый лук, кольраби, кусочки селедки – налево. Кровяная колбаса, Blutwurst, рядом с черным хлебом. Liptauer. Масло. Сыр. Пиво.
Потому что как-то раз Ульрих застал его перед зеркалом в столовой, когда тот раз за разом повторял одно и то же: Молчи об этом. Пожалуйста, молчи об этом.
Потому что, после того как Франц прожил с ними Бог знает сколько лет, их мать – Ульриху сказали об этом лишь много позже – во время одного из своих внезапных обходов обнаружила его в постели в комнате горничной. В маленькой комнатке, совсем крохотной комнатке, где с трудом умещались кровать, сундук, крошечный столик и два стула. В изумлении она спросила Франца: ну а ты-то что тут делаешь? Если ты болен, то почему не лежишь в своей собственной постели?
Потому что, выслушав объяснения Франца, мать в негодовании велела ему собирать вещи. Я не могу смириться с этим. Что скажут люди?
Потому что на следующий день кто-то, какой-то неизвестный злоумышленник, разбил им на первом этаже семь окон. Перебил их деревянной дубинкой, которую нашли в саду. Деревенский полицейский, пришедший засвидетельствовать нанесенный урон, шутливо заметил, что речь шла явно не о попытке ограбления. Для этого незачем было бить столько стекол. А? Вы составите об этом рапорт или нет? спросила мать.
Потому что в 1943 году его отец, Ульрих фон Харгенау, в бодром письме своей жене написал: Угадай, кто работает официантом в офицерской столовой?
Потому что на озере Франц учил их с братом плавать под водой.
Потому что Франц внезапно появился в 1948-м, проведя год в Гамбурге, где он женился на «танцовщице».
Потому что еще долгое время все Харгенау часами обсуждали таинственную женитьбу Франца в Гамбурге. Почему он словно воды в рот набрал? Что он пытается скрыть?
Потому что, когда все еще рыскали по селам в поисках чего-либо съедобного, он приносил им консервы, которые стащил в столовой для американских офицеров, где служил официантом.
Потому что, как сказал бы Хельмут, в сердце у каждого есть слабое место для верного слуги. Ах да, конечно, наш слуга, ляпнул однажды Ульрих, и Хельмут двинул ему по ребрам.
Потому что он оставался с ними после войны четыре или пять лет – и только Богу ведомо, сколько еще до того, как они с Хельмутом родились.
Потому что гнев их матери, когда она обнаружила валяющегося голышом в комнате горничной Франца, выходил за всякие рамки.
Потому что от его краткого супружества в Гамбурге у него остался сын по имени Обби. Что за абсурдное имя. И кому могло прийти в голову назвать так своего сына, сказала их мать.
Потому что постепенно все они простили, что он перебил им стекла… Они пришли к выводу, что причиной тому был приступ ярости. Потому что, в конце концов, он был почти что членом их семьи. Приемным сыном.
Потому что его любил их отец.
Потому что свободное время Франц проводил на кухне, читая книги, взятые из отцовской библиотеки.
Потому что, когда вся эта история отошла в прошлое, он женился на их горничной Дорис, той самой, в постели которой он лежал, когда их мать, не постучавшись, вошла в комнату.
Как все сложилось бы, не войди их мать в эту комнату, когда там не было горничной?
Как все сложилось бы, не будь у их матери подобной склонности проверять свою горничную?
Действительно ли она собиралась осмотреть комнату? Если бы она только не была так ошарашена, так оскорблена…
Естественно, в церковь, где венчались Франц и Дорис, они не пошли, хотя и получили приглашение. Как странно, сказала их мать, глядя на написанное от руки приглашение. Никак не ожидала его получить. Потом она послала Францу и Дорис серебряную сахарницу, находившуюся у них в семье испокон веку. В то время Ульрих не увидел в ее поступке ничего удивительного, но сейчас, по зрелом размышлении, он казался ему просто невероятным.
Они помнили Франца за его рассказы. За его описания Швейцарии, где он проработал шесть месяцев официантом в гостинице. Потому что он, казалось, предпочитал их, его и Хельмута, своему круглолицему Обби, который жил вместе с матерью Франца. Возможно, он предпочитал их своему сыну, потому что Обби медленно соображал, потому что он не мог даже толком поймать мяч. Ему не хватало координации. Потому что, скорее всего, Франц не мог ни смотреть на Обби, ни разговаривать с ним, не вспоминая о своей первой жене в Гамбурге.
Потому что каждый год он присылал им открытку на Рождество. Семье фон Харгенау. Никогда, никогда не пропуская фон.
Потому что, когда он еще жил в их доме, Франц объявил, что свернет шею всякому, кого уличит в посягательстве на их собственность, и, глядя на его лицо, они понимали, что это отнюдь не пустая угроза.








