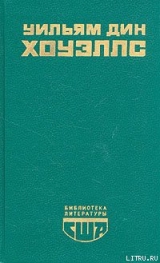
Текст книги "Возвышение Сайласа Лэфема"
Автор книги: Уильям Дин Хоуэллс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
3
На исходе зимы на имя мисс Айрин Лэфем пришел номер техасской газеты с восторженным описанием ранчо достопочтенного Лоринга Дж.Стэнтона, которое посетил репортер.
– Это, верно, его друг, – сказала миссис Лэфем, когда дочь принесла ей газету, – у кого он гостит.
Девушка ничего не сказала, но унесла газету к себе и перечла каждую строку в поисках еще одной фамилии. Она не нашла ее, но заметку вырезала и засунула ее за раму зеркала, где могла читать ее каждое утро, расчесывая волосы, и каждый вечер, заглядывая напоследок в зеркало, перед тем как потушить газ. Сестра нередко читала заметку вслух, стоя за ее спиной и пробуя различные ораторские приемы.
– Впервые слышу про любовное письмо в виде рекламы ранчо. Но таков, вероятно, стиль у обитателей Холма.
Миссис Лэфем сообщила о газете мужу, отнесясь к ней весьма серьезно, чего не сделал он.
– Почем ты знаешь, что ее прислал тот? – спросил он.
– Я в этом уверена.
– Отчего бы ему просто не написать к Айрин, если у него и вправду намерения?
– Может, это было бы не по-ихнему, – сказала миссис Лэфем. Она не имела понятия, как бывает по-ихнему.
Весной полковник Лэфем показал, что всерьез намерен строиться на Нью-Лэнд. Идеалом дома были для него фасад из песчаника, четыре этажа, мансардная крыша и вентиляционное устройство. Внутри надлежало быть зале окнами на улицу и столовой окнами во двор. На втором этаже – гостиные, отделанные черным орехом или окрашенные в два цвета. Спальни – на верхних этажах, на обе стороны, а чуланы – над входными дверьми. И всюду – черный орех, кроме чердачного помещения, а его надо окрасить под орех. И все потолки – высокие, и везде – красивые карнизы и лепнина посредине потолков, везде, кроме опять-таки чердака.
Эти идеи сложились у него при осмотре многих строившихся зданий, куда он любил заглядывать. Их одобрял и подрядчик, много строивший на Бэк-Бэй на продажу; тот сказал, что если кто хочет иметь шикарный дом, то именно так и строит.
Начало таинственного пути, который увел Лэфема от подрядчика и привел к архитектору, проследить почти невозможно. Но это произошло, и Лэфем бодро изложил архитектору свои соображения насчет отделки черным орехом, высоких потолков и карнизов. Архитектор содрогнулся, но сумел это скрыть. Он умел, как почти все архитекторы, искусно играть на нехитром инструменте, название которому Человек. И он принялся играть на струнах полковника Лэфема.
– Да, конечно, в гостиных потолки высокие. Но вы наверняка видели прелестные старинные дома в сельских местностях, где нижний этаж очень низкий?
– Да, – признал Лэфем.
– Не кажется ли вам, что нечто подобное будет очень эффектно? Пусть нижний этаж будет низкий, а гостиные над ним – высокие. Сразу за дверью – небольшая приемная; тогда у вас во всю ширину фасада получится квадратный холл с удобной пологой лестницей по трем его стенам. Я уверен, что так будет приятнее миссис Лэфем. – Архитектор потянулся за листом бумаги, лежавшим на столе, у которого они сидели, и набросал свой замысел. – Тогда ваша столовая будет с заднего фасада, с видом на воду.
Архитектор взглянул на миссис Лэфем, которая сказала: – Да, конечно, – и продолжал:
– Так вы избежите длинных, прямых, уродливых лестниц, – Лэфем до этой минуты считал длинную прямую лестницу главным украшением дома, – и получите много пространства.
– Да, да, – сказала миссис Лэфем. Ее муж только издал горлом какой-то звук.
– Вы, конечно, предполагали соединить ваши гостиные посредством раздвижных дверей? – спросил почтительно архитектор.
– Да, да, – сказал Лэфем. – Ведь так всегда и делается?
– Почти всегда, – сказал архитектор. – И не протянуть ли по фасаду большую комнату во всю ширину дома, тогда сзади получится музыкальный салон для барышень?
Лэфем беспомощно взглянул на жену, которая быстрее уловила мысль архитектора и сочувственно следила за его карандашом.
– Великолепно! – воскликнула она.
Полковник уступил.
– Да, пожалуй. Но немного странно, разве нет?
– Не знаю, – сказал архитектор. – Не так уж странно, может быть, другое расположение покажется через несколько лет еще более странным.
Он начертил план всего дома и показал себя таким знатоком всех практических деталей, что миссис Лэфем почувствовала к молодому человеку материнскую нежность, а муж ее вынужден был в душе согласиться, что малый знает свое дело. Он перестал расхаживать по комнате, как расхаживал, пока архитектор и миссис Лэфем углублялись в детали кладовых, канализации, кухни и прочего, и вернулся к столу.
– Ну, а гостиную, – сказал он, – вы, конечно, отделаете черным орехом?
– Если пожелаете, – сказал архитектор. – Но и менее дорогое дерево может быть весьма эффектным. Можно покрасить и черный орех.
– Покрасить? – задохнулся полковник.
– Да, – сказал архитектор, – белым или в цвет слоновой кости.
Лэфем уронил план, который взял со стола. Жена метнулась к нему с утешением или поддержкой.
– Конечно, – продолжал архитектор. – Одно время очень увлеклись черным орехом. Но это некрасивое дерево, а для гостиной нет ничего лучше белого цвета. Кое-где пустим немного позолоты. А может быть – фриз вокруг карниза, гирлянды роз на золотом фоне – это чудесно выглядит в белой комнате.
Полковник наступал уже менее решительно:
– Вам еще подавай истлейкские каминные полки и изразцы?
– Нет, – ответил архитектор. – Камин белого мрамора в изящном стиле Empire – вот что нужно этой комнате.
– Белого мрамора! – воскликнул полковник. – Я думал, это давно ушло.
– Истинно прекрасное не может уйти. Оно может исчезнуть на время, но непременно возвращается. Только уродливое уходит навсегда, как только минует его час.
Лэфем отважился спросить:
– А полы – твердых древесных пород?
– В музыкальном салоне – конечно, – согласился архитектор.
– А в гостиной?
– Ковер. И пожалуй, во всю комнату. Но тут я хотел бы знать вкусы миссис Лэфем.
– А в других комнатах?
– Ну конечно, ковры.
– А на лестнице?
– Опять-таки ковер. А перила и прутья витые, белые.
Полковник тихонько сказал:
– Черт меня подери! – Однако при архитекторе не высказал своего изумления вслух. Когда тот наконец ушел – совещание длилось до одиннадцати часов, – Лэфем сказал: – Ну, Перри, этот малый либо на пятьдесят лет отстал, либо на десять ушел вперед. Интересно, что это за стиль Омпер?
– Не знаю. И не хотела спрашивать. Но он, как видно, знает, о чем говорит. И знает, что нужно в доме женщине, лучше, чем она сама.
– А мужчине тут и сказать нечего, – произнес Лэфем. Но он уважал человека, который разбил каждый его довод и на все имел ответ, как этот архитектор; и, когда прошло ошеломление от полного переворота в его понятиях, он слепо в него уверовал. Ему казалось, что именно он открыл этого малого (так он всегда называл его) и тот теперь принадлежит ему; малый не пытался это опровергнуть. У него установилась с Лэфемами та краткая, но интимная близость, какую тактичный архитектор создает со своими клиентами. Он был посвящен во все разногласия и споры по поводу дома. Он знал, когда настоять на своем, а когда уступить. Он строил еще несколько домов, но создал у Лэфемов впечатление, будто работает только для них.
Работы начались не раньше, чем земля оттаяла, а это в том году пришлось только на конец апреля. Но и тогда они шли не слишком быстро. Лэфем говорил, что спешить некуда; только бы возвести стены и крышу до первого снега, а остальное можно делать хоть всю зиму. Для кухни пришлось углубиться в землю; в том месте соленая вода была близко к поверхности; и, когда стали забивать сваи под фундамент, пришлось откачивать воду. Стоял запах, точно в трюме корабля после трехлетнего плавания. Люди, связавшие свою судьбу с Нью-Лэнд, делали вид, будто не замечают его; те, кто еще держался за Холм, зажимали платками носы и пересказывали жуткие старые предания о том, как осваивали некогда Бэк-Бэй.
Ничто так не нравилось Лэфему во всем строительстве дома, как забивание свай. Когда в начале лета начали эту работу, он ежедневно привозил туда миссис Лэфем в своей коляске; останавливал кобылу перед домом и следил за работами с большим интересом, чем ирландские мальчишки, которых собиралось там множество. Ему нравилось слушать, как передвижная машина пыхтит и пускает пар, как она подымает тяжелую железную бабу над сваей на высоту каркаса, потом словно чуть медлит и раза два кашляет, прижимая этот груз к отцепному устройству. На миг груз как бы повисает, прежде чем упасть, потом мощно ударяет в окованный железом конец сваи и вгоняет ее на фут в землю.
– Клянусь, – говорил он, – вот что называется делать дело!
Миссис Лэфем давала ему полюбоваться на это раз двадцать – тридцать, потом говорила:
– Теперь поехали, Сай.
Когда готов был фундамент и начали расти кирпичные стены, по соседству стало так малолюдно, что она могла, к удовольствию мужа, карабкаться вместе с ним по дощатым настилам и скелетам лестниц. Во многих домах ставни закрыли в начале мая, прежде чем распустились почки и появился податной инспектор; скоро уехали и другие соседи, и миссис Лэфем могла не опасаться чьих-то глаз, словно была за городом. Обычно в начале июля она переезжала с дочерьми в одну из гостиниц Нантакета, куда полковнику было удобно ездить катером. Но в то лето все они задержались еще на несколько недель, очарованные новым домом, как они говорили, точно он был единственным в мире.
Туда и поехал с женой Лэфем, после того как высадил Бартли Хаббарда у редакции «Событий»; но в тот день их обычное удовлетворение от осмотра дома было кое-чем омрачено. Когда полковник помог жене выйти из экипажа и привязал к вожжам грузило, чтобы лошадь стояла, он увидел человека, с которым вынужден был заговорить, хотя тот тоже колебался и тоже был бы рад избежать встречи. Это был высокий, худой мужчина с землистым лицом и мертвенным взглядом монаха, выражавшим одновременно слабость и цепкость.
Миссис Лэфем протянула ему руку.
– Да ведь это мистер Роджерс! – воскликнула она и, оборотясь к мужу, как бы подтолкнула их друг к другу. Они обменялись рукопожатиями, но Лэфем молчал. – Я и не знала, что вы в Бостоне, – продолжала миссис Лэфем. – Миссис Роджерс тоже здесь?
– Нет, – сказал Роджерс безжизненным голосом, напоминавшим тупой стук двух деревяшек одна об другую. – Миссис Роджерс все еще в Чикаго.
Наступило молчание, потом миссис Лэфем сказала:
– Вы там, вероятно, устроились на постоянное житье?
– Нет, мы уехали из Чикаго. Миссис Роджерс только кончает там укладываться.
– Вот как! Значит, возвращаетесь в Бостон?
– Еще не знаю. Подумываем об этом.
Лэфем отвернулся и смотрел на дом. Жена его теребила перчатки в мучительном смущении. Она попыталась заговорить о другом.
– А мы строим дом, – сказала она, почему-то засмеявшись.
– Вот как! – сказал мистер Роджерс, взглянув на дом.
Опять все замолчали, и она растерянно сказала:
– Если переселитесь в Бостон, я надеюсь повидаться с миссис Роджерс.
– Она будет рада вашему посещению, – сказал мистер Роджерс.
Он дотронулся до шляпы и поклонился – не столько ей, сколько в пространство.
Она взошла по доскам, ведшим к кирпичным стенам; муж медленно пошел следом. Когда она обернулась к нему, щеки ее горели, а в глазах стояли слезы, тоже словно горячие.
– Ты все свалил на меня! – крикнула она. – Почему ты не мог вымолвить хоть слово?
– Мне нечего было ему сказать, – угрюмо ответил Лэфем.
Они постояли, не глядя на дом, которым приехали любоваться, и не разговаривая.
– Кататься так кататься, – сказала наконец миссис Лэфем, когда они вернулись к коляске. Полковник погнал лошадь на Мельничную Плотину. Жена его опустила вуаль и сидела, отвернувшись от него. Немного спустя она вытерла под вуалью глаза, а он стиснул зубы и выпятил челюсть.
– Почему он всегда появляется, когда кажется, будто он уже ушел из нашей жизни; появляется и все отравляет? – сказала она сквозь слезы.
– Я думал, он умер, – сказал Лэфем.
– Ох, замолчи! Можно подумать, что ты этого желаешь.
– А тебе зачем так расстраиваться? Зачем ты допускаешь, чтобы он все тебе отравлял?
– Ничего не могу с собой поделать, и так, наверное, будет всегда. Не поможет, если он и умрет. Как увижу его, так и вспоминаю, как все было.
– Говорю тебе, – сказал Лэфем, – что все было честь по чести. Раз навсегда перестань ты этим мучиться. Моя совесть насчет него спокойна и всегда была спокойна.
– А я не могу смотреть на него и не вспоминать, что ведь ты его разорил, Сайлас.
– Ну так не смотри, – сказал, нахмурясь, муж. – Во-первых, Персис, вспомни, что я никогда не хотел брать компаньона.
– Но если бы он тогда не вложил свои деньги в дело, ты бы разорился.
– Да ведь он получил свои деньги обратно, и даже больше, – сказал полковник устало и хмуро.
– Он не хотел брать их обратно.
– Я ему предложил на выбор: выкупить свою долю или выйти из дела.
– Ты знаешь, что выкупить ее он тогда не мог. Не было у него выбора.
– Был шанс.
– Нет, ты уж лучше взгляни правде в глаза, Сайлас. Никакого шанса у него не было. Ты его вытеснил. А ведь он тебя спас. Нет, жадность тебя одолела, Сайлас. Ты молишься на свою краску все равно как на бога и ни с кем не желаешь делиться его милостями.
– А он с самого начала был мне обузой. Говоришь, он меня спас. Если бы я от него не отделался, он рано или поздно разорил бы меня. Так что мы квиты.
– Нет, не квиты, и ты это знаешь, Сайлас. Если бы только ты признал, что поступил с ним дурно, не по совести, была бы еще надежда. Я не говорю, что ты нарочно был против него, но ты использовал свое преимущество. Да, использовал! Он был тогда беззащитен, а ты его не пожалел.
– Надоело! – сказал Лэфем. – Занимайся хозяйством, а с делом я управлюсь без тебя.
– Когда-то ты охотно принимал мою помощь.
– Ну, а теперь мне надоело. Не вмешивайся.
– Буду вмешиваться. Когда я вижу, что ты уперся в своей неправоте, тут мне и пора вмешаться. Не могу добиться, чтобы ты признался насчет Роджерса, а ведь чувствую, что у тебя и у самого тут болит.
– В чем мне признаваться, когда я ничего не сделал плохого? Говорю тебе, Роджерсу не на что жаловаться, так я тебе и тогда твердил. Такие вещи делаются каждый день. У меня был компаньон, который ни в чем не смыслил, ничего не умел, вот я и сбросил этот груз. Все!
– Сбросил, как раз когда знал, что твоя краска подымется в цене вдвое, и ты захотел всю прибыль одному себе.
– Я имел на это право. Успеха добился я.
– Да, с помощью денег Роджерса; а когда добился, взял себе и его долю. Ты наверняка подумал об этом, когда его увидел, потому-то и не мог глядеть ему в лицо.
Тут Лэфем потерял терпение.
– Ты, кажется, больше не расположена кататься, – сказал он, круто поворачивая кобылу.
– Я так же хочу вернуться, как и ты, – ответила жена. – И больше не вози меня к этому дому. Хочешь – продай его. Я в нем жить не буду. На нем кровь.
4
Шелковая ткань супружеских уз ежедневно выдерживает груз обид и оскорблений, каким нельзя подвергать ни одни человеческие отношения, не порвав их; скептическому взгляду узы эти, скрепляющие общество, могут порой показаться проклятием для тех, кого они соединяют. Двое людей, отнюдь не пренебрегающие правами и чувствами друг друга, напротив, обычно берегущие их, в этом священном союзе могут терзать друг другу сердце совершенно безнаказанно; а ведь вообще люди после подобного обмена оскорблениями не стали бы ни видеться, ни говорить друг с другом. Зрелище любопытное; и ему следовало бы убедить зрителя, что это установление поистине священно. Когда супруги, подобно Лэфемам, – люди простые и откровенные, они не взвешивают своих слов; более утонченные взвешивают их весьма тщательно и точно знают, в какое самое чувствительное место они вопьются с наибольшим эффектом.
Лэфем гордился своей женой. Брак с нею означал для него ступеньку вверх по общественной лестнице. Сперва он благоговейно трепетал перед такой удачей, но долго это длиться не могло, и он просто был очень доволен. У девушки, обучавшей детишек, была ясная голова и сильные руки, и она не боялась работы; она сразу стала помогать ему и ободрять его и свою долю общего бремени взяла на себя полностью. Она обладала завидным здоровьем и не докучала ему жалобами и капризами; она обладала разумом и твердыми правилами и в их простой жизни поступала мудро и праведно. Их союз был вскоре освящен печалью: они похоронили маленького сына, и прошли годы, пока они смогли спокойно говорить о нем. Никто не принес большей жертвы, чем они, когда Лэфем пошел на войну. Когда он вернулся и принялся за работу, ее усердие и мужество были движущей силой. В деле с компаньоном она попыталась быть его совестью, но, возможно, стала бы, напротив, защищать его, если бы он себя обвинял; это было одно из тех дел земной жизни, которые могут дождаться правосудия или хотя бы суда только на том свете. Лэфем, по его словам, поступил с компаньоном честно в том, что касалось денег: он дал Роджерсу больше из общего капитала, чем тот вложил туда; он просто удалил из дела робкого и неумелого участника прибылей, которых добился он, Лэфем. Но добился не вполне самостоятельно. Одно время он зависел от капитала своего компаньона. То был момент сурового испытания. Блажен тот, кто способен в таком искусе избрать благую часть и забыть о себе. Лэфем не мог до этого подняться. Он поступил так, как считал справедливым. Вина его, если она и была, казалась уже прощенной, если бы жена временами не поминала ему о ней. Тогда мучительный вопрос вставал снова, и опять надо было оправдываться. Вопрос обладал, по-видимому, неистребимой живучестью. Он спал, но все был жив.
Поступок Лэфема не пошатнул веру миссис Лэфем в мужа. Сперва ее удивило, потом опечалило, отчего он не видит, что поступил единственно в собственных интересах. Но она находила ему оправдания, которые иногда обращала в упреки. Она смутно понимала, что его краска была для него чем-то большим, чем коммерцией, – чувством, почти страстью. Делиться с кем-нибудь заботами и прибылями было бы для него большей жертвой, чем делиться чем-либо менее ему близким. То была поэтическая струна этой натуры, в остальном столь прозаической; она понимала это и большей частью оправдывала его. Она знала, что он всю жизнь был добр, порядочен, безупречен, и только когда ее нервы болезненно отзывались на какое-нибудь случайное напоминание о перенесенных муках совести, она, как подобает жене, заставляла и его делить с ней эти муки.
У них никогда не бывало торжественных примирений. Они просто считали, что ссоры как бы не было. Достаточно было миссис Лэфем несколько дней спустя сказать за завтраком: – Наверное, девочкам захочется сегодня съездить с тобой взглянуть на новый дом, – чтобы супруг, уставясь в кофейную чашку, проворчал: – Наверное, нам всем хорошо бы туда съездить.
– Ну, что ж, – сказала она.
Когда Лэфемы приехали на стройку в своем четырехместном экипаже, смотреть было еще, пожалуй, рановато. Однако стены были уже возведены, перекрытия очертили внутренние контуры дома. Полы были настланы, лестницы поставлены, пока еще с временными дощатыми ступенями. Шпалерить и штукатурить еще не начали; но чистый, свежий запах известкового раствора в стенах, смешиваясь с острым ароматом сосновой стружки, заглушал венецианские запахи, доходившие с воды. В доме было приятно и тенисто, впрочем, утренняя жара была смягчена восточным ветром, который дул уже с полудня, и восхитительная прохлада послеполуденного летнего Бостона овевала все тело и каждый его нерв.
Десятник пошел показывать миссис Лэфем, где будут двери; но Лэфему это скоро наскучило, и, найдя сосновый брусок, он с удовольствием принялся строгать его; он сидел в будущей зале, возле будущего эркера, выходившего на улицу. К нему пришли дочери, которые выяснили уже, где будут их спальни – с окном на набережную, над музыкальным салоном, – и столь же мало интересовались подробностями, как и отец.
– Прошу присесть у эркера, барышни, – позвал он, когда они заглянули к нему через проем стены. Он шутливо освободил им место на козлах, возле себя.
Они подошли, ступая осторожно и словно нехотя, как всегда делают барышни, желая показать, что вовсе не намерены делать то, что как раз хотят сделать. Уместившись на козлах, они презрительно рассмеялись, не боясь обидеть отца; Айрин вздернула, по своей привычке, подбородок и сказала сестре:
– До чего нелепо!
– А я вам скажу, – промолвил полковник, любуясь, какими они выросли барышнями, – что ваша мать не стыдилась сидеть со мной на козлах, когда я позвал ее поглядеть, как в первый раз покрасил своей краской стену.
– Да, мы слышали эту историю, – сказала Пенелопа, уверенная, что отцу нравится, что бы она ни сказала; – Нас на ней воспитали.
– Потому что история хорошая, – сказал отец.
В эту минуту на улице показался молодой человек, который шел, разглядывая стройку. Подойдя к эркеру, где сидел Лэфем с дочерьми, он сперва опустил глаза, потом лицо его просияло, он снял шляпу и поклонился Айрин. Она машинально встала с козел, и лицо ее так же осветилось. Это была очень хорошенькая девушка, какими мы их любим, стройная и гибкая, с очень правильными чертами. Но главная ее прелесть – а она была прелестна – заключалась в красках. Ее можно описать словами, какими описывают фрукты или цветы. Волосы у нее были рыжие, как у ее отца в молодости, а краски щек и висков напоминали майские цветы, цвет яблони и персика. Вместо серых глаз, какие часто гасят яркость таких щек, у Айрин глаза были синие, синевы глубокой и вместе нежной, и, казалось, изливали вокруг ясный свет. Ее сестра и мать знали, что эти глаза всегда выражали гораздо больше, чем Айрин думала или чувствовала; это не значит, что она не была девушкой разумной и очень честной.
Молодой человек был явно в замешательстве; Айрин выступила немного вперед, и они обменялись улыбками и приветствиями, сводившимися к тому, что он полагал, что ее нет в городе, а она тоже не знала, что он туда вернулся. Наступила пауза, и она, краснея и сомневаясь, следует ли это делать, сказала:
– Мой отец – мистер Кори – моя сестра.
Молодой человек снова снял шляпу, обнажив красивую голову и здоровый загар, кончавшийся там, где начинались коротко остриженные волосы. На нем был отличный летний костюм в клетку, синий с белым шейный платок и белая шляпа, которая очень шла к нему, когда он снова ее надел. Вся его одежда выглядела особенно свежей и новой; дело в том, что он только накануне сменил свое техасское облачение.
– Как поживаете, сэр? – сказал полковник, подходя к окну и протягивая руку, которую молодой человек взял, подойдя ближе. – Не угодно ли войти? Мы здесь у себя. Это строится мой дом.
– Вот как? – сказал молодой человек; он быстро поднялся по лестнице и прошел через проемы стен.
– Прошу садиться на козлы, – сказал полковник, а девушки обменялись взглядами, где смешивались смех и ужас.
– Благодарю вас, – просто сказал молодой человек и сел.
– Миссис Лэфем наверху со столяром, но сейчас спустится.
– Надеюсь, она здорова, – сказал Кори. – Я думал, она за городом.
– Да, мы на той неделе едем в Нантакет. Это дом нас задержал в городе.
– Строить дом должно быть интересно, – сказал Кори старшей сестре.
– Да, – согласилась она, отказываясь в пользу Айрин от дальнейшего разговора.
Кори обратился к той.
– Вы все, наверное, участвуете в создании дома?
– О нет, все делают архитектор и мама.
– Но остальным разрешается соглашаться, если они хорошо себя ведут, – сказала Пенелопа.
Кори посмотрел на нее: она была смуглая и ростом ниже сестры.
– Да, очень интересно, – сказала Айрин.
– Пройдем и осмотрим дом, – сказал полковник, вставая, – если есть охота.
– С большим удовольствием, – сказал молодой человек.
Он помогал барышням перешагивать через щели и идти по узким доскам, которые они прежде преодолевали самостоятельно. Старшая старалась, как могла, чтобы помощь чаще оказывалась младшей. Она шла между ними и отцом, который шагал впереди, объясняя каждую комнату и все больше приписывая себе заслуги во всем строительстве.
– Вот здесь, – сказал он, – у нас будет эркер, чтобы было больше вида на воду. А это комнаты девочек, – добавил он, с гордостью оглядывая их обеих.
Это прозвучало слишком интимно. Айрин густо покраснела и отвернулась.
Но молодой человек, по-видимому, относился ко всему этому так же просто, как их отец.
– Какой чудесный вид! – сказал он.
Бэк-Бэй простер перед ними свою стеклянную гладь, где виднелось лишь несколько лодочек и большая шхуна со свернутыми снежно-белыми парусами, которую буксир быстро тащил к Кеймбриджу. Дома этого города, утопавшие в зелени, спорили в живописности с дальним Чарлстоном.
– Да, – сказал Лэфем. – Лучшие комнаты, я считаю, надо отводить хозяевам. Если будут гости, с них довольно и второго класса. Впрочем, в этом доме не будет ничего второсортного. Во всем доме, сверху донизу, ни одной неудобной комнаты.
– Хоть бы папа так не хвастал, – шепнула Айрин сестре, стоявшей вместе с нею немного в стороне.
– Да, сэр, – продолжал полковник напыжась. – Я решил все сделать высшим сортом. У меня лучший в Бостоне архитектор, и я строю как мне нравится. И если деньги что-то значат, думаю, что останусь доволен.
– Дом будет очень красив, – сказал Кори. – И очень оригинален.
– Да, сэр. Этот малый не поговорил со мной и пяти минут, а я уже видел, что он свое дело знает.
– Хоть бы мама шла поскорей! – опять зашептала Айрин. – Если папа еще что-нибудь скажет, я провалюсь сквозь пол.
– Сейчас строят очень много красивых домов, – сказал молодой человек. – Совсем не то, что прежние.
– А все потому, – сказал снисходительно полковник, выпячивая свою широкую грудь, – что мы теперь больше тратим на дома. Я наметил сперва дом на сорок тысяч долларов. А этот малый уже вытянул из меня более шестидесяти тысяч, а все обойдется, пожалуй, почти во сто. Задешево хорошего дома не получишь. Все равно как заказывать картину художнику. Заплатите достаточно, и он вам сможет сделать первоклассную вещь; а не заплатите – не сможет. Вот и все. Говорят, что А.-Т.Стюарт заплатил какому-то французу шестьдесят тысяч долларов за маленькую картинку семь на девять дюймов. Да, сэр, заплатите архитектору побольше – и обязательно будет у вас красивый дом.
– Я слышал, что они умеют вытянуть деньги на осуществление своих замыслов, – сказал, улыбаясь, молодой человек.
– Еще как! – воскликнул полковник. – Предложат вам такие улучшения, что отказаться невозможно. И красивее, и практичнее, и все такое; отказаться – значит много потерять. И всегда ведь предлагают, когда жена тут; вот вы и попались.
Полковник сам засмеялся своей шутке, подавая пример, и молодой человек поддержал его, хотя и менее шумно. Девушки обернулись, и он сказал им:
– Клянусь, я не видел еще, чтобы из окон открывалась лучшая панорама. Удивительно, как хорошо видны отсюда Мемориал и шпили Кеймбриджа. И закаты должны быть великолепные.
Лэфем не дал им ответить.
– Да, сэр, ничего красивей я, пожалуй, не видал. Мне всегда нравилась набережная Бикона. Когда я еще не имел здесь участка и не думал, что буду иметь, мы с женой приезжали сюда в коляске и любовались видом на реку. Когда мне хвалят Холм, я понять могу. Там уютно, по-старинному, как-то привычно. Но когда хвалят Авеню Содружества, это мне непонятно. Ее и сравнить невозможно с набережной Бикона. На ней так же ветрено и так же пыльно, а вида всего только на другую сторону улицы. Нет, сэр, если уж селиться на Бэк-Бэй, так подайте мне набережную Бикона.
– Думаю, что вы совершенно правы, – сказал молодой человек. – Виды здесь исключительно красивы.
Айрин взглянула на сестру, как бы говоря: «Что папа еще скажет?» – но сверху послышался голос ее матери, приближавшейся к отверстию в потолке – месту будущей лестницы; показалась и она сама, то есть сперва только ее нога. За ней следовал столяр с линейкой, торчавшей из кармана комбинезона, и она, уже спустившись, продолжала говорить ему о каких-то мерках, которые они сняли; Айрин, чтобы она заметила гостя, пришлось сказать:
– Мама, вот мистер Кори.
Он приблизился со всей поспешностью и изяществом, какие позволял шаткий помост, и миссис Лэфем крепко пожала ему руку своей большой и теплой рукой.
– Вот и вы, мистер Кори! Когда же вы вернулись?
– Вчера. Мне как-то еще не верится. И я не предполагал застать вас в новом доме.
– Да, вы наш первый гость. Надеюсь, мне не надо извиняться за беспорядок. А хорошо ли полковник занимал гостя?
– О да. Я увидел в этом доме столько, сколько мне вряд ли когда доведется увидеть.
– Надеюсь, что это не так, – сказал Лэфем. – Нас еще не раз можно будет застать на старом месте, прежде чем переедем.
Он, видимо, посчитал это за непринужденное приглашение и взглянул на своих дам, ожидая их одобрения.
– Да, конечно! – сказала его жена. – Всегда рады вас видеть, мистер Кори.
– Благодарю вас, я приду с удовольствием.
Он шел с полковником впереди, помогая дамам при трудностях спуска. Айрин шла особенно неуверенно; она держалась за руку молодого человека чуть дольше, чем требовалось, а может быть, это он удерживал ее. Он нашел случай сказать:
– Как приятно снова повидать вас, – и добавил: – Всех вас.
– Спасибо, – сказала девушка. – А вам, должно быть, обрадовались дома.
Кори засмеялся.
– Вероятно, обрадовались бы, если б сами были дома. Но дело в том, что мы сейчас одни с отцом, и я тоже собираюсь уехать в Бар-Харбор.
– Ах вот как? Они там?
– Да, моя мать только там находит желанное сочетание морского и горного воздуха.
– Мы ездим в Нантакет – это удобно папе. А в это лето скорее всего никуда не поедем, до того мама занята постройкой. Мы только о доме и говорим; Пэн сказала, что мы им закусываем и с ним ложимся спать. Она говорит, что хорошо бы для разнообразия пожить в палатках.
– У нее, видимо, много чувства юмора, – решился сказать молодой человек, хотя имел для этого не так уж много данных.
Остальные отошли в глубь дома посмотреть на какое-то предложенное изменение. Айрин и Кори остались в дверях. Свет счастья играл на ее лице, одухотворяя его прелестные черты. Она старалась сдержать улыбку, отчего углубились ямочки на щеках; она немного дрожала, и серьги качались в ее хорошеньких ушках.
Все возвратились и вместе сошли по передней лестнице. Полковник собрался было повторить приглашение, но поймал взгляд жены и воздержался, хоть и не вполне понял ее предостережение; он подобрал грузило, а молодой человек подсадил дам в фаэтон. Он приподнял шляпу, дамы поклонились, Лэфемы тронулись в путь, и голубые ленты вились за шляпой Айрин словно ее мысли, рвавшиеся назад.
– Так вот он, молодой Кори, – сказал полковник, пуская крупную величавую лошадь, которая увозила их домой. – Недурен собой, и глаза этакие честные. Не пойму только, как это малый с таким образованием может жить дома на отцов счет. Будь у меня его здоровье и образование, я бы захотел себя показать.






