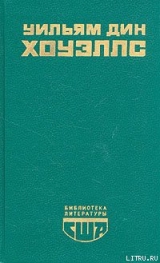
Текст книги "Возвышение Сайласа Лэфема"
Автор книги: Уильям Дин Хоуэллс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
27
Айрин не оставила матери ни малейших иллюзий насчет себя и кузена Билли. Она сказала, что все отнеслись к ней как нельзя лучше, но когда миссис Лэфем намекнула на то, что имела в мыслях – вернее, на свои надежды, – Айрин сурово ее остановила. Она объяснила, что он почти помолвлен с одной тамошней девушкой, а о ней и думать не думает. Мать удивилась ее суровости; за несколько месяцев девушка стала жесткой, утратила всю свою детскую мягкость и зависимость от старших; стала словно железом с острыми, кое-где зазубренными краями. Она вынесла смертельную борьбу, победила, но многое и потеряла. Быть может, то, что она потеряла, и не стоило хранить, но во всяком случае – потеряла.
Она потребовала от матери точного отчета о состоянии дел отца, насколько они были известны миссис Лэфем; и обнаружила деловую сметку, на какую Пенелопа никогда и не претендовала. С сестрой она старалась избегать всяких разговоров о прошлом и в своих отношениях с Кори и Пенелопой проявляла справедливость, каковую они и заслуживали, не будучи ни в чем виновны. Это была трудная роль; и она насколько возможно избегала их. Сказавшись усталой с дороги, она не вышла к мистеру и миссис Кори, когда те на следующий день явились к ним с визитом; и поскольку миссис Лэфем все еще была нездорова, принимала их одна Пенелопа.
Девушка интуитивно почувствовала, что будет лучше, если гости, – пока она собирается с духом, чтобы выйти к ним, – сразу увидят гостиную во всей красе. Позже – много месяцев спустя – она рассказала Кори, что, когда она вошла, его отец сидел, держа шляпу на коленях и отодвинувшись подальше от Скульптурной группы «Освобождение», точно боялся, как бы Линкольн не ударил его поднятой для благословения рукой; а миссис Кори застыла, словно в страхе, что Орел вот-вот клюнет ее. Но Пенелопа так терзалась сложностью своего положения и, принимая гостей, выглядела такой жалкой и растерянной, что это не могло не тронуть участливого Бромфилда Кори. Сперва он был с нею весьма учтив и внимателен, а к концу визита позволил себе даже пошутить, на что Пенелопа не преминула ответить. Он выразил надежду, что они расстаются друзьями, если уж не знакомыми; а она выразила надежду, что они узнают друг друга, если им доведется когда-нибудь встретиться.
– Вот это и есть то, что я подразумевала под ее развязностью, – заметила миссис Кори по пути домой.
– Да разве это развязность? – спросил он. – Просто девочке надо же было что-то ответить.
– При данных обстоятельствах я предпочла бы, чтобы она ничего не отвечала, – сказала миссис Кори.
– Сразу видно, она всего лишь – веселое маленькое создание и дурного в ней ничего нет. Я, пожалуй, понимаю, что такой чопорный малый, как наш Том, мог ею увлечься. Она ни к кому и ни к чему не испытывает почтения и, наверное, с молодым человеком тоже сразу стала шутить. Вспомни, Анна, что и тебе когда-то нравились мои шутки.
– То было совсем другое!
– Но уж эта гостиная! – продолжал Кори. – Не понимаю, как только Том ее выносит. Анна, мне пришла в голову страшная мысль! Представляешь, Том женится, и свадебная церемония совершается перед этой скульптурой, а но обе стороны свешивается подкова из тубероз!
– Бромфилд! – воскликнула жена. – Ты беспощаден!
– Нисколько, дорогая, – возразил он. – Просто у меня живое воображение. И я даже могу представить себе, что этому маленькому созданию Том порой кажется немножко тугодумом, если бы не его доброта. Том так добр, что иной раз, я уверен, понимает шутку сердцем, а умом до нее доходит не всегда. Ну, не будем унывать, дорогая!
– Вашему отцу она прямо-таки понравилась, – сообщила дочерям потрясенная этим фактом миссис Кори. – Если бы девушка не пренебрегала светскими правилами, всегда оставалась надежда, что она не будет пренебрегать ими столь явно. Интересно, какой она покажется вам? – закончила она, переводя взгляд с одной дочери на другую, словно решала, которой из них Пенелопа понравится меньше.
Возвращение Айрин и визит супругов Кори несколько отвлекли Лэфемов от нависшей над ними угрозы; но это была лишь одна из тех передышек, какими отмечен поступательный ход бедствий, и передышка не из веселых. Во всякое другое время любое из этих событий доставило бы миссис Лэфем немало тревог и забот, весьма для нее тяжелых; но теперь она была даже рада им. Лэфем вернулся через три дня, и жена встретила его так, словно при его отъезде не произошло ничего необычного; свое искупление она отложила до более подходящего времени, а теперь станет вести себя с ним так, что он поймет: в ее отношении к нему ничего не изменилось. Он обратил очень мало внимания на ее поведение и встретился со своим семейством, проявив строгое спокойствие, немало удивившее ее, и какое-то задумчивое достоинство, облагородившее его грубоватую натуру; с подобными людьми это бывает после долгой болезни, подточившей их физические силы. Когда дочери оставили их наедине, он продолжал молча сидеть за столом, и, поняв, что он не намерен говорить, она стала объяснять, почему вернулась Айрин, и расхваливать ее.
– Да, она правильно сделала, – сказал Лэфем. – Пора уж ей было вернуться, – добавил он ласково.
И он снова умолк, а жена рассказала ему, что Кори опять побывал у них, а его родители приходили с визитом.
– Как видно, Пэн решила с ним поладить, – заключила она.
– Посмотрим, – сказал Лэфем; и тут она не утерпела и спросила его о делах.
– Я, наверное, не имею права про них узнать, – сказала она смиренно, намекая на то, как вела себя с ним. – Но как мне не хотеть знать! Так как же идут дела, Сай?
– Плохо, – сказал он, отставив свою тарелку и откинувшись на спинку стула. – А вернее – никак. Остановились.
– Как это остановились, Сай? – ласково настаивала она.
– Я сделал все, что мог. Завтра я встречусь с кредиторами и отдам себя в их руки. Если у меня осталось довольно, чтобы их удовлетворить, то и я буду доволен. – Голос его прервался, он судорожно сглотнул раз или два и умолк.
– Значит, все кончено? – спросила она со страхом.
Он опустил свою большую, поседевшую голову и немного спустя сказал:
– В это трудно поверить, но, сдается мне, так оно и есть. – Он глубоко вздохнул и рассказал ей о виргинцах, о том, как они продлили ему срок; и как он поехал вместе с одним человеком в Лэфем взглянуть на фабрику. Человек этот подвернулся ему в Нью-Йорке и хотел вложить деньги в его дело. Этих денег Лэфему хватило бы для сделки с виргинцами. – Но тут, видно, сам черт вмешался, – сказал Лэфем. – Мне бы промолчать про тех, других. А я все выложил – и про Роджерса, и про лесопилку. Ему ведь все понравилось, он хотел войти в дело, и денег у него было вдоволь – вполне мне хватило бы расплатиться с виргинцами. А я ему возьми все и расскажи: и про то, что есть, и про то, как будет. Ну тут он сразу на попятный. Я уже на другое утро понял, что с ним ничего не выйдет. Он уехал в Нью-Йорк. Так я и потерял последний свой шанс. Теперь остается только собирать осколки.
– И ничего, ничего не останется? – спросила она.
– Еще не знаю. Но я выплачу все, до последнего доллара, до последнего цента. Мне очень тебя жалко, Персис, – и девочек.
– Да не говори ты про нас! – Она пыталась убедить себя, что этот грубоватый и простодушный человек, которого она полюбила в молодости, но подвергла столь жестоким испытаниям своей беспощадной совестью и беспощадным языком, выдержал все жизненные успехи и невзгоды и вышел из них невредимым и незапятнанным. Говоря о них, он даже не придавал им значения, словно не вполне понимая, что ему пришлось вынести; видимо, нисколько ими не гордясь и уж, конечно, не испытывая особого удовлетворения; если то были победы, он сносил их с терпеливостью, достойной поражения. Жена хотела воздать ему хвалу, но не знала, как это сделать, и потому лишь мягко упрекнула единственным напоминанием о причине своего поведения перед его отъездом. – Сайлас, – спросила она, посмотрев на него, – почему ты не сказал мне, что взял в контору дочь Джима Миллона?
– Я боялся, тебе это не понравится, Персис, – ответил он. – Сперва хотел сказать, но все откладывал да откладывал. Думал, ты как-нибудь придешь и сама увидишь.
– Я наказана, – сказала жена, – за то, что мало входила в твои дела, даже в конторе не бывала. Если когда-нибудь придет время начинать все сначала, это мне урок, Сайлас.
– Какой там урок! – сказал он устало.
Вечером она показала ему анонимное письмо, которое так распалило тогда ее гнев. Он равнодушно повертел его в руках.
– Пожалуй, я знаю, от кого оно, – ответил он, возвращая его ей, – да и ты наверняка знаешь, Персис.
– Но как – как он мог?..
– А что, если он в это верил, – сказал Лэфем с кротостью, ранившей ее больнее всякого упрека. – Ты-то ведь поверила.
Потому ли, что его разорение шло так постепенно, потому ли, что предшествующие события истощили их душевные силы и они уже не способны были страдать, но конечное банкротство принесло Лэфему и его семье скорее облегчение и успокоение, чем ощущение беды. Под знаком этого несчастья они словно вернулись к прежней дружной жизни, по крайней мере, снова были все вместе. Те, кому довелось испытать много превратностей в жизни, поймут, почему, вернувшись в тот вечер домой после выплаты всех долгов кредиторам, Лэфем был за ужином так весел, что Пенелопа снова принялась шутить с ним, заметив, что, судя по его виду, кредиторы не иначе как решили выплатить ему по сто центов на каждый доллар его долгов.
Так как Джеймс Беллингем проявил к нему столько внимания с самого начала его несчастий, Лэфем счел за» должное, перед тем как предпринять последние шаги, сообщить ему, как обстоят дела и как он намерен поступать дальше. Беллингем задал несколько бесполезных вопросов о переговорах с виргинцами, и Лэфем рассказал, что они кончились ничем. Он упомянул о человеке из Нью-Йорка и о том, что перед ним открывался шанс продать этому человеку половину своего дела.
– Но я, конечно, обязан был сказать ему и о виргинцах.
– Ну, конечно, – ответил Беллингем, лишь позже поняв все значение этого поступка Лэфема.
О Роджерсе и англичанах Лэфем не сообщил ему ничего. Он считал, что поступил тогда правильно, и был собой вполне доволен, но не хотел выглядеть дураком в глазах Беллингема или кого-либо другого.
Все те, кто имел отношение к его делам, отметили, что он вел себя достойно, а уж в последний, самый трудный момент и даже более того. Мудрая осмотрительность, здравый смысл, которые он выказал в первые годы своих успехов и которые, видимо, утратил, когда пришло богатство, теперь вернулись, и эти качества, примененные им для своей пользы, пришлись по душе его кредиторам не меньше, чем те старания, какие он приложил, чтобы никто не понес из-за него ущерба; иных это даже заставило усомниться в его искренности. Они дали ему отсрочку, и он сумел бы снова встать на ноги, не выбей у него почву из-под ног конкуренты из Западновиргинской Компании. Он и сам понял, что пытаться вести дело по-старому бессмысленно, и предпочел начать все заново там, где начинал впервые – на холмах Лэфема. Дом на Нанкин-сквер, как и все остальное имущество, он отдал в уплату долгов; а для миссис Лэфем оказалось легче вернуться оттуда на старую ферму в Вермонте, чем перебираться из этого годами обжитого дома в новый дом на набережной Бикона. Судьба отравляет нам то одно, то другое, чтобы нам легче давалось расставание с ними; для многих из нас отравлена бывает и самая жизнь, так что мы с радостью кончаем с нею счеты; а этот дом таил для каждого из членов семьи столько всяких воспоминаний, что покидать его было скорее радостью, чем печалью. Стоило миссис Лэфем заглянуть в комнату Айрин, и она снова видела, как дочь достает из тайников туалетного столика бедные памятки своей злополучной любви и в страстном порыве отречения бросает их сестре; она входила в гостиную, где выросли ее дети, и тут же вспоминала, как измученный муж просиживал там ночи напролет за бюро, силясь удержаться на скользком краю, над пропастью разорения. При мысли о вечере, когда к ней пришел Роджерс, она начинала ненавидеть этот дом. Айрин вырвалась из него с радостью и первая уехала в Лэфем, чтобы все приготовить к приезду семьи. Пенелопа всегда стыдилась своей помолвки в этом доме; быть может, в другом месте ей будет легче, и она тоже радовалась отъезду. Пожалуй, только Лэфем переживал боль расставания. Для остальных сожаления были смягчены еще и тем, что этот отъезд напоминал многие отъезды на лето поздней весной; на этот раз они ехали прямо в деревню, а не сперва к морю, как раньше; но Лэфем, обычно еще долго остававшийся в городе после их отъезда, понимал разницу. Он душой чувствовал несбыточность возврата; для него это было прощание с его гордым преуспеянием, окончательное, как смерть. Он ехал начинать жизнь заново, но знал, что на родных холмах не найдет ни ушедшей молодости, ни прежнего блестящего успеха. Это было невозможно не только потому, что у него осталось меньше сил, но и по самой природе вещей. Он возвращался в свои края по милости одного из кредиторов, которого когда-то ссудил деньгами, который давал ему возможность использовать последний шанс, какой оставили ему счастливые соперники.
Был момент, когда его краска выдержала плохие времена и разорительную конкуренцию, и теперь он принялся за дело, надеясь только на сорт «Персис». Виргинцы признали, что такие высококачественные сорта им производить не под силу, и охотно предоставили это ему. Между Лэфемом и тремя братьями установилась своеобразная дружба; они поступили с ним честно – победу им доставили благоприятные условия, но не их злая воля; и он без враждебного чувства признал в них ту необходимость, которой приходится уступать. Если он я преуспеет в выпуске высших сортов краски, все равно ему еще долго не достигнуть прежних масштабов его дела, которое он мог вести только с ослабевшей энергией пожилого человека. Он даже сам не сознавал, насколько неудача сломила его; она не убила его, как бывает нередко, но ослабила в нем пружину, прежде столь сильную и упругую. Он все больше и больше смирялся с изменившимися обстоятельствами, и все реже звучали в его голосе хвастливые нотки. Работал он вполне прилежно, но иной раз упускал случаи, из которых в молодости чеканил бы золото. Жена замечала в нем какую-то робость, и сердце ее болело за него.
Одним из результатов дружеских отношений с виргинцами было то, что в их дело вошел Кори; и тот факт, что произошло это по совету Лэфема и по его рекомендации, было для полковника, быть может, наибольшей гордостью и утешением. Кори изучил дело досконально; проведя полгода в Канауа-Фоллз и в нью-йоркской конторе, он уехал в Мексику и Центральную Америку выяснять тамошние возможности, как было задумано у него с Лэфемом.
Перед отъездом он приехал в Вермонт уговаривать Пенелопу поехать с ним. Ему предстояло ехать сперва в Мехико и в случае удачи прожить там и в Южной Америке несколько лет, знакомясь с железнодорожным строительством, развитием сельскохозяйственного машиностроения и всеми теми отраслями, которые обещали спрос на краску. Во главе их дела стояли молодые, поверившие в его успех, и Кори, вложивший в него деньги, был лично в нем заинтересован.
– У меня не стало ни больше, ни меньше доводов, – размышляла Пенелопа, советуясь с матерью, – сказать ли «да» или сказать «нет». Все остальное меняется, а мои обстоятельства те же, что и год назад.
– Но ведь сейчас совсем не то, что было, – заметила мать. – Ты же сама видишь, что у Айрин все прошло.
– Но это не моя заслуга, – сказала Пенелопа. – Мне стыдно ничуть не меньше, чем прежде.
– Тебе и прежде нечего было стыдиться.
– Тоже верно, – сказала девушка. – И я могу с чистой совестью улизнуть в Мексику, если только решусь на это. – Она засмеялась. – Хорошо бы, чтобы меня приговорили выйти замуж, а потом нашелся бы кто-нибудь, кто бы объявил, что есть причины, запрещающие мне это. Сама не знаю, что делать.
Мать ушла, предоставив Пенелопе объясниться с Кори, и Пенелопа сказала ему, что лучше им все обсудить еще раз.
– И, что бы я ни решила, надеюсь, это будет сделано не ради меня самой, а ради других.
Кори уверил ее, что он в этом не сомневается, и смотрел на нее с терпеливой нежностью.
– Я не говорю, что поступаю дурно, – продолжала она неуверенно, – но и хорошего тут тоже не вижу. Наверно, я не умею вам объяснить, но быть счастливой, когда все кругом страдают, – это выше моих сил. Это для меня невыносимо.
– Может, это и есть ваша доля в общих страданиях, – сказал Кори, улыбаясь.
– О, вы же знаете, что это не так! Совсем не так. И об одной из причин я уже вам говорила: пока отец в беде, я не хочу, чтобы вы думали обо мне. А теперь, когда он потерял все… – Она вопросительно взглянула на него, словно проверяя, как действует на него этот довод.
– Для меня это вовсе не причина, – ответил он серьезно, но все еще улыбаясь. – Вы верите мне, когда я говорю, что люблю вас?
– Приходится верить, – сказала она, опуская глаза.
– Тогда почему бы мне не любить вас еще сильнее после разорения вашего отца? Неужели вы думали, что я полюбил вас ради богатства вашего отца? – В этих сказанных с улыбкой словах был оттенок упрека, хоть и очень мягкого, и она его почувствовала.
– Нет, такого я не могла о вас подумать. Я… я не знаю, что хотела сказать, почему я… Я хотела сказать… – Она не могла объяснить, что с отцовскими деньгами чувствовала себя более достойной его; это было бы неправдой, но иного объяснения у нее не было. Она умолкла и бросила на него беспомощный взгляд.
Он пришел ей на выручку.
– Я понимаю, вы просто не хотели, чтобы несчастья вашего отца ударили и по мне.
– Да, именно так; и очень уж много всяких различий. Надо ведь и о них подумать. Не притворяйтесь, будто вы этого не знаете. Ваша мать никогда не примет меня, а может быть – и я ее.
– Что ж, – сказал Кори, слегка опешив. – Вы ведь выходите не за моих родных.
– Ох, не в том дело!
– Я знаю, – признал он. – И не стану притворяться, будто не понимаю, о чем вы, но я уверен, что все различия сгладятся, когда вы лучше узнаете моих родных. И не сомневаюсь, что вы с моей матерью понравитесь друг другу, потому что – как вы можете не понравиться! – воскликнул он уже не столь убежденно, чем прежде, и стал приводить множество других, тоже не менее шатких доводов. – У нас свои обычаи, у вас свои; и конечно, поначалу моя мать и сестры покажутся вам немного чужими, но это скоро пройдет – для обеих сторон. Не может быть между вами таких уж неодолимых различий, а если бы и были, мне это безразлично.
– Думаете, мне будет приятно, когда вы станете принимать мою сторону против матери?
– Никаких сторон не будет. Лучше скажите мне, чего вы так боитесь.
– Боюсь?
– Ну тогда о чем думаете.
– Сама не знаю. Дело не в том, что они говорят или делают, – объяснила она, глядя ему прямо в глаза, – а в том, какие они есть. Я не могу быть с ними сама собой, а когда я не могу быть с кем-то сама собой, я становлюсь неприятной.
– А со мной вы можете быть сама собой?
– О, вас я не боюсь. И никогда не боялась. Вот в чем была беда, с самого начала.
– Ну что ж, раз так, это все, что требуется. Я тоже вас не боялся с самого начала.
– Вот я и предала Айрин.
– Перестаньте! Никогда вы ее не предавали.
– Она вас первая полюбила.
– Но я-то вообще никогда ее не любил, – взмолился он.
– Она думала иначе.
– Тут нет виноватых, и я не позволю вам винить в чем-то себя. Моя дорогая…
– Подождите. Давайте постараемся понять друг друга, – сказала Пенелопа, вставая со стула, чтобы помешать ему приблизиться. – Я хочу, чтобы вам все было ясно. Нужна ли вам девушка, у которой нет ни цента, которая чувствует себя чужой в обществе вашей матери и которая обманула и предала собственную сестру?
– Мне нужны вы!
– Так вот: этому не бывать. Я бы вечно презирала себя. По всем этим причинам я должна от вас отказаться. Да, да, должна.
Она смотрела на него, и в ее убеждении была явная неуверенность.
– Таков ваш ответ? – спросил он. – Ну что ж, я вынужден повиноваться. Простите, если я требовал от вас слишком многого. И – прощайте.
Он протянул руку, и она пожала ее.
– Наверно, я кажусь вам капризной и непостоянной, – сказала она. – Но я ничего не могу с собой поделать – я и сама себя не понимаю. Меняю свои решения по два раза на дню. Но нам ничего не остается, как расстаться, да, другого пути нет. Другого пути нет, – повторила она. – И я постараюсь запомнить это. Прощайте! Я все сделаю, чтобы запомнить это, вы тоже – и очень скоро вы и думать обо всем этом забудете. Нет, нет, не об этом. Я ведь знаю, какой вы верный; и все же вы скоро посмотрите на меня другими глазами и поймете, что, даже не случись всего с Айрин, я вам не подхожу. Ведь правда? – говорила она срывающимся голосом, все еще не выпуская его руки. – Я совсем не та, какую желали бы видеть ваши родные; я это почувствовала. Я маленького роста, и смуглая, и некрасивая, и они не понимают мою манеру разговаривать, а теперь мы еще и разорены. Нет, я им не гожусь. Прощайте. Вы и так были слишком терпеливы. Я достаточно вас испытывала. Мне бы решиться и выйти за вас замуж наперекор их желаниям, раз вы этого хотите, но на такую жертву я не способна – для этого я слишком эгоистична… – И вдруг она бросилась ему на грудь. – Я даже отказаться от вас не могу! Как я взгляну кому-нибудь в глаза? Уезжайте! Уезжайте, но возьмите меня с собой! Я так старалась от вас отказаться. Я все испробовала – и все напрасно. Бедная Айрин! Каково-то ей было от вас отказаться!
Кори немедленно вернулся в Бостон, предоставив Пенелопе сообщить сестре о предстоящей свадьбе. Случай или недоразумение избавили ее от этого. Едва Кори вышел, как в комнате появилась Айрин и спросила:
– Пенелопа Лэфем, неужели ты так глупа, что отослала этого человека из-за меня? – Пенелопа растерялась от проявления такого удивительного мужества; она не ответила прямо, и Айрин продолжала: – Если это так, то будь любезна, верни его. Я не допущу, чтобы он думал, будто я сохну о человеке, который меня никогда не любил. Это оскорбительно, и я этого не допущу. Немедленно верни его!
– Хорошо, хорошо, Рин, – пролепетала Пенелопа. И добавила, устыдясь своих увиливаний перед гордым великодушием Айрин: – Я уже… то есть… он вернется.
Айрин на мгновение застыла, глядя на нее; что было у нее в мыслях, неизвестно, но вслух произнесла она только:
– Ну-ну! – и оставила сестру, испытавшую смятение, – смятение и вместе с тем облегчение, ибо обе они знали, что говорят об этом в последний раз.
Свадьба состоялась после стольких бед и несчастий и породила столько сожалений о прошлом и опасений за будущее, что не принесла Лэфему того торжества, которое прежде вызывала у него мысль о родстве с семейством Кори. Неудачи преследовали его так долго, что лишили всякой надежды на преуспеяние, ради которого люди пресмыкаются и раболепствуют, и, проведя через сомнения и душевные муки, вернули мужественность, которую едва у него не отняло процветание. Ни он, ни его жена и думать не думали теперь о том, что их дочь выходит за представителя семьи Кори; они думали только о том, что их дочь идет за того, кто ее любит; присутствие Айрин еще более их отрезвляло. Сердцем они были с нею.
Миссис Лэфем не уставала повторять, что не представляет себе, как выдержит это.
– Все мне кажется, будто тут что-то неправильно.
– Нет, правильно, – твердо отвечал полковник.
– Я знаю. А все кажется, что нет.
Мне не составит большого труда указать те черты в характере Пенелопы, за которые семейство ее мужа в конце концов примирилось с ней и полюбило ее. Такое постоянно происходит в романах; и семейство Кори, как и намеревалось, постаралось увидеть в женитьбе Тома лучшее, а не худшее.
Они оказались людьми, способными оценить поведение Лэфема, о котором рассказал им Том. Они гордились им, и Бромфилд Кори, которому доставлял тонкое эстетическое наслаждение героизм, с каким Лэфем противился Роджерсу и его искушениям, – героизм неосознанный, но истинно драматический, – написал ему письмо, которое прежде безмерно польстило бы этой простой душе, хотя теперь он как бы его и не заметил.
– Ну и что ж, может, Пэн станет там полегче, – сказал он жене.
И все же различия между семьей Кори и женой Тома не стерлись, да и не могли стереться.
– Вот бы Том женился на полковнике, – тонко заметила Нэнни Кори.
Перед отъездом в Мексику, когда Том привез жену к себе домой, стороны временно проявили учтивость и терпимость: свекор по своей доброте сделал вид, будто ему нравится ее манера говорить, хотя сомнительно, что даже он находил в ней такое же удовольствие, что и ее муж. Лили Кори сделала с нее неудачный набросок, который отложила вместе с другими, чтобы когда-нибудь закончить, и нашла в ее внешности что-то живописное. Нэнни поладила с ней лучше остальных и считала, что страна, куда она едет, пойдет ей на пользу.
– У нее еще совершенно отсутствуют какие-либо светские манеры, – пояснила Нэнни матери, – а если она проживет там достаточно долго, то наверняка приобретет их – на испанский лад – и вернется, полная экзотического очарования, пусть даже благоприобретенного. Я рада, что она уезжает в Мексику. На таком расстоянии можно ладить.
Мать вздохнула и в ответ мужественно признала, что они и так отлично поладили, и если Том доволен, то и она тоже.
В ее словах о том, что они поладили с Пенелопой, было немало правды. Решив с самого начала видеть хорошее в плохом, они за свои добрые намерения были вознаграждены высшими силами. Брак этот, по милости провидения, не обрушил на них череды чаепитий у Лэфемов, чего так опасался Бромфилд Кори; Лэфемы были далеко, в своих родных местах; Лили и Нэнни Кори не пришлось приносить себя в жертву ради разговоров с Айрин; не надо было даже устраивать приемов в честь Пенелопы, хотя это не составило бы особого труда, поскольку многие еще не вернулись с курортов, – и она, и Том очень просили не устраивать ничего подобного; и, хотя никто из семейства Кори не успел хорошо узнать ее за ту неделю, что она провела с ними, ладить с ней оказалось нетрудно. Случалось даже, что Нэнни Кори улавливала – что не раз удавалось и ее отцу – суть того, что Том называл ее юмором, но юмор этот, видимо, совсем не походил на их собственный, и распознать его было не так-то просто.
Было ли Пенелопе труднее достигать гармонии, я сказать не могу. На ее долю усилий досталось куда как больше, ибо соотношение было четыре к одному; ей на долю выпали до этого испытания куда более серьезные. Когда захлопнулись дверцы экипажа, увозившего на вокзал ее и мужа, она глубоко вздохнула.
– Что такое? – спросил Кори, хотя и сам обо всем догадывался.
– О, ничего. Просто мне кажется, что теперь уже я не буду чувствовать себя чужой среди мексиканцев.
Он взглянул на нее с недоумевающей улыбкой, потом стал серьезнее и привлек ее к себе. Она расплакалась у него на плече.
– Я только хотела сказать, что там ты будешь целиком мой. – Хотела ли она сказать что-то большее, доказать трудно, но одно несомненно: наши нравы и обычаи ценятся в жизни дороже наших качеств. Та цена, которую мы платим за цивилизацию, это – разграничение обычаев, создавшее между людьми неодолимые преграды. Быть может, мы платим чересчур дорого, но невозможно убедить в этом тех, кто от этого выиграл. Быть может, они и правы; во всяком случае, семья Кори после отъезда молодоженов ощутила тоску и непреходящее чувство разочарования. Для них это была потеря сына и брата; они это чувствовали; а ведь они были люди отнюдь не плохие и не злобные.
Он отсутствовал три года. За это время произошли некоторые перемены. Одной из них было приобретение Компанией Канауа-Фоллз залежей и фабрики в Лэфеме. Эта сделка избавила Лэфема от долгов, которые он еще продолжал выплачивать, и оставила ему определенную долю в более крупном деле молодых людей, которое он когда-то тщетно надеялся забрать целиком в свои руки. Это показалось ему весьма примечательным; взявшись более энергично за сбыт специальных сортов, которые они ему оставили, он совсем по-прежнему стал хвастаться его размахом. Мой зять, говорил он, сбывает их в Мексике и Центральной Америке, а это было в свое время задумано нами вместе. Молодая кровь – вот то, что движет такими делами. Вот и парни из Западной Виргинии: молодая и дружная команда!
Что до него самого, он признавал, что наделал много ошибок, и точно знал, каких именно. Но одно он мог сказать: он вредил только самому себе и никому другому; каждый доллар, каждый цент пошел у него на уплату долгов; а он остался чист. Обо всем этом и о многом другом рассказывал он мистеру Сьюэллу в то лето, когда продал дело; пастор и его жена остановились в Лэфеме по пути с Белых Гор к озеру Чэмплейн – Лэфем повстречался с ними в вагоне и уговорил погостить у них.
Порой и миссис Лэфем не меньше его самого гордилась тем, что он вышел из игры с чистыми руками, однако ее удовлетворение не было столь постоянным. Бывало, что, вспоминая искушения, которые он преодолел, она считала его благороднейшим из людей; но ни одна женщина не может долго жить под одной крышей с идеальным героем; так что случались и другие минуты, когда она напоминала ему, что, если бы он сдержал данное ей обещание и не стал спекулировать акциями; если бы позаботился о страховании имущества так же, как заботился о двух недостойных женщинах, которым ничем не был обязан, – они не оказались бы в своем нынешнем положении. Он смиренно признавал все это и ждал, когда она вспомнит также и о Роджерсе. Она, конечно, вспоминала, и это неизменно пробуждало в ней прежнюю ее нежность.
Не знаю, как удается пасторам и докторам удержаться и не поделиться с женами тайнами, которые им вверяют; может быть, они полагаются на то, что жены сами до всего дознаются, когда захотят. Сьюэлл рассказал своей жене про беды Лэфемов, когда те пришли советоваться с ним насчет предложения, которое Кори сделал Пенелопе; он хотел убедиться, что дал им правильный совет, правда, он не назвал их имен, а имени Кори он и сам тогда не знал. Теперь он мог, не стесняясь, обсуждать с ней это дело, и она уже не притворялась незнающей, заявив, что все поняла, едва только услышала о помолвке Кори и Пенелопы.
– Да и в тот день на обеде я могла бы сказать девочке, что он влюблен не в нее, а в ее сестру. Я ведь слышала, как он о ней говорил, и не будь малышка так слепо влюблена, она бы и сама догадалась. Признаюсь, до сих пор не могу отделаться от чувства презрения к ее сестре.
– Но ты совсем не права! – воскликнул Сьюэлл. – Это несправедливо и жестоко. Все это у тебя от чтения романов, а не от сердца. Не надо. Меня огорчает, что ты так говоришь.






