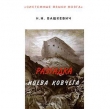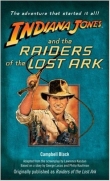Текст книги "Потерянный Ковчег Завета"
Автор книги: Тюдор Парфитт
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
И с самой добродушной улыбкой профессор добавлял: жители деревни в этом случае пошли бы на уступки; возможно, они решили бы тем или иным способом меня «очистить». Например, провели бы традиционный обряд очищения лемба: раздели бы меня и голышом протащили задом наперед через дыру, проделанную в гигантском муравейнике. Одно из объяснений столь удивительного обычая – что муравьи высасывают нечистую кровь посвящаемого. А может, сделали бы мне обрезание ритуальным ножом – такие ножи юные лемба получают после обрезания и всю жизнь берегут, как бесценное сокровище.
– Без ритуала очищения, – серьезно сказал Мазива, – они должны были бы убить тебя за проникновение в священное для них место. Таков закон.
На самом-то деле Мазива не мог не знать, что вождь Мпози никогда бы не дал мне разрешения войти в пещеру. Проникнуть туда можно было только тайком. Если Мазива и в самом деле хотел, чтобы я отыскал Нгома – а в этом я не совсем уверен, – он должен был ожидать, что я полезу туда без спроса. Но действительно ли Нгома прятали там, а потом унесли? А если нет, то для чего меня потчевали этой сказкой?
Версия, что Нгома был когда-то спрятан в окрестностях Думгхе, согласуется с мнением большинства ученых. В 1953 году южноафриканская исследовательница Мюллер-Малан записала легенду лемба о том, что Нгома некогда спрятали в какой-то горе на севере. Историк Фофи, сам лемба, говорил мне то же самое. И Мазива тоже. В прошлом Нгома был там, к северу от Лимпопо, возможно, где-то в окрестностях Мберенгва, например на Думгхе. Больше всего сказок и легенд о Нгома распространено как раз в этих областях – недалеко от развалин загадочного сооружения Большого Зимбабве.
Мазива всегда подчеркивал, что источниками его информации о Нгома или Ковчеге были древние старики, хранители традиций, в свою очередь узнавшие все от представителей рода Буба (к которому принадлежал и сам Мазива), от жрецов, охраняющих Нгома. Местонахождение Нгома знают только жрецы.
– Старые жрецы, – задумчиво говорил он. – Те самые, чьи предки вели нас сюда из Сенны, неся с собой Ковчег.
– Так он не потерян! Они знают, где он. Они берегут его, пока не придет время. Они принесли его сюда, в Южную Африку, из Мберенгва.
– Точно. Именно так. Жрецы Буба принесли его сюда. Больше никто не посмел бы прикоснуться к Нгома. Только жрецы из рода Буба.
– Но где же эти жрецы, и куда они его дели? – обычно спрашивал я.
– Они на своем месте и занимаются своим делом. Держат Нгома у себя. Не знаю, где именно. Его будут прятать, пока он не понадобится. Он там, в горах, далеко-далеко. Или где-нибудь еще. Его спрятали в безопасном месте, где ему ничто не повредит, и вынесут, когда придет время. Я не знаю, где он. Когда его достанут, то все будут петь и танцевать. Люди будут праздновать это событие. Ликовать будет весь мир, потому что все узнают: лемба – стражи Ковчега, хранители самой древней традиции. Ковчег прославится на весь свет. Прогремит. «Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном».[46] Ковчег провозгласит наше возрождение и возрождение Израиля.
– Так ты все-таки хочешь, чтобы я его нашел? – спрашивал я. – Есть ли у меня шансы?
– Ты ведь нашел Сенну. И Нгома найдешь. – Мазива улыбался своей добродушной дружеской улыбкой. – А если не найдешь, Нгома тебя найдет. Ковчег найдет тебя! Мы не сомневаемся. Так думают старейшины, старые, старые люди.
На этом разговор обычно и кончался. Я испытывал разочарование. Наверное, Мазива знает больше, чем говорит. Или не знает?..
Проверить я не мог. Быть может, он нарочно сбивал меня с толку. Быть может, старейшины велели ему любой ценой держать меня подальше от Нгома. Я припомнил, как несколько лет назад чуть не попал в вооруженную засаду. А если они хотели мне на что-то прозрачно намекнуть – как теперь узнать?
Когда несколько лет назад Севиас сообщил мне, что Нгома потерян, и по секрету рассказал о слухах, что он якобы спрятан на горе Думгхе, я поверил. Теперь же я все больше и больше чувствовал: слухи – это только слухи. Пустая болтовня, не имеющая никаких оснований. Нгома, или Ковчег, утерян. И больше тут сказать нечего.
Однажды вечером, сидя у себя в комнате, я записал все собранные мной за много лет сведения, в которых содержались какие-то подсказки. Каждой теме я отводил отдельную страницу.
Когда я закончил последнюю запись, сложил листочки в аккуратную стопку и устало прикрыл глаза, мне пришло в голову, что самая важная информация – та, что относится к пещере Мавогве в долине Лимпопо. Это единственный твердый островок среди болота слухов, намеков и россказней: около 1949 года Гаральд фон Зикард, величайший специалист по легендам о Нгома, человек, проживший большую часть жизни в племени, изучавший его верования, написал, что видел и фотографировал Нгома в музее в Булавайо. Гаральд фон Зикард – тот самый белый, который нашел Нгома в гроте Мавогве на горе Масенна у Лимпопо. В его книге напечатан черно-белый снимок Нгома. Я сам его видел, и книга у меня есть.
Однако Нгома в музее больше нет.
Эти два факта казались мне твердой почвой, по которой можно двинуться вперед. Несколько более шаткую основу для размышлений представляло убеждение Мазива, Моэти и других старейшин, что Нгома забрали из музея сами же лемба – в неизвестное время и при неизвестных обстоятельствах – и сначала спрятали в Мберенгва или окрестностях, возможно, в пещере у подножия Думгхе, а потом перевезли в горы Соутпенсберга.
По утверждению большинства старейшин, все произошло именно так или приблизительно так, но точных подробностей о том, как и когда Нгома забрали из музея, никто не знал. И никто понятия не имел, кто из жрецов Буба его забрал.
Тогда же я по телефону объяснил ситуацию Рувиму, а он пожал плечами и сказал: «На мой взгляд, все это фроммер вунш – голубые мечты. Им нужно, чтобы Нгома охраняли их жрецы, им так хочется, вот они и верят, что так и есть. Это вроде того, как в Иерусалиме некоторым хочется, чтобы Ковчег был в Храме, вот они и верят бимунах шелемах – беззаветно, что он и вправду спрятан где-то под Храмовой горой. Вера и факты, к сожалению, две большие разницы».
За последние годы я несколько раз побывал в музее Булавайо в надежде прояснить, при каких обстоятельствах исчез оттуда Нгома. Я надеялся добыть побольше информации о его происхождении, о том, как его обнаружили, найти следы присутствия Нгома в музее, узнать, как его оттуда вывезли. Увы, сотрудники музея ничего не знали. Никаких записей о том, что его туда доставили или увезли, не было. У сотрудников музея не имелось никаких данных о Нгома, и они утверждали, что ничего похожего на фотографию в непонятной научной книжке фон Зикарда в их музее нет.
В 1999 году услужливые кураторы обыскали весь музей и хранилища сверху донизу. Ни в экспозиции музея, ни в запасниках ничего похожего на Нгома не нашлось. Никакого следа. В последний раз Нгома видели в 1949 году, почти шестьдесят лет назад. И, насколько я смог установить, на этом след оборвался. Отлично снаряженная экспедиция Ричарда принесла не больше, чем мои предыдущие попытки. Я оказался там, откуда начал.
Несколько дней я пробыл в Соутпенсберге, неспешно прогуливался в горах, припоминал приключения, которые пережил тут десять лет назад.
Однажды вечером, обессиленный, я зашел в бар, памятный мне по той последней, печальной встрече с Рувимом. Чтобы поднять свой поникший дух, я выпил на террасе пару больших порций «Лафройга», потом заказал еще. Я уже собирался пойти поужинать, когда в бар за моей спиной вошел немолодой мужчина, взял себе пива и вышел на террасу. Опустившись в кресло, он поднял бокал и пробормотал: «Йехид да!» – «Ваше здоровье!» по-валлийски, на языке моих предков.
– А, земляк, – сказал я, поднимая бокал.
Дэвид Джонс – бывший житель Родезии, а родился он и вырос в Уэльсе. Копна седых волос, пронзительные голубые глаза. Около сорока лет проработал железнодорожником в Родезии, а году в 1980-м эмигрировал, как многие белые родезийцы, в Южную Африку. Финансовое положение у него было отчаянное. Ему причиталась пенсия от Управления железных дорог Родезии, но уже пятнадцать лет он не получал ни гроша. Дэвид ездил в Хараре, пробовал добиться пенсии. Черные чиновники, к которым он обращался, смеялись ему в лицо.
Везет мне на удачные встречи в барах. После стаканчика-другого у людей развязывается язык, и они рассказывают о себе такое, о чем и сами раньше не думали. Валлиец с горечью говорил о своих разочарованиях, о пропащей жизни, о совершенных ошибках, упущенных возможностях. Он страстно желал вернуться в Уэльс, тосковал по туманам, по удивительным рассветным запахам гор.
– Понимаешь, парень, в Африке хорошо и красиво, но это не отчий дом. По ночам мне снится Уэльс. Только денег на билет мне никогда не собрать. И здесь у меня никого нет. Все разъехались. Поумирали. Как говаривала моя мать:
Не грипп нас сведет
В могилу, а гроб,
В котором кладут нас в могилу!
Я сходил к стойке, принес нам выпить. Когда я вернулся, мой собеседник немного повеселел и стал рассказывать мне про свою любовь, страсть всей своей жизни – родезийские железные дороги. В старые дни Булавайо был большим железнодорожным узлом, первым звеном в железнодорожной магистрали, которая должна была, по замыслу Сесила Родса, протянуться от мыса Доброй Надежды до Каира, притом по британской территории.
Первая линия, сказал Дэвид, шла из Бейры, порта на мозамбикском побережье, до Мутаре в Южной Родезии. Начали ее в 1892 году, всего через несколько месяцев после объявления Машоналенда британским протекторатом. Линию между Капской провинцией и Булавайо закончили в 1887 году, а линию до столицы, Солсбери, – в 1902-м; строительство неоднократно прерывалось из-за разразившейся в 1899 году Англо-бурской войны. Дело свое старик знал хорошо. Он рассказывал мне о маршрутах, расписаниях, типах колеи и о том, какой испытываешь восторг, ведя ночью паровоз по освещенному луной бушу. Во время освободительного движения семидесятых он регулярно водил бронепоезда из Булавайо в Солсбери.
– Ну и времечко было! – вспоминал Дэвид. – Никогда точно не знаешь, заминирована ветка или нет, не набросали ли на рельсы деревянных или железных брусьев, чтобы поезд сошел с рельсов и черные ублюдки перерезали тебе глотку.
Я выпил еще виски, потом еще – и уже начинал впадать в приятную грусть. Я понимал, что пьян, но все равно ясно видел, как много общего у нас с Дэвидом. У нас обоих была в жизни большая страсть, и нас обоих жизнь разочаровала. Я угостил своего нового приятеля и соотечественника выпивкой, вытянул ноги на стол и попросил бармена принести «Лафройг» прямо в бутылке, чтобы самому подливать себе по мере надобности; а надобность, подозревал я, скоро возникнет.
Почему-то я вспомнил про муктара Сенны. Наверное, моя неудача была предопределена. Вероятно, как он намекал, я избрал неверный путь. Ведь он сказал: «Единственный путь – это путь Аллаха». Тут мне вспомнился один замечательный валлийский гимн «Долина Ронта», который я и запел – сначала тихонько, но по мере того как росло мое чувство разочарования, с большим и большим воодушевлением:
О, Иегова великий, поведи меня вперед;
Ты могуч – среди пустыни дай мне, слабому, оплот.
Хлеб небесный, хлеб небесный, напитай меня, прошу…
Уже в основательном подпитии я рассказал Дэйву про Марию, про то, как я по ней скучаю, о ее страсти ко мне и моей страсти к ней, о том, что в постели с ней никто не сравнится. Рассказал, как трудно распознать шелест крыльев истории, и о том, как Мария бросила меня, не сказав ни слова, как раз тогда, когда я меньше всего этого ожидал. Я рассказал о Ковчеге, о Нгома, который стерегут двенадцать львов. Рассказал о Рувиме, о том, как он мечтал принести народам мир и подарил мне шанс выполнить эту священную миссию, а я все провалил. Я рассказал и о великолепном Дауде, таком образованном и таком сумасшедшем, который тоже много привнес в мой поиск, а еще – о кознях Моссада. Я рассказал, что уже двадцать лет охочусь за блуждающими огоньками.
– Слышал про блуждающие огни? Это такие огоньки… Они уводят людей с проторенных путей – по всей Англии и Уэльсу – в топи и болота. Именно туда я и угодил: в самую чертову трясину. Понимаешь, Дэйв, я попросту убил уйму времени. Теперь-то я понимаю. В тысяча девятьсот сорок девятом году Нгома точно был в этом чертовом Булавайо, а потом взял и пропал. Вот можно ли представить, чтобы что-то исчезло – взяло и исчезло – из Британского, черт побери, музея? Что-то такое важное, вроде этой штуки, которая может потрясти мир? До чего же дурацкая страна!
И я нетвердой рукой потянулся за стаканом.
– Ты немного не прав, парень. – Дэвид фыркнул в свое пиво. – Здесь, понимаешь ли, была какая-никакая войнушка. И все тогда шло наперекосяк. Мы-то делали, что могли, даже для музеев черных. Знаешь, я этого никогда не понимал. Старый колониальный режим придавал всякой африканской чепухе колоссальное значение. Уж не знаю почему…
Он замолчал и угрюмо заглянул в пустой стакан. Я заказал нам еще пива и наполнил стакан доверху.
– Пару раз был у нас груз какой-то рухлади из Булавайо – нам ее доставляли в грузовике охраны. Какие-то частные коллекции и музейные экспонаты. Целые кучи, наверное, еще со времен Родса, точно не знаю. Защищали наследие черных, понимаешь ли. От самих же черных. Уж они-то разграбили и сожгли бы все, до чего дотянулись бы своими лапами. По правде сказать, здесь, парень, до Родса никакой истории не было. Дикость была. Натуральная языческая дикость. История как таковая началась вместе с железными дорогами. Если хочешь узнать настоящую историю, тебе нужно в Железнодорожный музей в Булавайо. Это – мой музей, моя жизнь.
Джонс отхлебнул пива и посмотрел вниз, на Большую Северную дорогу, что вела через Соутпенсберг на его вторую родину.
Пауза затянулась. У меня кружилась голова; чтобы сосредоточиться, мне пришлось слегка напрячься. Точнее – сильно напрячься. А еще я пытался припомнить, что такое сообщил мне сейчас этот симпатичный пожилой валлиец. Мысли с трудом просачивались сквозь хмель, и было среди них нечто очень важное.
Если при режиме Смита из музеев вывозили всякое «наследие», то, по всей вероятности, везли его в столицу Южной Родезии, Солсбери, который позже переименовали в Хараре.
– Ты сейчас сказал, что вы вывозили музейные экспонаты из Булавайо в Солсбери… Я тебя правильно понял? Или мне померещилось?
И я глотнул «Лафройга» – прочистить мозги.
– Да, правильно. Я четко помню, как мы возили в Солсбери всякое музейное барахло. Мой напарник стибрил здоровенную маску. Подарил своей хозяйке на Рождество. Это было в семьдесят седьмом… Нет, вру – на Рождество семьдесят шестого.
Ужин в тот вечер я пропустил, а на следующее утро только потому и проснулся, что по рифленой крыше бунгало, где я ночевал, начали скакать обезьяны. А ночью, оказывается, кое-что произошло. Когда я взял в руки мобильник, то увидел, что пришло сообщение от Марии. Только одно слово: «Bebe».[47] За целый год это была первая весточка. Я долго принимал душ, потом хорошенько погулял в роще за гостиницей. Когда я прохаживался, в голове у меня всплыл вчерашний рассказ Дейва, и я кое-как прогнал мысли о Марии.
До возвращения в Лондон оставалось несколько дней. Стоило сделать последнюю попытку. Я позвонил в музей Булавайо.
Звонкоголосая молодая женщина – куратор музея – с излишней категоричностью заявила: она абсолютно уверена, что предмета, который я ищу, в ее музее нет.
– Я не знаю, где он теперь, но что здесь его нет, я знаю точно, потому что за последние несколько лет о нем справлялись неоднократно. Похоже, его ищет много народу. Мы хорошо смотрели, но у нас его нет.
– Позвольте задать вам вопрос. Если во время освободительного движения экспонаты вашего музея перевезли из Булавайо в Солсбери, то есть я хочу сказать – Хараре, то куда они, по-вашему, попали?
– В то время многое из принадлежавшего государству попало в частные руки. То есть было украдено, а потом тайно вывезено из страны. А если те, кто перевозил экспонаты, действовали по закону, то экспонаты могли попасть в этнографический отдел Музея королевы Виктории в Солсбери, бывшей родезийской столицы, или в один из региональных музеев – например, в Мутаре или Гверу. Но у меня нет никаких фактов, подтверждающих, что все обстояло именно так. Никаких записей. Попробуйте поговорить в Хараре с Эверисто Мангвиро. Вдруг он поможет.
Она продиктовала мне номер и повесила трубку.
Несколько минут спустя я уже говорил с Мангвиро – дал ему подробное описание предмета, который искал, а потом заказал билет на самолет от Йоханнесбурга до Хараре, столицы Зимбабве. Я подумывал отправиться туда на автомобиле, но за воистину роскошным завтраком старый железнодорожник предупредил меня, что шансы добыть в Зимбабве бензин равны нулю.
Мозес толкнул джин с тоником по полированной стойке.
В баре были только Мозес – бармен – и я. Позади стойки висела в рамке фотография поселения белых, стоявшего когда-то на месте современного Хараре. Несколько белых людей, недавно прибывших в Южную Африку, расположились на фоне барака более или менее европейского вида. Поселением они явно гордились. Строение из гофрированного железного листа с широкой верандой стояло среди еще дикого буша Машоналенда.
Снимок этот сделан в 1893 году; мужчины с прямой викторианской осанкой были основателями клуба «Солсбери», который некогда представлял собой нервный узел политической, коммерческой и общественной жизни белой Родезии. Переименованный в клуб «Хараре» в 1980 году, он располагается по старому адресу, хотя вокруг него вырос большой деловой центр. Находится клуб на углу Третьей улицы и авеню Нельсона Манделы, как раз напротив здания парламента. Клуб обветшал и явно нуждается в ремонте. Электричество то и дело отключают, с водоснабжением постоянные перебои.
Я в одиночестве обедал в колониальной столовой, где в полированных буфетах поблескивали серебряная посуда и спортивные кубки, полученные за победу в давно забытых спортивных состязаниях и конных скачках. Мне дали отпечатанное меню, но выбор оказался невелик. Я попросил соленую рыбу, порцию окуня и бутылку местного белого вина.
Я еще понятия не имел, во сколько обойдется это пиршество, но уже беспокоился. Мозес мне сообщил, что выпивка перед обедом стоит тридцать долларов – по официальному курсу. Стоимость обеда приближалась к тремстам пятидесяти долларам.
Курс черного валютного рынка для меня был в шестьдесят раз выгоднее официального курса. Инфляция составляла около тысячи семисот процентов в год. Однако зазывалы со стеклянными глазами, которые, стоило мне выйти из клуба, тут же собрались вокруг, могли с равной вероятностью оказаться как вполне приличными мошенниками с черного рынка, таки полицейскими информаторами или грабителями. А я еще не подсчитал, во что мне обойдется средненькая спаленка в клубе, но уж точно намного, намного дороже, чем я платил за самую дорогую в своей жизни гостиницу.
Вид у Хараре был пасмурный. Из южных пригородов наплывал, смешиваясь с запахом жакарандовых деревьев, туман; атмосфера казалась угрожающей. Вокруг бродили сотни голодных, некоторые останавливались, чтобы поглазеть на выставку концессионных «мерседесов», расположенную рядом с клубом. В этом салоне сверкали такие роскошные автомобили, что даже Рувим не стал бы воротить нос.
В клубе мне посоветовали до утра на улицу не выходить. Вооруженные ограбления происходят очень часто, и бродить ночью по центру Хараре – значит самому напрашиваться на неприятности.
Я отправился в постель, но спал урывками. Среди ночи в расположенном неподалеку англиканском соборе Святой Марии зазвонили колокола. Потом где-то в центре города, недалеко от клуба, начали бить в большой гулкий барабан.
Барабанный бой продолжался всю ночь. Эта своеобразная перекличка между колоколами и барабаном, периодически прерываемая какими-то звуками, напоминающими выстрелы, врывалась в мой сон, как врываются горячечные кошмары, когда болеешь гриппом. К тому времени, как я встал, барабан окончательно проиграл соревнование, и поле битвы осталось за колоколами.
Первым делом я позвонил работнику музея Хараре Эверисто Мангвиро, чей телефон дала мне молодая женщина – куратор музея Булавайо. Мангвиро сказал, что большую часть дня собирается вместе с семьей провести в церкви, а ближе к вечеру сможет прийти в клуб.
После традиционного «белого» африканского завтрака – свиная грудинка, говяжьи сосиски, яйца и запеченные помидоры – я задумался, чем себя занять, и решил немного прогуляться к собору по аллеям площади Африканского Единства, пройтись под жакарандовыми деревьями.
Снаружи собор походил на обычную англиканскую церковь из тех, что стоят в британских пригородах. Не особенно красивый, но и не совсем простенький. Войдя, я тут же понял, что в одном отношении собор сильно отличается от любой знакомой мне англиканской церкви: здесь собралось полно народу. И все, кроме меня, – чернокожие. Служба не отличалась от службы в рядовой англиканской церкви. А вот музыкальное сопровождение разнилось кардинально. Вместо органа я увидел африканские трещотки и два здоровенных барабана. Музыка была зажигательная.
Меня потрясли две детали: проповедь была об ограничении свободы. Абсолютная свобода означает абсолютную анархию. Настоящая свобода – это послушание. А как раз вчера праздновали день рождения Мугабе. Его отметили разгоном мирной демонстрации протеста и беспорядками в южных пригородах Хараре. И епископ англиканской церкви Норберт Кунонга, получивший в собственность две отличные фермы, отнятые у белых поселенцев, плясал теперь под дудку президента Мугабе. В огромном нефе собора барабаны выбивали ритмы порабощения.
Глядя на лица окружавших меня людей, я не мог понять – неужели прихожане готовы поверить, что коррупция и узаконенные злоупотребления не противоречат заповедям Христа?
Было первое воскресенье Великого поста 2007 года. В начале этого года люди по всей стране умирали от голода. Всемирная организация здравоохранения только что объявила Зимбабве, считавшуюся некогда главным зерновым районом Африки, страной с самой высокой в мире смертностью.
Великопостная проповедь призывала голодных прихожан, многие из которых и без всякого поста были недалеки от голодной смерти, не переедать во время Великого поста в память о муках Иисуса.
После церкви я зашел в бар клуба и немного поболтал с одним посетителем – чернокожим торговцем оружием, любителем регби. Я спросил его про епископа Норберта Кунонга.
– Он мечтает вступить в этот клуб, – насмешливо сказал мой собеседник. – И Мугабе тоже. Только ведь они чернозадые. Оба. Они тут не нужны. Два преступника.
– Наверное, торговля оружием тоже как-то связана с преступностью?
– Да, некоторым образом. Чтобы преуспеть, приходится ловчить. Главное – раздобыть сертификаты, которые не отличить от настоящих. Дело еще в том, что за последние лет триста Африка стала свалкой для устаревшего оружия. Как только оно устаревает в Европе, его тут же сбагривают в Африку. Я как-то читал про оружие, которым тут торговали в девятнадцатом веке – задолго до того, как в Солсбери появились белые. В Занзибар привозили миллионы касок, сотни тысяч дульнозарядных ружей, тонны пороха. Веками Африка просто тонула в этом добре. Так что я просто продолжаю старинную и почетную традицию.
– А как насчет огнестрельного оружия местного производства? – поинтересовался я.
– А-а… Да, делали тут какие-то деревянные ружья – очень твердая древесина и очень примитивный порох. Грохоту от них получалось чертовски много. Только они и вполовину не так опасны, как ассегаи – в руках того, кто умеет с ними обращаться.
В четыре часа мне позвонили из приемной гостиницы и сообщили, что пришел посетитель.
Эверисто – скромного вида человек средних лет с бритой головой и плотно прижатыми к черепу ушами. Во время освободительной войны он был еще ребенком; однажды его задела шальная пуля. Эверисто часто потирал бедро, куда она попала.
Мы сидели в гостиной клуба; Эверисто Мангвиро сказал, что в прошлую пятницу он проверил все хранилища, но ничего особо подходящего под мое описание не нашел. Только какой-то очень старый и изношенный предмет с обломками от четырех деревянных колец, в которые вставлялись шесты для переноски – правда, они сломаны и едва видны. Сделан он из очень-очень твердого дерева. Вероятно, какое-то африканское дерево вроде акации.
– Его и долгоносик не испортит, – заметил Эверисто. – Он его просто не прогрызет. Да и все равно бы его не съели. Все экспонаты, хранящиеся в запасниках, обрабатываются химикатами. Но эту вещь даже не нужно было обрабатывать. Ни один долгоносик на земле такое дерево не прокусит – разве что после второго пришествия.
Он улыбнулся и добавил:
– Аллилуйя!
Эверисто подтвердил: в запасниках есть артефакты, которые во время войны за независимость привезли сюда из других музеев.
– Возможно, их даже и внесли в каталог, но в этой военной неразберихе все бумаги, наверное, пропали.
Я вынул из портфеля книгу фон Зикарда и показал Эверисто фотографию:
– Вот это вы нашли?
Эверисто долго смотрел в книгу, поднес черно-белую фотографию к свету, потом положил книгу на стол. После долгой паузы сообщил, что точно не знает. Он сомневался. Его находка оказалась в скверном состоянии, а вынести ее из запасника, чтобы разглядеть получше, он не мог. Освещение там плохое, а предмет лежит на нижней полке вместе с разными старыми и поломанными вещами неизвестного происхождения. Эверисто не снимал его с полки; чтобы хорошо разглядеть, его пришлось бы вынести из хранилища, а для этого нужно особое разрешение директора музея, мистера Жозефа Муринганиза.
– Мистер Муринганиза – добрый человек, порядочный. Если у вас есть надлежащие рекомендации, за ним дело не станет, – сказал Эверисто.
Найденный предмет очень древний, очень тяжелый и твердый и разбит на части – вот все, что он смог сообщить. Он с удовольствием бы его сфотографировал, но в музее нет фотоаппарата.
Эверисто нервно потер ладони и погладил бедро.
– Вы приехали издалека, чтобы его увидеть. Надеюсь, вам не придется разочароваться. А сколько стоит билет из Йоханнесбурга?
Я ответил.
Мой собеседник присвистнул:
– Моя зарплата за шесть месяцев… – Он помолчал, подсчитывая в уме. – Нет, даже больше. А если это не то, что вы ищете? Вам придется вернуть университету деньги?
– Нет, не беспокойтесь. Даже если это не то, я по крайней мере буду знать, что Нгома в Музее гуманитарных наук нет. Значит, он находится где-то в другом месте. Отрицательный результат – тоже результат. Он продвинет вперед границы науки, – с улыбкой ответил я.
Эверисто нерешительно улыбнулся и пообещал зайти за мной утром.
В восемь часов он уже был в клубе. Мы сели в такси и поехали по авеню Нельсона Манделы в Музей гуманитарных наук, который начал свое существование как Музей королевы Виктории. В вестибюле довольно уютного современного здания, залитого лучами утреннего солнца, стояла у кассы длинная очередь.
– А ваш музей пользуется популярностью, – заметил я.
– Нет, – ответил Эверисто. – Это не посетители, это работники; ждут – вдруг им заплатят. Им уже долго не платили. И нам тоже. Если им сегодня заплатят, тогда и нам, кураторам, можно надеяться.
Он повел меня в кабинет на втором этаже. Секретарь директора Блессинг сказал, что директор скоро меня примет.
Сердце у меня заколотилось, руки сразу стали липкими.
Когда Блессинг наконец пригласил меня в кабинет директора, мне показалось, что прошла целая вечность. Мистер Жозеф Муринганиза, директор музея, держался как-то неуверенно. Его, похоже, изумил визит заокеанского гостя. Директор тут же объяснил свое удивление. В его музей редко заглядывают посетители из-за границы. Более того, в Зимбабве вообще редко бывают заграничные туристы. А если приезжают, то отправляются прямиком к водопаду Виктория или в какой-нибудь из сафари-парков. В стране осталось всего двадцать тысяч белых жителей, и европейское лицо за пределами «белых» пригородов можно увидеть все реже и реже. Он и не припомнит, когда у них в последний раз были посетители с другого континента.
Я объяснил, зачем приехал. Я, мол, надеюсь, что экспонат, вывезенный в годы войны за освобождение из музея в Булавайо, мог попасть в Музей королевы Виктории в Солсбери.
– Вполне возможно, – ответил директор. – Трудные были времена, ужасные, особенно там, в Булавайо. Сюда для сохранности перевезли множество предметов, но после установления независимости многие экспонаты… думаю, очень многие, большую часть, переправили в западную часть страны, в Матабелеленд. Вещи из Матабелеленда тут никому особенно не нужны. Теперешний режим интересуется только наследием шона. Дело тут в племенных интересах, к сожалению.
Еще директор сказал, что предметы, которые не выставлены в экспозиции, хранятся в запасниках Музея гуманитарных наук и что хранилище этнографических материалов расположено недалеко от его кабинета.
Коррупция среди зимбабвийских чиновников уже вошла в поговорку. Однако Жозеф Муринганиза совсем не такой. Этот высокий спокойный человек казался олицетворением порядочности.
Несколько лет назад Жозеф изучал в Кембридже музейное дело.
Судя по тому, как он говорил о проведенных в Англии студенческих годах, то были самые драгоценные его воспоминания. Теперь он вел совсем другую жизнь. Здесь, рассказывал Жозеф, даже у преподавателей не хватает денег, чтобы добраться до работы. Добыть бензин для своей машины – настоящая проблема. Автобусы не ходят. Цены на продукты питания – запредельные. В самом Хараре пока не голодают, но в некоторых частях страны люди и в самом деле гибнут от голода.
Блессинг принес в кабинет поднос с чайником и чашками.
– Печенья, к сожалению, нет, – сказал директор, передавая мне чай.
Он еще поговорил про Кембридж, про его закосневшую систему обучения, потом вздохнул и с застенчивой улыбкой прибавил:
– Впрочем, вы здесь не затем, чтобы выслушивать мои мемуары о днях студенческих. Чем я могу вам помочь?
– Сейчас объясню. История довольно необычная. Почти шестьдесят лет тому назад в Национальном музее Южной Родезии в Булавайо сфотографировали некий предмет, который называется Нгома Лунгунду. Снимок этот опубликовали в одном научном издании, вышедшем в Швеции, в Упсала. После тысяча девятьсот сорок девятого года Нгома из Булавайо пропал – я впервые побывал в музее несколько лет назад, и его там уже не было. Я пытаюсь его отыскать.
И я показал Жозефу фотографию из книги фон Зикарда.