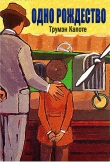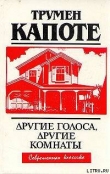Текст книги "Том 3. Музыка для хамелеонов. Рассказы"
Автор книги: Трумен Капоте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
После ужина мы уходим в комнатку моей подружки, расположенную в глубине дома. Она спит там под лоскутным одеялом на железной кровати, выкрашенной розовой масляной краской. Розовый цвет – ее любимый. В полном молчании, наслаждаясь своей ролью заговорщиков, мы извлекаем наш кошелек из укрытия и высыпаем его содержимое на одеяло. Вот долларовые бумажки, плотно свернутые и зеленые, словно бутоны в мае. Унылые монеты по полдоллара, такие тяжелые, что ими можно прикрыть глаза мертвеца. Хорошенькие десятицентовые монетки, самые живые из всех – только они одни так задорно звенят. Пятачки и четвертаки, обтершиеся, как голыши в ручье. Но больше всего отвратительных, горько пахнущих медных центов – их целая куча. Прошлым летом мы подрядились убивать мух – другие обитатели дома платили нам по центу за двадцать пять штук. Ну и бойню мы устроили в августе! Мухи возносились прямо на небеса. Но этой работой мы не очень гордились. И сейчас, когда мы пересчитываем грязные центы, нам все кажется, что это дохлые мухи. В счете мы оба слабоваты, дело движется туго, мы сбиваемся, начинаем все снова. По подсчетам моей подружки у нас двенадцать долларов семьдесят три цента, по моим – ровно тринадцать долларов.
– Хорошо бы ты ошибся, Дружок. Это надо ж – тринадцать! Жди беды: либо тесто сядет, либо кто-нибудь из-за нашего пирога угодит на кладбище. Что до меня, так я ни за что на свете тринадцатого с постели не подымусь!
И правда: тринадцатого она всегда целый день проводит в постели. Чтоб уж наверняка избежать опасности, мы берем один цент и швыряем его за окошко.
Из всего, что нам требуется для пирогов, виски – самое дорогое, и его труднее всего раздобыть: в нашем штате – сухой закон. Впрочем, всем известно, что бутылку виски можно купить у мистера Джонса по прозвищу «Ха-ха». И назавтра, покончив с другими, более обыденными покупками, мы отправляемся в заведение мистера Ха-ха («вертеп», говорят о нем все) – бревенчатую харчевню у реки, где танцуют и угощаются жареной рыбой. Мы здесь бывали и раньше – по тому же самому поводу; но в предыдущие годы переговоры с нами вела жена Ха-ха, коричневая, как йод, индианка с вытравленными перекисью волосами и смертельно усталым лицом. Мужа ее мы никогда в глаза не видели. Только слышали, что он тоже индеец. Огромный такой, и через все лицо – шрамы от бритвы Его прозвали «Ха-ха», потому что он такой мрачный – человек, который никогда не смеется. Харчевня его – большой балаган, увешанный внутри и снаружи гирляндами разноцветных ослепительно-ярких лампочек, – стоит на топком берегу в тени деревьев, по ветвям которых, словно туман, расползается серый мох. Чем ближе мы подходим к харчевне, тем медленнее идем. Даже Королек перестает резвиться и жмется к нашим ногам. Ведь тут, случалось, убивали. Резали на куски. Проламывали черепа. В следующем месяце в суде будет разбираться одно такое дело… Конечно, все это происходит ночью, когда разноцветные лампочки отбрасывают нелепые тени и завывает виктрола. А днем у харчевни обшарпанный и заброшенный вид. Я стучу в дверь, Королек лает, моя подружка кричит:
– Миссис Ха-ха! Мэм! Есть тут кто-нибудь?
Шаги. Дверь распахивается. Сердца наши проваливаются куда-то: да это же мистер Ха-ха Джонс собственной персоной! Он и вправду огромный, на лице у него и вправду шрамы, он и вправду не улыбается. Нет, он посверкивает на нас из-под приспущенных век сатанинскими глазами и грозно спрашивает:
– На что вам Ха-ха?
Мгновение мы стоим молча, парализованные страхом. Потом к подружке моей возвращается голос, и она еле внятно говорит, вернее шепчет:
– С вашего позволения, мистер Ха-ха… Нам нужно кварту вашего лучшего виски.
Глаза его превращаются в щелочки. Поверите ли? Ха-ха улыбается. Даже смеется.
– Кто же из вас двоих пьяница?
– Нам в пироги нужно, мистер Ха-ха. В тесто.
Это словно бы отрезвляет его. Он хмурит брови:
– Не дело это, попусту переводить хороший виски.
Но все-таки он исчезает в темной глубине дома и возвращается вскоре с бутылкой без наклейки, в которой плещется желтая, словно лютики, жидкость. Показав нам, как жидкость искрится на свету, он говорит:
– Два доллара.
Мы расплачиваемся с ним мелочью. Он подбрасывает монетки на ладони, словно игральные кости, и лицо его вдруг смягчается.
– Ну вот что, – объявляет он, ссыпав мелочь обратно в наш бисерный кошелек. – Пришлете мне один из этих ваших пирогов, и все.
– Смотри-ка, – замечает на обратном пути моя подружка. – До чего славный человек. Надо будет всыпать в его пирог лишнюю чашку изюма.
Плита, набитая углем и поленьями, светится, словно фонарь из выдолбленной тыквы. Прыгают венички, сбивая яйца, крутятся в мисках ложки, перемешивая масло с сахарным песком, воздух пропитан сладким духом ванили и пряным духом имбиря; этими тающими, щекочущими нос запахами насыщена кухня, они переполняют весь дом и с клубами дыма уносятся через трубу в широкий мир. Проходят четыре дня, и наши труды закончены: полки и подоконник заставлены пирогами, пропитанными виски, – всего у нас тридцать один пирог.
Для кого же?
Для друзей. И не только для тех, что живут по соседству. Напротив, по большей части пироги наши предназначены людям, которых мы видели раз в жизни, а то и совсем не видели. Людям, чем-нибудь поразившим наше воображение. Как, например, президент Рузвельт. Или баптистские миссионеры с Борнео – его преподобие Дж. К. Луси с женой, которые прошлой зимой читали здесь лекции. Или низенький точильщик, два раза в год проезжающий через наш городок. Или Эбнер Пэкер, водитель шестичасового автобуса из Мобила, – каждый день, когда он в облаке пыли проносится мимо, мы машем ему рукой, и он машет нам в ответ. Или Уистоны, молодая чета из Калифорнии, – однажды их машина сломалась у нашего дома и они провели приятный часок, болтая с нами на веранде. (Мистер Уистон нас тогда щелкнул своим аппаратом – мы ведь ни разу в жизни не снимались.)
Может быть, совсем чужие или малознакомые люди кажутся нам самыми верными друзьями лишь потому, что подружка моя стесняется всех и не робеет только перед чужими? Думаю, так оно и есть. А кроме того, у нас такое чувство, что хранимые нами в альбоме благодарственные записки на бланках Белого дома, редкие вести из Калифорнии и с Борнео, дешевые поздравительные открытки низенького точильщика приобщают нас к миру, полному важных событий и далекому от нашей кухни, за окном которой стеною стоит небо.
…А сейчас в окошко скребется по-декабрьски голая ветка смоковницы. Кухня уже опустела, все пироги разосланы; вчера мы свезли на почту последние несколько штук. Чтобы купить марок, нам пришлось вывернуть кошелек наизнанку, и теперь у нас ни гроша за душой. Я очень этим подавлен, но подружка моя утверждает, что завершение нашей работы надо отпраздновать, – в бутылке, которую дал нам Ха-ха, осталось еще пальца на два виски. Одну ложку вливаем Корольку в мисочку с кофе – он любит, чтобы кофе был крепкий, с цикорием, остальное делим между собой. Мы оба ужасно боимся пить неразбавленный виски. После первых глотков мы морщимся, передергиваем плечами – брр! А потом начинаем петь, каждый свое. Из своей песни я знаю всего несколько слов: «Приходи, приходи в негритянский поселок, собрались все франтихи и франты на бал». Но зато я умею танцевать. Вот кем я буду – чечеточником, стану плясать чечетку в кино. Я отплясываю, тень моя мечется по стенам. От нашего пения трясется посуда на полках. Мы хихикаем, будто нас кто-то щекочет. Королек перекатывается на спину, дрыгает лапами, что-то вроде улыбки растягивает его черную пасть. Во мне все горит и искрится, как трещащие в печке поленья, я беззаботен, словно ветер в трубе. Подружка моя кружится в вальсе вокруг плиты, приподняв подол бедной ситцевой юбки, словно это вечернее платье. «Покажи мне дорогу к дому…» – напевает она, и ее теннисные туфли поскрипывают в такт. «Покажи мне дорогу к дому…»
Кто-то входит. Две родственницы. Обе взбешены. Они буравят нас глазами, дырявят языком. Они взвинчивают себя, слова их сливаются в сплошную мелодию гнева:
– Семилетний ребенок! И от него разит виски! Ты спятила, что ли? Напоить семилетнего ребенка! Какая-то полоумная! Верный путь к гибели! Вспомни-ка двоюродную сестру Кэйт! Дядюшку Чарли! Свояка дядюшки Чарли! Позор! Стыд какой! Срам! На колени! Моли Господа о прощении!
Королек забивается под плиту. Подружка моя разглядывает свои туфли, подбородок ее дрожит. Потом она поднимает подол юбки, сморкается в него и убегает в свою комнату… Весь город давно заснул, в доме все стихло, слышится только бой часов да потрескиванье догорающих угольков в печах, а она все плачет в подушку, мокрую, как носовой платок вдовы.
– Не плачь, – говорю я ей. Я сижу у нее в ногах на постели и дрожу от холода, хотя на мне фланелевая ночная рубашка, пропахшая сиропом от кашля, который мне давали прошлой зимой. – Ну не надо, – я уговариваю ее, щекочу ей пятки, дергаю за пальцы. – Такая старая, и вдруг плачет.
– А все потому… – отвечает она, икая, – …потому, что я правда совсем старая стала. Старая и смешная.
– Вовсе ты не смешная. Ты веселая. Веселей всех. Послушай, перестань плакать, а то завтра будешь усталая и мы не сможем пойти за елкой.
Она сразу садится. Королек вспрыгивает на кровать, хотя это ему не разрешается, и лижет ей щеки.
– Я знаю. Дружок, где найти красивую елку. И остролист. Ягоды у него огромные, как твои глазищи. Но надо зайти далеко в лес, так далеко мы еще не ходили. Оттуда нам всегда приносил елку папа, он тащил ее на плечах. Пятьдесят лет с тех пор миновало. Ох, я уже не могу дождаться, поскорее бы утро!
Утро. Трава поблескивает от инея. Солнце, круглое, как апельсин, и оранжевое, как луна в душную летнюю ночь, покачивается на горизонте, заливая блеском посеребренные морозом деревья. Где-то вскрикивает цесарка. Из подлеска доносится хрюканье одичавшего борова. Мы оставляем коляску у быстрого и мелкого, по колено, ручья. Королек переправляется первый, он скулит, шлепая лапами по воде – жалуется на быстрое течение, на ледяную воду, от которой можно схватить воспаление легких. Мы бредем за ним следом, каждый держит над головой свою обувь и снаряжение – топорик и холщовый мешок. Еще с милю сквозь колючки шиповника, вцепляющиеся в нашу одежду, по ржавчине опавшей хвои, расцвеченной кое-где яркими поганками и птичьими перьями. То тут, то там зашуршит или молнией мелькнет с пронзительно-радостным криком пичужка, напоминая нам, что не все птицы улетели в теплые края.
Тропинка вьется сквозь залитые лимонным солнцем прогалины, сквозь темные туннели в зарослях дикого винограда. Еще ручей: вокруг нас вспенивает воду армада потревоженных пестрых форелей, упражняются в прыжках толстые, величиною с тарелку, лягушки, прилежно трудятся бобры, строя плотину. На том берегу уже отряхивается Королек, он весь дрожит. Подружка моя тоже дрожит, но не от холода, а от азарта. Она закидывает голову, чтобы поглубже вдохнуть густой запах хвои, и с одной из облезлых бархатных роз, украшающих ее шляпу, слетает лепесток.
– Мы почти что у цели. Чувствуешь запах, Дружок? – спрашивает она, словно мы приближаемся к океану.
А это и вправду своего рода океан. Целые акры пахучих елей и остролиста его ягоды рдеют, словно китайские фонарики; на них с карканьем устремляются чернью вороны. Набив мешки зелеными с алым ветками остролиста – их хватит для гирлянд на десяток окон, – мы приступаем к выбору елки.
– Она должна быть в два раза выше ребенка, – рассуждает моя подружка. – Чтобы он не мог стащить с верхушки звезду.
Елка, которая нам приглянулась, как раз вдвое выше меня. Стройная, пригожая, а уж здорова! Лишь на тридцатом ударе наших топориков она валится с надрывающим сердце скрипучим криком. Ухватив ее, словно добычу, мы пускаемся в долгий обратный путь. Через каждые несколько шагов мы вынуждены отдыхать садимся и тяжело дышим.
Но радость удачливых охотников придает нам силы. И еще нас подхлестывает бодрящий, льдистый аромат хвои.
На закате мы добираемся по красному глинистому проселку до города. Сокровище наше укреплено на коляске, и многие из встречных хвалят его: до чего славное деревце, говорят они, где вы его раздобыли? Но подружка моя отвечает уклончиво.
– Да так, в одном месте, – еле слышно бормочет она.
Рядом с нами останавливается машина, из окна высовывается ленивая жена богача-мукомола:
– Даю тебе четвертак за эту метлу, – говорит она ноющим тоном.
Обычно подружка моя не любит отказывать, но тут она резко мотает головой:
– Нет, мы ее и за доллар не отдадим.
Жена мукомола не унимается:
– Скажешь тоже, за доллар! Пятьдесят центов, вот моя крайняя цена. Слушай, тетка, ты же можешь себе раздобыть еще одну, совершенно такую же.
– Навряд ли, – мягко и задумчиво произносит моя подружка. – Все на свете неповторимо.
Дома. Королек шлепается у горящего камина и засыпает до утра. Он храпит громко, как человек.
На чердаке в одном из сундуков хранятся: коробка из-под обуви с горностаевыми хвостиками (они срезаны с меховой накидки одной весьма странной дамы, снимавшей когда-то комнату у нас в доме), растрепанные мотки порыжевшей от времени канители, серебряная звезда, коротенькая гирлянда допотопных, явно небезопасных в пожарном отношении лампочек, смахивающих на разноцветные леденцы. Украшения расчудесные, но их маловато. Подружке моей хочется, чтобы елка наша сияла, словно окно из цветных стекол в баптистской церкви, чтобы ветви ее клонились под тяжестью украшений, как от толстого слоя снега. Но роскошные японские игрушки, которые продаются у Вулворта, нам не по карману. Поэтому мы, как обычно под рождество, целыми днями сидим за кухонным столом и мастерим украшения сами с помощью ножниц, цветных карандашей и кипы цветной бумаги. Я рисую, подружка моя вырезает. Больше всего у нас кошек и рыбок (их проще всего рисовать), потом яблоки, арбузы, есть и несколько ангелов с крыльями – мы делаем их из серебряной обертки от шоколадок. С помощью английских булавок мы прикрепляем свои изделия к елке и в довершение всего усыпаем ветки комочками хлопка, собранного для этой цели еще в конце лета. Оглядев елку, подружка моя радостно всплескивает руками:
– Нет, честно, Дружок. Ведь ее так и хочется съесть, верно?
Королек и вправду пытается съесть ангела.
Потом мы плетем из остролиста гирлянды для окон, обвязываем зелень лентами. Когда с этим покончено, начинаем готовить подарки для всех наших родственников. Дамам – самодельные шарфики, мужчинам – собственного приготовления снадобье из лимонного сока, лакрицы и аспирина («Принимать при первых симптомах простуды и после охоты»). Но пора мастерить подарки друг для друга. Тут мы начинаем работать порознь, втихомолку. Мне бы хотелось купить в подарок моей подружке перламутровый перочинный нож, приемник и целый фунт вишни в шоколаде (мы один раз попробовали эти конфеты, и с тех пор она постоянно твердит: «Знаешь, Дружок, я могла бы ими одними питаться всю жизнь; вот как Бог свят, могла бы, а ведь я никогда не поминаю его имени всуе»). Вместо этого я мастерю ей бумажного змея. А ей хотелось бы подарить мне велосипед. (Она мне миллион раз говорила: «Если б я только могла, Дружок… Достаточно скверно, что сама не имеешь того, чего хочешь, но когда и другим не можешь подарить то, что им хочется, от этого уже совсем тошно. И все-таки я как-нибудь изловчусь, раздобуду тебе велосипед. Только не спрашивай как. Может быть, украду».) Но я совершенно уверен, что она мастерит мне змея – так же, как в прошлом году и в позапрошлом; а в позапозапрошлом мы подарили друг другу рогатки. По мне, и то и другое неплохо. Мы с ней чемпионы по запуску змея и разбираемся в ветрах, как заправские моряки. Моя подружка ловчее меня, – она умудряется запускать змея даже в затишье, когда облака стоят неподвижно.
В сочельник нам кое-как удается наскрести пятачок, и мы отправляемся к мяснику за обычным подарком для Королька. Покупаем ему хорошую мозговую кость, заворачиваем ее в комикс и подвешиваем на верхушке елки, рядом с серебряной звездой. Королек знает, что она там. Он усаживается под елкой и, словно завороженный, не отрываясь, жадно смотрит вверх. Уже пора спать, а его никакими силами не оттащишь от елки. Я взбудоражен не меньше его. Сбрасываю с себя одеяло, переворачиваю подушку, как в жаркую летнюю ночь. Где-то кричит петух, но это он прежде времени – солнце еще над другой стороной земли.
– Дружок, ты не спишь? – окликает меня из своей комнаты моя подружка. Комнаты наши рядом, и мгновенье спустя она уже сидит со свечкой в руке у меня на кровати.
– Знаешь, у меня сна – ни в одном глазу, – говорит она. – Мысли скачут, как зайцы. Ты как думаешь, Дружок, миссис Рузвельт подаст наш пирог к обеду?
Оба мы беспокойно вертимся, она стискивает мне руку, выражая этим свою любовь.
– А ведь раньше рука у тебя была куда меньше. До чего же мне тяжко видеть, как ты растешь. А когда ты совсем вырастешь, мы все равно будем друзьями?
Я отвечаю, что будем всегда.
– Я так расстроена, Дружок! Мне очень хотелось подарить тебе велосипед. Я пробовала продать камею – папин подарок. Дружок… – Она смущенно останавливается. – …Я опять смастерила тебе змея.
Тут я признаюсь, что тоже смастерил ей в подарок змея, и мы начинаем хохотать. Свеча догорает, ее уже не удержать в руке. Вдруг она гаснет, и в комнату проникает звездный свет. Звезды размеренно кружатся в окошке, они словно видимые глазу рождественские псалмы, медленно-медленно умолкающие с зарей… Наверное, мы задремали, но первый утренний свет будто обрызгивает нас холодной водой; мы вскакиваем и, тараща глаза от волнения, слоняемся по дому ждем, когда же проснутся остальные. Моя подружка нарочно роняет на кухне чайник. Я отплясываю чечетку перед закрытыми дверями. Постепенно все обитатели дома, один за другим, вылезают из своих спален, и по виду их ясно, что они готовы убить нас обоих. Но нельзя – рождество! Для начала – обильнейший завтрак. Чего тут только нет – и оладьи, и жаркое из белки, и маисовая каша, и сотовый мед. У всех повышается настроение, но только не у меня и не у моей подружки. По правде сказать, мы ждем не дождемся рождественских подарков, от нетерпения нам кусок не лезет в горло.
Ну так вот, я очень разочарован. Да тут кто угодно разочаруется: мне преподносят носки, рубашку для воскресной школы, несколько носовых платков, поношенный свитер и годовую подписку на детский религиозный журнал «Юный пастырь». Во мне все кипит, ей-богу!
У подружки моей урожай богаче. Самый приятный из полученных ею подарков кулек с мандаринами. Но главный предмет ее гордости – шаль из белой шерсти, связанная замужней сестрой. Впрочем, она уверяет, что больше всего обрадовалась моему змею. Он и вправду очень красивый, хотя и не так хорош, как тот, который мне дарит она. Тот змей голубой, он усыпан зелеными и золотыми звездочками, полученными за примерное поведение, и ко всему на нем краской выведено – ДРУЖОК.
– Дружок, поднимается ветер!
Ветер и впрямь поднялся. Позабыв обо всем, мы бросаемся на лужайку за домом, где Королек зарывает обглоданную кость (и где следующей зимой зароют его самого). Там, продираясь сквозь густую, высокую, по пояс, траву, мы запускаем наших змеев и чувствуем, как они рвутся с бечевок – словно небесные рыбы плывут по ветру и дергают удочки. Согревшись на солнце, мы, довольные, растягиваемся на траве, чистим мандаринки и смотрим, как мечутся в поднебесье наши змеи. Вскоре я забываю и про носки, и про поношенный свитер. Я так счастлив, будто мы получили тот самый приз в пятьдесят тысяч долларов, который обещан за лучшее название для новой марки кофе.
– Ой, ну и дура же я! – восклицает моя подружка, вдруг встрепенувшись, словно она забыла вынуть лепешки из духовки. – Знаешь, о чем я все думаю? – говорит она таким тоном, будто только что сделала важное открытие, и улыбается, глядя куда-то мимо меня. – Я раньше думала: человек может увидеть Господа, только если он болен или же умирает. И я представляла себе: Господь является в сиянии, прекрасном, как цветное окошко в баптистской церкви, когда в него светит солнце, и таком ярком, что не заметишь даже, как наступит тьма. Большое было утешение думать, что от этого света все страхи исчезнут. А теперь могу об заклад побиться, что так не бывает. Ручаюсь – когда человек умирает, ему становится ясно, что Господь уже являлся ему. Что все вот это… – и она делает широкий жест рукой, показывая на облака, и на наших змеев, и на траву, и на Королька, зарывающего кость, – все, что люди видят вокруг, это и есть Бог. Что до меня, я могла бы покинуть мир, имея перед глазами хотя бы нынешний день.
Это последнее рождество, которое мы проводим вместе. Жизнь разлучает нас. Те, кто уверен, что им надлежит вершить мою судьбу, решают, что меня надо отдать в военную школу. И начинается унылое чередование тюрем, где жизнь подчинена сигналам горна, и мрачных летних лагерей с их опостылевшей побудкой. Теперь у меня другой дом, однако он не в счет. Мой дом там, где живет моя подружка, но больше мне в нем не пришлось побывать.
А она остается там и, как прежде, возится в кухне. Сперва вдвоем с Корольком. Потом совсем одна. («Дружок, хороший мой, – с трудом разбираю я ее каракули, – вчера лошадь Джима Мейси убила копытом Королька. Хорошо еще, что песик не очень мучился. Я его завернула в простыню из тонкого полотна и свезла в коляске на Симпсонов луг – пусть лежит вместе со всеми косточками, которые там зарывал…»)
Еще несколько раз она печет к рождеству пироги, теперь уже без меня. Печет не так много, как прежде, но печет и, разумеется, всегда присылает мне «самый удачный из всех».
В каждом письме я нахожу монетку в десять центов, обернутую в туалетную бумагу: «Сходи в кино и напиши мне, про что картина». Но мало-помалу она начинает путать меня в своих письмах с другим своим приятелем – тем Дружком, который умер еще в восьмидесятых годах; все чаще и чаще она остается в постели не только тринадцатого числа, но и в другие дни. И наконец наступает по-зимнему холодное ноябрьское утро, когда деревья совсем обнажились и больше не слышно птиц, а подружка моя уже не может подняться с постели, не может воскликнуть:
– Ух ты! Погода – в самый раз для рождественских пирогов!
И когда это случается, я ощущаю это сразу. Сообщение от родных лишь подтверждает весть, которую я каким-то таинственным образом уже получил. И от меня отрывается что-то – незаменимая часть моего существа, – словно рвется бечевка и улетает бумажный змей. Вот почему, проходя в то декабрьское утро по школьному двору, я обвожу глазами небо. Будто надеюсь увидеть двух упущенных змеев, торопливо и дружно улетающих в небеса.
БУТЫЛЬ СЕРЕБРА
(рассказ)
После занятий в школе я обычно работал в аптеке «Валгалла». Владельцем ее был мой дядя, мистер Эд Маршалл. Я называю его мистером Маршаллом, потому что все, даже собственная жена, звали его «мистер Маршалл». А вообще-то он был человек симпатичный.
Аптека была хоть и несколько старомодная, но зато просторная, темноватая и прохладная, – летом во всем городке не было места приятней. Слева от входа, за табачным прилавком, как правило, возвышался сам мистер Маршалл – приземистый, с длинными закрученными седыми усами на скуластом румяном лице, придававшими ему весьма мужественный вид. В глубине помещения находилась красивая старинная стойка для газировки; ее пожелтевшая мраморная поверхность была отполирована тщательно, но без вульгарного блеска. Мистер Маршалл приобрел ее в тысяча девятьсот десятом году на аукционе в Новом Орлеане и очень ею гордился. Сидя у стойки на одном из высоких шатких табуретов, вы могли видеть в старинных зеркалах свое отражение – тускловатое, словно при свечах. Все главные товары были выставлены в застекленных антикварных шкафчиках, запиравшихся медными ключами. В аптеке всегда стоял запах мускатного ореха, сиропов и прочих вкусных вещей.
Жители нашего округа частенько наведывались в «Валгаллу», покуда в городе не объявился некий Руфус Макферсон – он тоже открыл аптеку, прямо напротив нашей, на другой стороне главной площади. Старый Руфус Макферсон оказался сущим злодеем – он переманил у моего дядюшки почти всех клиентов Он завел у себя всякие новомодные штучки вроде разноцветных лампочек и электрических вентиляторов; подъезжавших к аптеке клиентов обслуживал прямо в машине; приготовлял сандвичи на заказ. Понятно поэтому, что, хотя некоторые из наших завсегдатаев и сохранили верность мистеру Маршаллу, большинство из них не смогло устоять перед соблазнами, которые пустил в ход Руфус Макферсон.
Сперва мистер Маршалл решил его игнорировать: при упоминании его имени он только фыркал, покручивал усы и глядел в сторону. Но видно было, что он здорово накален и с каждым днем накаляется все сильнее.
Как-то раз, в середине октября, когда я зашел в аптеку, мистер Маршалл сидел у стойки с Хаммураби; они играли в домино и попивали винцо. Этот самый Хаммураби, уверявший, что он египтянин, подвизался у нас в качестве зубного врача, но практики у него почти не было, так как у жителей нашего округа зубы на редкость крепкие благодаря свойствам здешней воды; поэтому большую часть времени Хаммураби торчал в аптеке и был лучшим приятелем моего дяди. Он был красавец-мужчина, этот Хаммураби, – смуглый, высокий, футов семи росту, и мамаши у нас в городке старались прятать от него своих дочек, хотя сами строили ему глазки. Говорил он без всякого акцента, и мне всегда казалось, что он такой же египтянин, как выходец с Луны.
Словом, они с дядей играли в домино и потягивали красное итальянское вино, подливая себе из четырехлитровой бутыли. Зрелище грустное, потому что мистер Маршалл был известен как ярый противник спиртного, и я, понятное дело, подумал: ох ты, черт, значит, все-таки Руфус Макферсон допек его. Но оказалось, что дело вовсе не в этом.
– Эй, сынок, – обратился ко мне мистер Маршалл, – иди-ка сюда, выпей стаканчик красного.
– Правильно, помоги нам с ним разделаться, – подхватил Хаммураби, – вино покупное, жаль его выливать.
Много позже, уже под вечер, когда бутыль наконец опустела, мистер Маршалл взял ее в руки.
– Что ж, теперь посмотрим! – сказал он и вышел на улицу.
– Куда это он? – спросил я.
– О… о… о… – только и сказал Хаммураби, любивший меня подразнить.
Прошло с полчаса, и мой дядя вернулся, сгибаясь под тяжестью своей ноши и сердито ворча. Он водрузил бутыль на стойку и отступил на шаг, с улыбкой потирая руки.
– Ну, как на ваш взгляд?
– О… о… о… – вновь сказал Хаммураби.
– Ух ты! – сказал я.
Бог ты мой, это была та самая бутыль, но с нею произошло чудесное превращение – теперь она была доверху наполнена серебряными монетками по пять и десять центов, тускло поблескивавшими сквозь толстое стекло.
– Здорово, а? Это мне в Первом национальном банке насыпали. Монета покрупнее не пролезает в горлышко. Ну да все равно, там целая куча денег, доложу я вам.
– А для чего это, мистер Маршалл? – спросил я. – Ну то есть в чем тут идея?
Мистер Маршалл заулыбался еще шире.
– Бутыль с серебром, скажем так…
– Кубышка на конце радуги, – вставил Хаммураби.
– …а идея, как ты выражаешься, – в том, чтобы люди старались угадать, сколько тут денег. Скажем, купил клиент чего-нибудь на четвертак – и пожалуйста, пусть попытает счастья. Чем больше он будет покупать, тем больше у него шансов на выигрыш. Все цифры, какие мне станут называть, я буду записывать в бухгалтерскую книгу, а в сочельник мы их зачитаем, и чья окажется всего ближе к правильной, тому и достанется вся эта музыка.
Хаммураби кивнул с торжественным видом.
– Санта-Клауса из себя разыгрывает, – сказал он. – Всемогущего, доброго Санта-Клауса. Пойду я домой и напишу книгу: «Искусное убийство Руфуса Макферсона».
Он иногда и вправду строчил рассказы, а потом рассылал их по журналам. Но всякий раз они приходили обратно.
Удивительно, просто уму непостижимо, до чего бутыль с серебром завладела воображением жителей нашего округа. Давно уже дядюшкина аптека не знала такого наплыва покупателей – с тех самых пор, как Тьюли, начальник станции, совершенно спятил, бедняга, и стал уверять, что обнаружил за товарным складом нефть, после чего в наш городок валом повалил народ – рыть поисковые скважины. Даже бездельники, которые целыми днями толклись в бильярдной и сроду ни на что гроша не выложили, если только это не имело отношения к выпивке или к женщинам, и те вдруг стали расходовать свою скудную денежную наличность на молочный коктейль.
Несколько пожилых дам публично осудили затею мистера Маршалла как разновидность азартной игры; впрочем, особого шума они поднимать не стали, а некоторые из них под тем или иным предлогом даже заходили в аптеку попытать счастья. Школьники прямо-таки помешались на этой бутыли, и я вдруг стал среди них весьма популярен – они вообразили, что мне известно, сколько там серебра.
– Я вам скажу, в чем тут дело, – говорил Хаммураби, закуривая египетскую сигарету (он заказывал их по почте в одной нью-йоркской фирме). – Вовсе не в том, в чем вы думаете, – не в жадности, словом. Нет. Тайна – вот что всех завораживает. Глядишь ты на эти монетки, так разве же ты думаешь: ага, тут их столько-то? Нет, нет. Ты спрашиваешь себя: а сколько их тут? Вот в этом вся суть, и для каждого она означает свое. Понятно?
Ну, а Руфус Макферсон, тот просто на стену лез. Ведь всякий торговец возлагает на рождество особые надежды – эти несколько дней приносят ему изрядную долю годовой выручки. А тут вдруг покупателей силком не затащишь. Руфус решил собезьянничать – завел у себя такую же бутыль, но так как он был скрягой, то наполнил ее медными центами. Мало того, он написал редактору «Знамени», нашей еженедельной газеты, письмо, где утверждал, что мистера Маршалла следует «вымазать дегтем, обвалять в перьях и вздернуть за то, что он превращает невинных детей в заядлых игроков, уготовляя им тем самым прямой путь в ад». Сами понимаете, что после этого он сделался всеобщим посмешищем. Заслужил презрение всего города, и больше ничего. В общем, к середине ноября ему не оставалось ничего другого, как стоять на тротуаре у дверей своей аптеки и с горечью взирать на веселую кутерьму в стане противника.
Примерно в это время у нас в аптеке и появился Ноготок со своей сестрой. Был он не из наших, городских, во всяком случае, раньше его никто здесь не видел. Он говорил, что живет на ферме в миле от Индейского Ручья, что мать его весит всего-навсего тридцать кило, а у старшего брата есть скрипка, и, если кому нужно, он может за пятьдесят центов сыграть на свадьбе. А еще он сообщил, что его звать Ноготок, что другого имени у него нету и что ему двенадцать лет. Но Мидди, его сестра, говорила, что ему всего восемь. Волосы у него были прямые темно-русые; маленькое обветренное лицо постоянно напряжено; зеленые глаза глядели понимающе, очень умно, настороженно. Был он низенький, щуплый, сплошной комок нервов, носил всегда одно и то же – красный свитер, синие холщовые штаны и огромные башмаки, хлопавшие при каждом его шаге.