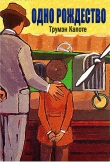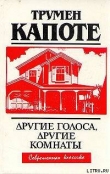Текст книги "Том 3. Музыка для хамелеонов. Рассказы"
Автор книги: Трумен Капоте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
ПЕРЛ (вмиг посерьезнев – она очень сообразительная женщина и сразу поняла, что тут не до шуток). Говори.
Т. К. Ты летишь этим рейсом в Нью-Йорк?
ПЕРЛ. Да, мы все.
Т. К. Перл, я должен попасть на него. У меня билет. Но у выхода двое, они меня не пустят.
ПЕРЛ. Какие двое? (Я показываю.) Как это не пустят?
Т.К. Они детективы. Перл, сейчас некогда объяснять…
ПЕРЛ. Не надо ничего объяснять.
(Она оглядела свою труппу красивых молодых черных танцовщиков; их было человек шесть, и я вспомнил, что Перл всегда любила разъезжать в большой компании. Она подозвала одного из них – щеголеватого парня в желтой ковбойской шляпе, фуфайке с надписью: «СОСИ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, НЕ КУСАЙСЯ», в белой кожаной куртке, подбитой горностаем, желтых спортивных брюках и желтых остроносых туфлях.)
Это Джимми. Он чуть крупнее тебя, но, думаю, тебе подойдет. Джимми, ступай с моим другом в мужской туалет и поменяйся с ним одеждой. Джимми, закрой рот и делай, что тебе сказала Перли-Мей. Мы ждем тебя здесь. Через десять минут нас в самолет не пустят.
(Десять метров между телефонной будкой и платной уборной мы преодолели броском. Заперлись в кабинке и приступили к обмену гардеробом. Джимми помирал со смеху, как школьница от первого в жизни косяка. Я сказал: «Перл! Это, правда, было чудом. Я никому еще так не радовался. Никогда». Джимми сказал: «О, миз Бейли заводная. У нее такое сердце – понимаешь меня? Большое сердце».
Было время, когда я с ним не согласился бы, время, когда я назвал бы Перл Бейли бессердечной стервой. Это когда она играла мадам Флёр, главную героиню в «Цветочном доме», мюзикле, для которого я написал текст, а Гарольд Арлен – стихи. В постановке участвовало много талантов: режиссером был Питер Брук, танцы ставил Джордж Баланчин, а очаровательные; сказочные декорации создал Оливер Мессел. Но Перл Бейли была так тверда, так настойчива в желании сделать всё по-своему, что подчинила себе всю постановку – в итоге с ущербом для ее качества. Но – живи и учись, прости и забудь – к тому времени, как пьеса сошла с Бродвея, мы с Перл опять были друзьями. Я уважал ее не только за талант, но и за характер; иметь с ним дело временами было неприятно, но обладала она им в полной мере – ты знал, что она такое и на чем стоит.
Пока Джимми втискивался в мои брюки, неприлично тесные для него, а я надевал его белую кожаную куртку с горностаем, кто-то возбужденно постучал в дверь.)
МУЖСКОЙ ГОЛОС. Эй! Что тут происходит?
ДЖИММИ. А ты что за птица, скажи на милость?
МУЖСКОЙ ГОЛОС. Я дежурный. И не дерзите мне. То, что вы делаете, – незаконно.
ДЖИММИ. Без балды?
ДЕЖУРНЫЙ. Я вижу четыре ноги. Я вижу, что раздеваются. Вы думаете, я дурак и не понимаю, что происходит? Это против закона. Чтобы двое мужчин вместе запирались в одной кабине, это незаконно.
ДЖИММИ. Да пошел ты в жопу.
ДЕЖУРНЫЙ. Я вызову полицию. Вам предъявят НП.
ДЖИММИ. Что еще за НП?
ДЕЖУРНЫЙ. Непристойное поведение в общественных местах. Вот так. Я вызову полицию.
Т. К. Иисус, Иосиф и Мария…
ДЕЖУРНЫЙ. Откройте дверь!
Т. К. Вы неправильно поняли.
ДЕЖУРНЫЙ. Я знаю, что я вижу. Я вижу четыре ноги.
Т. К. Мы переодеваемся для следующей сцены.
ДЕЖУРНЫЙ. Следующей сцены чего?
Т. К. Фильма. Сейчас готовимся снимать следующую сцену.
ДЕЖУРНЫЙ (с любопытством, почтительно). Тут снимают кино?
ДЖИММИ (смекнув). С Перл Бейли. Она звезда. И Марлон Брандо, он тоже тут.
Т. К. Керк Дуглас.
ДЖИММИ (кусая кулак, чтобы не рассмеяться). Ширли Темпл. Она вернулась в кино.
ДЕЖУРНЫЙ (верит и не верит). Да ну, а вы кто?
Т. К. Мы только статисты. Вот почему у нас нет грим-уборной.
ДЕЖУРНЫЙ. Все равно. Два человека, четыре ноги. Не положено.
ДЖИММИ. Выгляни наружу. Увидишь саму Перл Бейли. Марлона Брандо. Керка Дугласа. Ширли Темпл. Махатму Ганди – она тоже снимается. Только в эпизоде.
ДЕЖУРНЫЙ. Кто?
ДЖИММИ. Мейми Эйзенхауэр.
Т. К. (переодевание закончено, открываем дверь; мои вещи выглядят на Джимми неплохо, но подозреваю, что его наряд на мне произведет ошеломляющее впечатление, и, судя по лицу дежурного, ощетинившегося коротенького негра, мое предположение оправдывается). Извините. Мы не знали, что нарушаем ваши правила.
ДЖИММИ (царственно прошествовав мимо дежурного, который настолько ошарашен, что даже не посторонился). Иди за нами, дорогуша. Познакомим тебя с компанией. Можешь набрать автографов.
(Наконец мы вышли в коридор, и серьезная Перл обняла меня мягкими собольими руками; ее спутники взяли нас в кольцо. Никто не шутил и не паясничал. Нервы мои шипели, как кошка, в которую попала молния, а Перл… то, что когда-то настораживало меня в ней – ее напор, своеволие, – било из нее с неудержимой силой водопада.)
ПЕРЛ. С этой минуты – ни слова. Что бы я ни сказала – молчи. Надвинь шляпу пониже. Прислонись ко мне, – как будто ты больной и слабый. Прислони лицо к моему плечу. Закрой глаза. Я тебя поведу.
Так. Мы идем к стойке. Все билеты держит Джимми. Объявили, что посадка заканчивается, поэтому народу здесь уже мало. Сыщики стоят столбами, лица у них усталые, и, похоже, им все опротивело. Сейчас они смотрят на нас. Оба. Когда будем проходить между ними, ребята отвлекут их болтовней. Вон кто-то идет. Прислонись сильнее, постанывай – это шишка из TWA. Смотри, что сейчас мама устроит… (Изменившимся голосом, изображая сценическую Бейли – слегка комичную, слегка шальную, растягивая слова.) Мистер Кэллоуэй? Как, Кэб[67]? Вы просто ангел, что согласились нам помочь. Нам очень кстати будет помощь. Нам надо поскорее в самолет. Видите ли, моему другу – он один из моих музыкантов – ему ужасно плохо. Едва идет. Мы играли в Вегасе, наверное, он перегрелся на солнце. Солнце и на голову действует, и на желудок. Или что-то съел. Музыканты странно питаются. Особенно пианисты. Почти ничего не ест, кроме хот-догов. Вчера ночью съел десять хот-догов. Это же вредно. Не удивляюсь, что ему стало плохо. А вы бы, мистер Кэллоуэй, удивились? Наверное, вас трудно удивить, поскольку вы в авиации. Столько воздушных пиратов развелось. Тикая преступность кругом. Как только прилетим в Нью-Йорк, я сразу повезу его к врачу. Пусть он ему наконец внушит, что нельзя столько быть на солнце и питаться одними хот-догами. Спасибо, мистер Кэллоуэй. Нет, я сяду у прохода. А его мы посадим к окну. У окна ему будет легче. Все-таки свежий воздух.
Ладно, малыш. Можешь открыть глаза.
Т. К. Я лучше посижу с закрытыми. Так больше похоже на сон.
ПЕРЛ (с облегчением, посмеиваясь). Все-таки добрались. Твои друзья тебя даже не увидели. Когда мы проходили, Джимми ткнул одного под ребра, а Билли наступил другому на ногу.
Т. К. А где Джимми?
ПЕРЛ. Ребята летят эконом-классом. А его наряд тебе к лицу. Оживляет. Особенно мне нравятся востроносенькие – просто умереть.
СТЮАРДЕССА. Доброе утро, миссис Бейли. Не желаете бокал шампанского?
ПЕРЛ. Нет, ласточка. Но, может, моему другу чего-нибудь хочется.
Т. К. Бренди.
СТЮАРДЕССА. Извините, сэр, но до взлета подаем только шампанское.
ПЕРЛ. Человек хочет бренди.
СТЮАРДЕССА. Извините, миссис Бейли. Не разрешается.
ПЕРЛ (спокойным, но металлическим тоном, знакомым мне по репетициям «Цветочного дома»). Принесите ему бренди. Целую бутылку. Быстрее.
(Стюардесса принесла бренди, и я налил себе основательную порцию нетвердой рукой: голод, усталость, головокружительные события последних суток взяли свое. Потом пропустил вторую; и слегка полегчало.)
Т. К. Наверное, я должен рассказать тебе, в чем дело.
ПЕРЛ. Не обязательно.
Т. К. Тогда не буду. И у тебя совесть будет спокойна. Скажу только одно: я не сделал ничего такого, что разумный человек счел бы преступлением.
ПЕРЛ (взглянув на часы с бриллиантами). Сейчас мы должны были бы пролетать над Палм-Спрингс. Дверь закрыли сто лет назад, я слышала. Стюардесса!
СТЮАРДЕССА. Да, миссис Бейли?
ПЕРЛ. Что происходит?
ГОЛОС КАПИТАНА (из динамика). Леди и джентльмены, мы сожалеем о задержке. Скоро будем взлетать. – Благодарю вас за терпение.
Т. К. Иисус, Иосиф и Мария.
ПЕРЛ: Хлебни еще. Ты дрожишь. Можно подумать, у тебя была премьера. Едва ли может быть что-то хуже.
Т. К. Может. И дрожать никак не перестану. Пока не взлетим. Или даже пока не приземлимся в Нью-Йорке.
ПЕРЛ. Ты так и живешь в Нью-Йорке?
Т. К. Слава богу, да.
ПЕРЛ. Помнишь Луиса? Моего мужа?
Т. К. Луиса Беллсона? Конечно. Самый лучший барабанщик на свете. Лучше Джина Крупы.
ПЕРЛ. Мы с ним так часто работаем в Вегасе, что имело смысл купить там дом. Я стала заправской домохозяйкой. Стряпаю. Пишу кулинарную книгу. В Вегасе можно жить, как в любом другом месте – если сторониться нежелательных людей. Игроков. Безработных. Когда мне кто-то говорит, что ищет работу, но не может найти, я советую ему посмотреть в телефонной книге на букву «Ж» – жиголо. Он получит работу. В Вегасе уж точно. Город полон отчаявшихся женщин. Мне повезло: я нашла правильного человека, и у меня хватило мозгов это понять.
Т. К. Работать едешь в Нью-Йорке?
ПЕРЛ. В «Персидском зале».
ГОЛОС КПАПИТАНА.Леди и джентельмены, приносим наши извинения, но мы задержимся еще на несколько минут. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Желающие могут курить.
ПЕРЛ (вдруг напрягшись). Мне это не нравится. Они открывают дверь.
Т. К. Что?
ПЕРЛ. Дверь открывают.
Т. К. Иисус, Иосиф…
ПЕРЛ. Мне это не нравится.
Т. К. Иисус, Иосиф…
ПЕРЛ. Сползи в кресле. Надвинь шляпу.
Т. К. Я боюсь.
ПЕРЛ (стиснув мне руку). Храпи.
Т. К. Храпи?
ПЕРЛ. Храпи!
Т. К. Я задыхаюсь. Не умею храпеть.
ПЕРЛ. Давай начинай учиться – наши друзья пришли. Кажется, со шмоном. Сейчас всю лавочку перешерстят.
Т. К. Иисус, Иосиф и…
ПЕРЛ. Храпи, мерзавец, храпи.
(Я захрапел, а она стиснула мне руку еще сильнее и стала мурлыкать колыбельную, словно убаюкивала беспокойное дитя. А кругом слышалось другого рода мурлыканье: люди не понимали, в чем дело, зачем по проходам расхаживают два загадочных человека и время от времени останавливаются, чтобы получше разглядеть пассажира. Текли минуты. Я считал их: шесть, семь. Тик-тик-тик. Наконец Перл оборвала материнское воркование и отпустила мою руку. Потом я услышал, как захлопнулась большая закругленная дверь в фюзеляже.)
Т. К. Ушли?
ПЕРЛ. Да. Не знаю уж, кого они искали, но он им был очень нужен.
Действительно, очень. Хотя повторный суд над Робертом М. закончился точно так, как я и предсказывал, и присяжные вынесли вердикт: виновен в трех тяжких убийствах первой степени, – калифорнийские суды расценивали мой отказ от сотрудничества с ними крайне сурово. Я об этом не знал – думал, что со временем все забудется. Поэтому через год, когда возникла проблема, потребовавшая хотя бы короткого моего присутствия в штате, я отправился туда без колебаний. И что же? Стоило мне зарегистрироваться в отеле «Вел эйр», как меня арестовали, поставили перед твердолобым судьей, и он оштрафовал меня на пять тысяч долларов и приговорил к заключению на неопределенный срок, означавший, что меня могут продержать и недели, и месяцы, и годы. Однако меня скоро выпустили, потому что в приказе об аресте содержалась маленькая, но существенная ошибка: я значился в нем как постоянный житель Калифорнии, хотя на самом деле был жителем Нью-Йорка, и потому приговор о моем заключении не имел силы.
Но всё это было еще далеко впереди, об этом не думалось и не мечталось, когда серебристое судно с Перл и ее преступным другом взмыло в бесплотное ноябрьское небо. Я смотрел, как тень самолета, изгибаясь, скользит по пустыне и проплывает над Большим каньоном. Мы разговаривали, смеялись, пели и ели. Небо наполнилось сиреневыми сумерками и звездами, впереди замаячили Скалистые горы, укутанные в синий снег, и над ними повис лимонный ломтик молодого месяца.
Т. К. Перл, смотри. Новый месяц. Давай загадаем желание.
ПЕРЛ. Ты какое загадаешь?
Т. К. Я хочу всегда быть таким же счастливым, как сейчас.
ПЕРЛ. Ну, дорогой, это все равно что просить чуда. Пожелай чего-нибудь реального.
Т. К. А я верю в чудеса.
ПЕРЛ. Тогда одно могу сказать: никогда не ввязывайся в азартные игры.
5. Вот так и получилось
(эссе, перевод В. Голышева)
Сцена: камера в корпусе строгого содержания тюрьмы Сан-Квентин в Калифорнии. В камере одна койка, ее постоянный обитатель Роберт Босолей и его гость вынуждены сидеть рядом, довольно тесно. Камера опрятна, прибрана, в углу стоит отлакированная гитара. Но сейчас конец зимнего дня, и здесь холодновато, промозгло, словно в тюрьму просочился туман с залива Сан-Франциско.
Несмотря на холод, Босолей сидит без рубашки, в хлопчатых тюремных брюках, и ясно, что он доволен своим видом, в частности своим телом, по-кошачьи гибким, упругим – притом что в заключении он уже более десяти лет. Его грудь и руки – панорама татуировок: злющие драконы, извивающиеся хризантемы, развернувшиеся змеи. Некоторые считают его на редкость красивым; так оно и есть, но это шпанская красота голубого мачо. Неудивительно, что в детстве он работал актером и снялся в нескольких голливудских фильмах; позже, еще совсем молодым человеком, какое-то время был протеже Кеннета Ангера, режиссера-экспериментатора («Восход Скорпиона») и писателя («Голливудский Вавилон»); Ангер даже взял его на главную роль в незаконченном фильме «Люцифер поднимается».
Роберт Босолей, ему сейчас тридцать один год, – таинственная фигура в общине Чарльза Мэнсона; точнее (это так и не было прояснено во всех сообщениях о группе), в нем ключ к кровавым эскападам так называемой семьи Мэнсона, в том числе убийству Шарон Тейт, Ло Бьянко с женой и их друзей.
Все началось с убийства Гэри Хинмана, уже немолодого профессионального музыканта, который подружился с несколькими членами «семьи» и, к несчастью для себя, жил одиноко, на отшибе, в каньоне Топанго, округ Лос-Анджелес. Хинмана связали в его домике, несколько дней мучили (среди прочих надругательств, ему отрезали ухо) и в конце концов милосердно перерезали горло. Когда обнаружили тело Хинмана, раздутое, окруженное тучей жужжащих мух, полиция увидела на стене надпись кровью («Смерть свиньям»), и такие же надписи вскоре были найдены в домах мисс Тейт и супругов Бьянко.
Но за несколько дней до убийств Тейт и Бьянко Роберт Босолей был пойман в машине, принадлежавшей Хинману, арестован, помещен в тюрьму и обвинен в убийстве несчастного музыканта. Тогда-то Мэнсон и его дружки и подружки, чтобы отмазать Босолея, задумали серию убийств, подобных убийству Хинмана: раз Босолей изолирован во время этих убийств, как он может быть виновен в том зверстве? Так, похоже, рассуждала мэнсоновская кодла. Иначе говоря, Текс Уотсон и юные дамы – мокрушницы Сюзен Аткинс, Патриция Кренвинкел, Лесли Ван Хутен совершали свои сатанинские вылазки из преданности «Бобби» Босолею.
Р. Б. Странно. Босолей. Французское. Французская фамилия. Означает «Красивое солнце». Блядь. На этом курорте не много солнца увидишь. Слышишь туманные горны? Как паровозные гудки. Ноют, ноют. А летом хуже всего. Тут, наверно, летом больше тумана, чем зимой. Погода. Блядская. Я никогда не выйду. Послушай только. Ноют, ноют. Ты где сегодня побывал?
Т. К. Да здесь. Немного поговорил с Сирхапом.
Р. Б. (смеется). Сирхан Б. Сирхан. Я знавал его, когда меня держали в камере смертников. Больной. Ему здесь не место. Ему в Атаскадеро надо сидеть. Жвачки хочешь? Да, похоже, ты хорошо здесь освоился. Я видел тебя на дворе. Удивляюсь, как это надзиратели позволяют тебе гулять по двору одному. Пришьет кто-нибудь, смотри.
Т. К. Зачем?
Р. Б. А так просто. Но ты здесь часто бываешь, а? Мне ребята говорили.
Т. К. Раз пять или шесть, когда собирал материал.
Р.Б. Я тут только одного места не видел. Но хотел бы увидеть эту яблочно-зеленую комнатку. Когда мне пришили кинмановское дело и вынесли смертный приговор, долго держали потом – в камере смертников. Покуда суд не отменил приговор. Так что я интересовался зеленой комнаткой.
Т. К. На самом деле там скорее три комнаты.
Р. Б. Я думал, эта комнатка круглая, а посередине – вроде застекленного иглу. С окнами, чтобы свидетели снаружи увидели, как человек задыхается от этих персиковых духов.
Т. К. Да, это газовая камера. Но когда заключенного приводят, он из лифта входит прямо в комнату «содержания», примыкающую к комнате свидетелей. В комнате «содержания» две камеры на случай, если надо казнить двоих. Обычные камеры, вроде этой, и приговоренный проводит там последнюю ночь перед утренней казнью – читает, слушает радио, играет в карты с охраной. Но что интересно – я обнаружил третью комнату в этих маленьких апартаментах. Она за закрытой дверью, рядом с комнатой «содержания». Я просто открыл дверь и вошел, и охранники даже не подумали меня остановить. Более поразительной комнаты я никогда не видел. Знаешь, что в ней? Все, что осталось от казненных, все имущество, которое было при них в комнате «содержания». Книги, библии, вестерны в мягких обложках, романы Эрла Стенли Гарднера, Джеймс Бонд. Старые пожелтелые газеты. Некоторые – двадцатилетней давности. Незаконченные кроссворды. Недописанные письма. Фотографии возлюбленных. Выцветшие, ломкие снимки детей. Жалкое, печальное зрелище.
Р. Б. Ты видел когда-нибудь, как там газуют?
Т. К. Один раз. Но он устроил из этого веселье. Он был рад умереть, хотел, чтобы все кончилось; уселся в кресло так, словно пришел к дантисту снимать зубной камень. А в Канзасе видел, как двоих повесили.
Р. Б. Перри Смита? И, как его… Дика Хикока? Но, когда повиснут, думаю, они уже ничего не чувствуют.
Т. К. Так нам говорят. Но на виселице они продолжают жить – пятнадцать, двадцать минут. Бьются. Хватают воздух – тело ещё дерется за жизнь. Я не вынес этого, меня рвало.
Р. Б. Может, ты не такой хладнокровный, а? Выглядишь хладнокровным. Так что Сирхан – скулил, что его держат в режимном?
Т. К. Пожалуй. Ему одиноко. Хочет быть с другими заключенными. Влиться в общие ряды.
Р. Б. Счастья своего не знает. В общей его точно замочат.
Т. К. Почему?
Р. Б. Да потому же, почему сам замочил Кеннеди. Слава. Половина людей, которые убивают, – они хотят прославиться. Чтобы их фото были в газетах.
Т. К. Но ты не поэтому убил Гэри Хинмана.
Р. Б. (молчание).
Т. К. Вы с Мэнсоном хотели, чтобы Хинман дал вам денег и свою машину, и когда он отказался… Ну…
Р. Б. (молчание).
Т. К. Я вот подумал. Я знаю Сирхана и знал Роберта Кеннеди. Я знал Ли Харви Освальда и знал Джека Кеннеди. А ведь такое совпадение почти невероятно.
Р. Б. Освальда? Ты знал Освальда? Правда?
Т. К. Я встретил его в Москве, когда он сбежлл. Как-то вечером я обедал с приятелем, корреспондентом итальянской газеты, – он заехал за мной и спросил, не возражаю ли я, если мы сперва поговорим с молодым американцем-перебежчиком, неким Ли Харви Освальдом. Освальд жил в «Метрополе», старом, царских времен отеле, неподалеку от Красной площади. В «Метрополе» был большой мрачный вестибюль, полный теней и мертвых пальм. В сумраке, под мертвой пальмой, сидел Освальд. Худой, бледный, тонкогубый – вид голодающего. И с самого начала злой: скрипит зубами, глаза беспрестанно бегают. Ярился на всех: на американского посла, на русских, что не разрешают ему остаться в Москве. Мы разговаривали с ним полчаса, и мой итальянский приятель решил, что статьи он не стоит. Очередной параноидальный истерик – московские леса кишели такими. Я и не вспоминал о нем потом много лет. До покушения, когда его фотографию показали по телевидению.
Р. Б. Ты что же, выходит, единственный, кто знал их обоих – Освальда и Кеннеди?
Т. К. Нет. Была еще американка, Присцилла Джонсон. Она работала в московском бюро «Юнайтед пресс». Знала Кеннеди, а с Освальдом познакомилась, примерно тогда же, когда и я. Но скажу тебе кое-что еще, почти такое же занятное. О людях, которых убили твои друзья.
Р. Б. (молчание).
Т. К. Я их знал. По крайней мере, из тех пяти человек, кого убили в доме Тейт, я знал четверых. С Шарон Тейт я познакомился на Каннском фестивале. Джей Себринг раза два меня стриг. С Абигейл Фолджер и ее любовником Фриковским я однажды обедал в Сан-Франциско. Иначе говоря, знал я их по отдельности. И надо же, чтобы в тот вечер они собрались в одном доме, дожидаясь, когда нагрянут твои друзья. Ничего себе совпадение.
Р. Б. (закуривает, улыбается). Знаешь, что я скажу? Скажу, что знакомство с тобой не приносит удачи. Черт. Только послушай. Стонут, стонут. Я замерз. Тебе холодно?
Т. К. Что ж ты не наденешь рубашку?
Р. Б. (молчание).
Т. К. Странная штука с татуировками. Я беседовал с несколькими, сотнями людей, осужденных за убийство, – по большей части, за многократные убийства. И единственное, что я нашел в них общего, – наколки. Процентов восемьдесят из них были густо покрыты наколками. Ричард Спек. Йорк и Латам. Смит и Хикок.
Р. Б. Надену свитер.
Т. К. Если бы ты не сидел здесь, если бы мог жить, где захочешь, делать, что хочешь, – где бы ты жил и что делал бы?
Р. Б. Катался бы. На моей «хонде». По береговому шоссе – виражи, вода, волны, солнце. Из Сан-Франциско в Мендосино, через сосновые леса. Я бы спал с девушками. Играл бы музыку, оттягивался, покуривал замечательную траву из Акапулько, смотрел, как садится солнце. Подбрасывал плавник в костер. Девочки, гашиш, мотоцикл.
Т. К. Гашиш можно здесь добыть.
Р. Б. И всё остальное. Любой наркотик – за деньги. Тут люди на всем двигаются, кроме роликовых коньков.
Т. К. Ты так и жил, пока не арестовали? Катался, двигался? Работать когда-нибудь приходилось?
Р. Б. От случая к случаю. Играл на гитаре в барах.
Т. К. Насколько я понимаю, ты был ходок. Правитель целого сераля. Сколько детей ты наделал?
Р. Б. (молчание; но пожимает плечами, ухмыляется, курит).
Т. К. Удивляюсь, что тебе оставили гитару. В некоторых тюрьмах запрещают, потому что струну можно снять и использовать как оружие. Как удавку. Ты давно играешь?
Р. Б. Да, с детства. Я был из этих, знаешь, голливудских детишек. Снялся в двух фильмах. Но родители были против. Правильные люди. Да меня и не тянуло к актерству. Хотел только писать музыку, играть и петь.
Т. К. А как же твой фильм с Кеннетом Ангером «Люцифер поднимается»?
Р. Б. Да.
Т. К. Как ты ладил с Ангером?
Р. Б. Нормально.
Т. К. Почему тогда Ангер носит медальон на шее? На одной стороне твоя карточка, а на другой изображена лягушка и надпись: «Бобби Босолей, превращенный в лягушку Кеннетом Ангером». Так сказать, амулет в стиле вуду. Наложил на тебя проклятие за то, что, по слухам, ты его кинул. Удрал от него среди ночи на его машине… И еще что-то.
Р. Б: (сузив глаза). Это он тебе сказал?
Т. К. Нет, я с ним не знаком. Но мне говорили другие люди.
Р. Б. (берет гитару, настраивает, подыгрывает себе, поет). «Это песня моя, это песня моя, моя темная песня, моя темная песня…» Все хотят узнать, как я связался с Мэнсоном. Через музыку. Он тоже немного играет. Как-то ночью я катался с моими дамами. Заехали мы в придорожный кабак, в пивную. Возле него стояло много машин. Зашли, а там был Чарли со своими женщинами. Разговорились, поиграли вместе; на другой день Чарли зашел ко мне в фургон, и все – его люди и мои люди – решили гужеваться вместе. Братья и сестры. Семья.
Т. К. Ты относился к Мэнсону как к лидеру? Сразу ощутил его влияние?
Р. Б. Да что ты. У него были свои люди, меня – свои. Если кто на кого влиял, так это я на него.
Т. К. Да, он увлекся тобой. Так он утверждает. Кажется, такое действие ты оказываешь на многих людей – и мужчин, и женщин.
Р.Б. Что случается, то случается. И все это – хорошо.
Т. К. Ты считаешь, что убить невинных людей – тоже хорошо?
Р. Б. Кто сказал, что они невинные?
Т. К. Ладно, к этому мы вернемся. А пока скажи: какова твоя мораль? Как ты отличаешь хорошее от дурного?
Р. Б. Хорошее от дурного? Всё – хорошее. Раз случилось, значит, хорошее. Иначе бы не случилось. Так жизнь течет. Двигается. Я с ней двигаюсь. Я в ней не сомневаюсь.
Т. К. То есть и в убийстве не сомневаешься. Ты считаешь, это «хорошо, потому что случилось». Справедливо.
Р. Б. У меня своя справедливость. Понимаешь, я живу по своему закону. Я не уважаю законов этого общества. Потому что оно само не уважает своих законов. Я устанавливаю свои законы и по ним живу. У меня свое понятие о справедливости.
Т. К. И какое же у тебя понятие?
Р. Б. Я считаю, что происходит, то и получается. Что случается, то и выходит. Так жизнь течет. И я теку вместе с ней.
Т. К. Все это маловразумительно – во всяком случае, для меня. И я не считаю тебя глупым. Попробуем еще раз. По твоему мнению, это нормально, что Мэнсон в тот день послал Текса Уотсона и женщин, чтобы убить совершенно незнакомых и ни в чем не повинных людей…
Р. Б. Я же говорю: кто сказал, что неповинных? Они надували людей на покупке наркотиков. Шарон Тейт и ее компания. Они подбирали ребят на Стрипе[68], привозили домой и пороли. Снимали это на пленку. Спроси у полицейских – они нашли фильмы. Конечно, правду тебе не скажут.
Т. К. Правда в том, что Бьянко, Шарон Тейт и ее друзей убили, чтобы выручить тебя. Их смерть напрямую связана с убийством Гэри Хинмана.
Р. Б. Я тебя слышу. Я чую, откуда ветер дует.
Т. К. Копировали убийство Хинмана в доказательство того, что не ты его убивал. И таким образом думали вытащить тебя из тюрьмы.
Р. Б. Вытащить меня из тюрьмы… (Кивает, улыбается, вздыхает – польщен.) Ничего этого на суде не всплыло. Женщины на допросе пытались рассказать, как всё было на самом деле, но никто их слушать не хотел. Газеты и телевизор вдолбили людям, что мы затевали расовую войну. Злые негры ездят и расправляются с хорошими белыми людьми. А на самом деле… как ты сказал. В газетах нас называют «семьей». Только в этом они не соврали. Мы и были семьей. Мы были как мать и отец, брат, сестра, дочь, сын. Если член, нашей семьи был в опасности, мы этого человека не бросали. Вот, из любви к брату, брату, которого посадили по обвинению в убийстве, и получились эти убийства.
Т. К. И ты о6 этом не сожалеешь?
Р. Б. Нет. Если это сделали мои братья и сестры, значит, это хорошо. Всё в жизни хорошо. Она течет. Всё в ней хорошо. Всё – музыка.
Т. К. Когда ты ждал казни, если бы тебе пришлось потечь в газовую камеру и дохнуть этих персиков, это бы ты тоже одобрил?
Р. Б. Раз так всё получилось. Всё, что случается, – хорошо.
Т. К. Война. Голодающие дети. Боль. Жестокость. Слепота. Отчаяние. Равнодушие. Все – хорошо?
Р. Б. Что это ты на меня так смотришь?
Т. К. Так. Наблюдаю, как меняется твое лицо. Одна минута, легчайший поворот головы – и оно такое мальчишеское, невинное, обаятельное. А потом… ну, действительно, можно увидеть в тебе Люцифера с Сорок второй улицы. Ты видел «Ночь должна наступить»? Старый фильм с Робертом Монтгомери? Там проказливый, приятнейший, невинного вида молодой человек странствует по сельской Англии, чарует пожилых дам, а потом отрезает им головы и возит с собой в кожаной шляпной коробке.
Р. Б. А я тут с какого боку?
Т. К. Я подумал – если бы сделали римейк, перенесли историю в Америку, превратили героя Монтгомери в молодого шатуна с карими глазами и табачным голосом, ты был бы очень хорош в этой роли.
Р. Б. Хочешь сказать, что я психопат? Я не псих. Если нужно применить силу, я применю, но убивать – это не по мне.
Т.К. Тогда я, наверное, глухой. Ошибаюсь я, или ты мне минуту назад сказал, что неважно, какое зверство человек над человеком учинил, это всё равно хорошо – все хорошо?
Р. Б. (молчание).
Т. К. Скажи мне, Бобби, кем ты себя считаешь?
Р. Б. Заключенным.
Т. К. А кроме этого?
Р. Б. Человеком. Белым человеком. И стою за все, за что должен стоять белый.
Т. К. Да, один охранник сказал мне, что ты тут верховодишь Арийским братством.
Р. Б. (враждебно). Ты-то что знаешь о Братстве?
Т. К. Что это компания крутых белых мужиков. Общество несколько фашистского склада. Что оно родилось в Калифорнии и распространилось по всей американской тюремной системе, на север, на юг, на восток и на запад. Что тюремное начальство считает его опасным культом, опасным для порядка.
Р. Б. Человек должен защищать себя. Мы в меньшинстве. Ты не представляешь, как это туго. Мы все тут больше боимся друг друга, чем свиней. Ты каждую минуту должен быть начеку, если не хочешь, чтобы тебе сунули перо. У черных и мексиканцев свои банды. И у индейцев, или я должен сказать «коренных американцев» – так величают себя эти краснокожие: сдохнуть просто! Еще как туго. С расовым напрягом, с политикой, с дурью, картами и сексом. Черным только дай добраться до белых ребят. Хлебом не корми, дай засунуть свою толстую черную балду в тугую белую задницу.
Т. К. Ты думал когда-нибудь, что стал бы делать, если бы тебя освободили условно?
Р. Б. Я этому туннелю конца не вижу. Парня никогда не выпустят.
Т. К. Надеюсь, ты прав, и думаю, что прав. Но очень может быть, что тебя освободят условно. И может быть, раньше, чем тебе снится. Что тогда?
Р. Б. (щиплет струны). Я бы записал свою музыку. Чтобы ее передавали.
Т. К. Об этом же мечтал Перри Смит. И Чарли Мэнсон. Пожалуй, у вас общего не только татуировки.
Р. Б. Между нами, у Чарли с талантом не густо. (Берет аккорды.) «Это песня моя, моя темная песня, темная песня…» Первая гитара у меня появилась в одиннадцать лет: я нашел ее на чердаке у бабушки и сам научился играть. И с тех пор помешан на музыке. Бабушка была ласковая, а чердак ее был моим любимым местом. Я любил лежать там и слушать дождь. Прятался там, когда отец искал меня с ремнем. Черт. Ты слышишь? Стонет, стонет. С ума можно сойти.
Т. К. Послушай, Бобби. И подумай, прежде чем ответишь. Положим, ты освободился, и кто-то пришел к тебе – допустим, Чарли – и попросил тебя совершить акт насилия, убить человека. Ты пойдешь на это?
Р. Б. (закурив новую сигарету и выкурив ее до половины). Может быть. Смотря что там. Я совсем не хотел… ну… сделать плохо Гэри Хинману. Но сперва одно. Потом другое. Вот так и получилось.
Т. К. И это было хорошо.
Р. Б. Всё было хорошо.
6. Прекрасное дитя
(эссе, перевод В. Голышева)
Время: 28 апреля 1955 года.
Место: Часовня ритуального здания на углу Лексингтон-авеню и пятьдесят второй улицы в Нью-Йорке. Скамьи плотно заняты интересной публикой – по большей части знаменитостями из мира театра, кино и литературы. Они пришли отдать последний долг Констанции Коллиер, актрисе английского происхождения, умершей накануне в возрасте семидесяти пяти лет.
Мисс Коллиер родилась в 1880 году и, начав хористкой в мюзик-холле, стала одной из ведущих шекспировских актрис в Англии (и давнишней невестой сэра Макса Бирбома, хотя замуж за него так и не вышла, благодаря чему, возможно, и стала прототипом роковой и недоступной героини его романа «Зулейка Добсон»). Позже она переехала в Соединенные Штаты и преуспела на нью-йоркской сцене и в Голливуде. Последние десятилетия своей жизни она провела в Нью-Йорке, преподавая актерское мастерство по высшему разряду – обучались у нее, как правило, только профессионалы, уже ставшие звездами: постоянной ее ученицей была Кэтрин Хепбёрн; прошла ее школу и другая Хепбёрн – Одри, а также Вивьен Ли и, в последние месяцы перед ее смертью, неофитка, которую мисс Коллиер называла «моей трудной ученицей», – Мэрилин Монро.