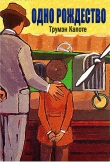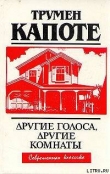Текст книги "Том 3. Музыка для хамелеонов. Рассказы"
Автор книги: Трумен Капоте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
Что ж, можно было начать с Ирвинга, поскольку Ирвинг был первым, с кем он познакомился в Нью-Йорке.
Так вот, этот Ирвинг был симпатичным еврейчиком, который хорошо умел играть в шахматы, а больше, пожалуй, ничего не умел; шелковистые волосы и по-детски розовые щеки делали его похожим на шестнадцатилетнего, хотя на самом деле ему было двадцать три, как и Уолтеру, а встретились они в баре, в Виллидже. Уолтер был одинок и очень скучал в Нью-Йорке, так что когда этот симпатичный малютка Ирвинг проявил дружелюбие, он решил, что неплохо бы и впрямь с ним подружиться – вдруг будет какая-нибудь польза. У Ирвинга была куча знакомых, все его очень любили, и он представил Уолтера всем своим приятелям.
Так появилась Маргарет – можно сказать, сердечная подружка Ирвинга. На вид ничего особенного (глаза навыкате, вечно следы помады на зубах, и одевалась как десятилетняя девочка), но была в ней какая-то лихорадочная оживленность, привлекшая Уолтера. Он никак не мог понять, зачем она вообще связалась с Ирвингом. «Зачем?» – спросил он на одной из долгих прогулок, которые они стали вместе совершать в Центральном парке.
– Ирвинг миленький, – сказала она, – и он искренне меня любит, поэтому кто знает: может, я даже за него выйду.
– Ну и глупо, – сказал он. – Из Ирвинга не выйдет нормального мужа, потому что по-настоящему он твой младший брат. Ирвинг всем младший брат.
Маргарет была слишком умна, чтобы не согласиться. Так что в один прекрасный день, когда Уолтер спросил, не займется ли она с ним любовью, она сказала: ладно, почему бы и нет. После этого они часто занимались любовью.
Через какое-то время Ирвинг прослышал об этом, и однажды в понедельник произошла тяжелая сцена – как ни странно, в том самом баре, где они познакомились. В тот вечер состоялся прием в честь Курта Кунхардта («Кунхардт адвертайзинг»), босса Маргарет, и она взяла с собой Уолтера, а потом они зашли в бар, чтобы выпить на сон грядущий. Кроме Ирвинга и пары девиц в слаксах, там никого не было. Ирвинг сидел у стойки, щеки его раскраснелись, глаза блестели: он смахивал на мальчонку, который играет во взрослого, – его короткие ножки не доставали до основания табурета, болтались, словно у куклы. Едва увидев его, Маргарет хотела развернуться и уйти прочь, но Уолтер не дал. Все равно Ирвинг их уже заметил: не сводя с них глаз, он отставил свое виски, медленно сполз с сиденья и зашагал к ним с печальной, нарочитой дерзостью.
– Ирвинг, дорогой… – начала Маргарет и остановилась, потому что он наградил ее ужасным взглядом.
Подбородок у него дрожал.
– Уходите отсюда, – сказал он, словно бросая вызов своим мучителям-старшеклассникам, – я вас ненавижу.
Затем, почти в замедленном темпе, размахнулся и, точно в руке у него был нож, ударил Уолтера в грудь; удар вышел совсем слабеньким, и, когда Уолтер ответил улыбкой, Ирвинг осел на музыкальный аппарат и завопил:
– Давай драться, ты, трус; ну давай, я убью тебя, Богом клянусь, убью.
Таким они его и оставили.
По дороге домой Маргарет тихо, устало заплакала.
– Он больше никогда не будет милым, – сказала она.
А Уолтер сказал:
– Не понимаю, о чем ты.
– Понимаешь, – отозвалась она почти шепотом, – прекрасно понимаешь; мы двое научили его ненавидеть. Мне кажется, раньше он совсем не знал, что это такое.
К тому времени Уолтер провел в Нью-Йорке четыре месяца. Его первоначальный капитал в пятьсот долларов сократился до пятнадцати, и в январе Маргарет дала ему взаймы, чтобы было чем заплатить за жилье в «Бреворте»: почему, спрашивала она, он не хочет подыскать себе местечко подешевле? Ну, сказал он, лучше, когда твой адрес производит впечатление. А как насчет работы? Когда он думает взяться за дело? Или вовсе не собирается? Нет-нет, сказал он, конечно, он давно об этом думает. Но он не хочет хвататься за любую мелочевку, какая подвернется; ему нужно что-нибудь солидное, с перспективами, что-нибудь, например, в рекламном бизнесе. Хорошо, сказала Маргарет, она попробует помочь; во всяком случае, поговорит со своим начальником, мистером Кунхардтом.
Так называемое ККА было небольшим агентством, однако, как бывает в этой сфере, очень хорошим, чуть ли не лучшим. Курт Кунхардт, основавший его в 1925 году, был необычным человеком с необычной репутацией: тощий, привередливый немец, он жил в элегантном черном доме на Саттон-плейс, где среди прочих любопытных вещей имелись три Пикассо, чудесная музыкальная шкатулка и маски с Южных островов, а присматривал за всем этим слуга, коренастый молодой датчанин. Иногда хозяин приглашал на обед кого-нибудь из своих работников, нынешнего фаворита, ибо он всегда кому-то покровительствовал; однако протеже выбирались им под влиянием каприза, и оттого их положение было весьма шатким: случалось, что на следующий день после приятного обеда со своим благодетелем человек уже просматривал в газете объявления по найму. На второй неделе службы в ККА Уолтер, принятый на работу в качестве ассистента Маргарет, получил от мистера Кунхардта приглашение на ланч, что, разумеется, страшно его обрадовало.
– Брюзга? – сказала Маргарет, поправляя ему галстук, смахивая пылинку с лацкана. – Ничего подобного. Просто… на Кунхардта приятно работать, если не слишком входишь в роль; а иначе вполне можно вылететь: его настроения меняются.
Уолтер знал, куда она клонит; нет уж, ей не удастся сбить его с толку; он хотел сказать об этом прямо, но не стал: еще не время. Однако он собирался порвать с ней, причем в самом ближайшем будущем. Работать на Маргарет было унизительно. Кроме того, дальше его явно будут только затирать. Но этого он никому не позволит, думал он, глядя в сине-зеленые глаза мистера Кунхардта, никому не удастся затереть Уолтера.
– Дурень ты, дурень, – сказала ему Маргарет. – Боже мой, да я уже сто раз видела, как К. К. заводит себе приятелей, но это ни черта не значит: однажды он крутил шуры-муры с телефонисткой: все, что ему нужно, – это заморочить кому-нибудь голову. Поверь моему слову, Уолтер, и не ищи коротких путей: важно только то, как ты делаешь свою работу.
Он ответил:
– А разве есть жалобы на этот счет? Я работаю не хуже, чем ожидалось.
– Смотря кто чего ожидал, – сказала она.
Вскоре после этого, в субботу, они договорились встретиться на Центральном вокзале. Им предстояло поехать в Хартфорд и провести уик-энд с его семьей, и ради этого она купила новое платье, новую шляпку и туфли. Но он не явился на место встречи. Вместо этого он отправился на Лонг-Айленд с мистером Кунхардтом и был там самым почтительным из трехсот гостей на первом балу Розы Купер. Роза Купер (урожденная Куперман) была наследницей «Купер дэйри продактс»: смуглая обаятельная толстушка с неестественным британским акцентом, приобретенным за четыре года в школе мисс Джуэтт. Она написала письмо подружке по имени Анна Стимсон, а та впоследствии показала его Уолтеру: «Встретила чудеснейшего человека. Танцевала с ним шесть раз, танцует чудесно. Он агент по рекламе и божественный красавец. У нас будет свидание – обед и театр!»
Маргарет ни разу не помянула о происшедшем, как и Уолтер. Словно ничего не случилось, только теперь, если к этому не обязывали дела, они никогда не говорили друг с другом, никогда не виделись. Как-то после полудня, зная, что ее нет дома, он зашел в ее квартиру, воспользовавшись ключом, который она дала ему давным-давно; там оставались его вещи, одежда, несколько книг, трубка; собирая все это, он наткнулся на свою фотографию, перечеркнутую красной помадой; на миг ему почудилось, что он видит сон. Еще он нашел единственный подарок, сделанный им Маргарет: флакончик «L'Heure Bleue», который был до сих пор не открыт. Он присел на кровать, чтобы выкурить сигарету, и погладил прохладную подушку, вспоминая, как лежала здесь ее голова, вспоминая и то, как они лежали в постели воскресными утрами и читали вслух комиксы, Барни Гугла, и Дика Трейси, и Джо Палуку.
Он посмотрел на радио, маленький зеленый ящичек; они всегда занимались любовью под музыку, какую угодно, джаз, симфоническую, церковные хоры: это было их условным сигналом, потому что стоило ей захотеть его, как она говорила: «А не послушать ли нам музыку, милый?» Впрочем, все это было кончено, и он ненавидел ее, вот что надо было теперь помнить. Он снова отыскал флакон с духами и сунул его в карман: Розе такой сюрприз может понравиться.
На следующий день, в конторе, он остановился у бачка с питьевой водой; там стояла и Маргарет. Она напряженно улыбнулась ему и сказала: «А я и не знала, что ты вор». Это было первым открытым проявлением враждебности между ними. И вдруг Уолтер осознал, что во всем агентстве у него нет ни единого союзника. Кунхардт? На него нельзя было рассчитывать. А все прочие были врагами: Джексон, Эйнстейн, Фишер, Портер, Кейпхарт, Риттер, Вилла, Бирд. Конечно, они были достаточно умны, чтобы не показывать этого явно – во всяком случае, пока он пользовался симпатией шефа.
Что ж, неприязнь была по крайней мере чем-то определенным, а вот неопределенности в отношениях он не мог выносить вовсе – наверно, потому, что его собственные чувства были такими расплывчатыми, неоднозначными: он никогда не знал твердо, нравится ли ему X или нет. Он нуждался в любви X, но сам был не способен любить. Он никогда не говорил с X искренне, никогда не сообщал ему больше пятидесяти процентов правды. С другой стороны, он не мог позволить X иметь те же слабости: Уолтеру обязательно начинало казаться, что рано или поздно его предадут. Он боялся X, боялся панически. Однажды в школе он списал из книги стихотворение и отдал его в школьный журнал; ему крепко запомнилась последняя строка: «Все наши дела продиктованы страхом». И когда учитель поймал его на плагиате, разве не показалось ему это страшной несправедливостью?
В начале лета он проводил почти все уик-энды у Розы Купер на Лонг-Айленде. Обычно в ее доме кишмя кишели студенты из Йейла и Принстона, что раздражало Уолтера, так как подобная молодежь еще в Хартфорде держалась от него на расстоянии и редко позволяла себе вступать с ним в споры. Что до самой Розы, то она была милашка; так говорили все, даже Уолтер.
Но милашки редко бывают серьезны, и Роза не воспринимала всерьез Уолтера. Он не слишком из-за этого огорчался. На этих уик-эндах у него появилось множество новых знакомых: Тейлор Овингтон, Джойс Рэндолф (восходящая звезда), И. Л. Макевой и еще с полдюжины людей, чьи имена набросили благородный флер на его записную книжку. Как-то вечером они с Анной Стимсон пошли на фильм с молодой Рэндолф и не успели занять свои места, как все на несколько рядов вокруг уже знали, что она – его Приятельница, что она слишком много пьет, что она аморальна и отнюдь не так хороша, как кажется на экране благодаря усилиям Голливуда. Анна сказала ему, что он – девица в штанах. «Ты мужчина только в одном отношении, лапка», – сказала она.
С Анной Стимсон его тоже познакомила Роза. Редактор журнала мод, она была едва ли не шести футов росту, носила черные костюмы, щеголяла моноклем, тросточкой и целыми фунтами звенящего мексиканского серебра. Она дважды побывала замужем – в частности, за Баком Стронгом, исполнителем ковбойских ролей в кино, – и имела сына, четырнадцатилетнего парня, которого пришлось отправить, как она выражалась, «в спецшколу для коррекции поведения».
– Ужасный был ребенок, – говорила она. – Ему нравилось стрелять по окнам из пистолета, швыряться чем попало, красть вещи из «Вулворта» – кошмарный экземпляр, вроде тебя.
Однако Анна была добра к нему и, когда ее настроение бывало менее подавленным, менее циничным, терпеливо выслушивала его излияния, его жалобы на то, что сделало его таким, какой он есть: всю жизнь неведомый обманщик подсовывал ему плохие карты. Приписывая Анне все пороки, кроме глупости, он избрал ее своим конфидентом; что бы он ей ни говорил, она никогда не выражала явного неодобрения. Он мог, например, сказать: «Я наврал Кунхардту про Маргарет с три короба; я понимаю, что это подло, но при случае она ответила бы мне тем же; и вообще я не хочу, чтобы он ее уволил, пусть лучше переведет в чикагское отделение».
Или: «Я был в книжном магазине и разговорился там с одним человеком: средних лет, вполне симпатичный, очень умный. Когда я вышел, он двинулся за мной, держась чуть поодаль; я пересек улицу, он тоже, я ускорил шаг, и он сделал то же самое. Кварталов через шесть-семь я наконец понял, что происходит, и был польщен, мне захотелось поиграть с ним. Тогда я остановился на углу и подозвал такси; затем повернулся и посмотрел на этого типа долгим, долгим взглядом, и он кинулся ко мне, сияя улыбкой. А я вскочил в такси, хлопнул дверцей, высунулся из окна и захохотал ему в лицо: вид у него был ужасный, прямо страсти Господни. Забыть не могу. Скажи мне, Анна, зачем я сделал такую безумную вещь? Я точно мстил всем, кто обидел меня, но в этом было и что-то еще». Он рассказывал Анне такие истории, шел домой и ложился спать; ему снились жутко непристойные сны.
Теперь его тревожила проблема любви, в особенности потому, что он не считал это проблемой. Однако он понимал, что нелюбим; это понимание билось в нем как добавочное сердце. Но рядом никого не было. Вот, скажем, Анна. Любила ли она его? «Ох, – говорила Анна, – да разве что-нибудь бывает таким, каким кажется? Сначала головастик, потом лягушка. Надеваешь кольцо – вроде золото, а на пальце оставляет зеленый след. Взять, к примеру, моего второго мужа – выглядел таким славным парнем, а оказался обычным подонком. Посмотри хотя бы на эту комнату: в камине и щепочки не сожжешь, а зеркала якобы добавляют простора, они врут. Нет, Уолтер, всё с виду одно, а по сути другое. Рождественские елки сделаны из пластика, а снег – мыльные стружки. В нас мается что-то, мы называем это душой, и, умирая, ты не умираешь совсем; ну и живые тоже не совсем живы. Ты хочешь знать, люблю ли я тебя? Не будь кретином, Уолтер, мы с тобой даже не друзья…»
Слушай вентилятор; кружит и кружит шепот: он сказал ты сказала они сказали мы сказали и снова и снова, быстро и медленно; это время в нескончаемом бормотании вспоминает само себя. Старый разбитый вентилятор тревожит тишину: вспомни третье августа, августа, августа!
Третьего августа, в пятницу, он увидел свое имя в колонке объявлений Уинчелла: «Авторитет рекламного бизнеса Уолтер Ранни и наследница молочной фермы Роза Купер советуют близким друзьям закупать рис». Уолтер сам дал этот текст знакомому знакомого Уинчелла. Он показал его мальчишке-официанту в кафе Уилана, за завтраком: «Это я, – пояснил он, я и есть этот парень», – и почувствовал, как при взгляде на лицо мальчишки у него улучшается пищеварение.
Тем утром он пришел в контору с опозданием; когда он шагал к своему месту, его слух ласкал легкий шелест, поднявшийся на столах машинисток. Однако никто ничего не сказал. Около одиннадцати, убив час на приятное ничегонеделание, Уолтер в приподнятом настроении спустился в аптеку на чашечку кофе. Там сидели трое его коллег, Джексон, Риттер и Бирд, и когда Уолтер вошел, Джексон подтолкнул Бирда, а Бирд Риттера, и все разом повернулись. «Авторитет, значит?» – сказал Джексон, рано облысевший розовый человечек, и двое других засмеялись. Сделав вид, что не замечает их, Уолтер юркнул в телефонную будку. «Скоты», – прошептал он, прикидываясь, будто набирает номер. И после долгого ожидания, когда они наконец ушли, позвонил по-настоящему:
– Роза, привет, не разбудил?
– Нет.
– Слушай, ты читала Уинчелла?
– Да.
Уолтер засмеялся:
– Как по-твоему, откуда он это взял?
Молчание.
– В чем дело? Я тебя не понимаю.
– Да ну?
– Ты что, с ума сошла?
– Нет, только разочарована.
– В чем?
Молчание. И затем:
– Это гадко с твоей стороны, Уолтер, просто гадко.
– Не пойму, о чем ты говоришь.
– Прощай, Уолтер.
Уходя, он заплатил кассиру за чашку кофе, которую забыл выпить. В здании была парикмахерская. Он сказал, что хочет побриться; нет – лучше стрижку; нет – маникюр; и внезапно, глядя в зеркало на свое лицо, почти такое же белое, как фартук парикмахера, понял, что не знает, чего ему хочется. Роза была права, он гадок. Он всегда охотно признавал свои недостатки, потому что после их признания они как бы переставали существовать. Он снова поднялся наверх и сел за свой стол, чувствуя себя так, словно внутри у него открылось кровотечение; ему очень хотелось поверить в Бога. По карнизу за окном вышагивал голубь. Некоторое время он смотрел на сияющие в солнечных лучах перья, наблюдал за шаткой степенностью его движений; потом, не успев осознать, что делает, взял со стола и бросил стеклянное пресс-папье; голубь спокойно взмыл вверх, пресс-папье пронеслось мимо, как гигантская капля; а вдруг, подумал он, услышав далекий вскрик, а вдруг оно попало в кого-нибудь, убило человека? Но ничего не произошло. Только треск пишущих машинок, стук в дверь: «Эй, Ранни, К. К. зовет».
– Весьма сожалею, – сказал мистер Кунхардт, поигрывая золотой ручкой. – Я напишу вам рекомендацию, Уолтер. Когда захотите.
И вот в лифте среди врагов, заполонивших все, зажавших Уолтера меж собой; там была и Маргарет с волосами, перевязанными голубой лентой; она посмотрела на него, и ее лицо было не таким, как другие, не равнодушным и пустым; на нем еще оставалась жалость. Но, глядя на Уолтера, она глядела и сквозь. Мне это снится; он не должен был позволять себе думать иначе; однако он держал под мышкой опровержение сну, большой конверт с личными бумагами, вынутыми из его стола. Когда лифт опустел в вестибюле, он понял, что ему необходимо поговорить с Маргарет, выпросить у нее прощение, найти защиту, но она быстро двигалась к выходу, теряясь в массе врагов; я люблю тебя, сказал он, нагоняя ее, люблю тебя, сказал он, не говоря ничего.
– Маргарет! Маргарет!
Она обернулась. Ее голубая лента была под цвет глаз, а их взгляд, устремленный на него снизу вверх, смягчился, стал почти дружеским. Или сочувственным.
– Прошу тебя, – сказал он. – Я подумал, может, нам выпить вместе, может, зайти к Бенни. Мы ведь любили это кафе, помнишь?
Она покачала головой.
– У меня встреча, и я уже опаздываю.
– Ох.
– Извини… я правда опаздываю, – сказала она и побежала. Он стоял, глядя, как она перебегает улицу, ее лента развевалась, блестя на угасающем летнем солнце. А потом исчезла.
Его однокомнатную квартирку в доме рядом с парком Грамерси надо было проветрить, убрать, но Уолтер, налив себе виски, послал все к черту и растянулся на кушетке. Что толку? Как ни работай, как ни старайся, все равно ничего не добьешься; всех кругом постоянно обманывают, а кого в этом винить? Но вот что странно: лежа здесь в сгущающихся сумерках и прихлебывая из стакана, он ощущал спокойствие, от которого давно уже отвык. Как тогда, когда завалил экзамен по алгебре и почувствовал такое облегчение, такую свободу: провал был чем-то ясным, определенным, а ясность вселяет в душу покой. Теперь он уедет из Нью-Йорка, отдохнет; у него есть несколько сот долларов, до осени хватит.
И, размышляя о том, куда двинется, он вдруг увидел, словно в голове его начал прокручиваться фильм, шелковые шапочки, вишневые и лимонные, и маленьких умнолицых людей в элегантных рубашках в горошек; закрыв глаза, он точно вновь превратился в пятилетнего, и было чудесно вспоминать крики зрителей, хот-доги, большой отцовский бинокль. Саратога! На его лицо легла тень сумерек. Он зажег лампу, налил еще виски, поставил на граммофон пластинку с румбой и стал танцевать, подошвы его ботинок шептали на ковре; он часто думал, что немного тренировки – и из него выйдет профессионал.
Как раз когда смолкла музыка, зазвонил телефон. Он замер на месте, почему-то боясь ответить, и свет лампы, мебель, все прочее вдруг стало безжизненным. Он уже надеялся, что звонки прекратились, но тут телефон начал снова; как будто даже громче, настойчивей. Он споткнулся о скамеечку для ног, поднял трубку, уронил, подобрал ее и сказал: «Да?»
Звонок издалека: из какого-то города в Пенсильвании, он не расслышал точно. Хаотические трески, а потом к нему пробился голос, сухой, бесполый и совершенно не похожий на все слышанные прежде:
– Здравствуй, Уолтер.
– Кто это?
Ни слова в ответ, только ровное, сильное дыхание; связь была такой хорошей, что казалось, будто тот человек стоит рядом с ним, прижав губы к его уху.
– Я не люблю шуток; кто это говорит?
– Да ты ведь знаешь меня, Уолтер. Давно знаешь.
Щелчок, и ничего.
Поезд прибыл в Саратогу ночью; шел дождь. Он проспал большую часть дороги, потея во влажной духоте вагона, и ему снился древний замок, где жили только старые индюки, и сон, где были его отец, Курт Кунхардт, кто-то безликий, Маргарет и Роза, Анна Стимсон и странная толстая женщина с алмазными глазами. Он стоял на длинной безлюдной улице; кроме медленно приближающейся к нему вереницы черных автомобилей, похожей на траурную процессию, вокруг не было признаков жизни. И тем не менее он словно видел свою наготу из каждого окна и отчаянно замахал первому лимузину; тот остановился, и водитель, его отец, гостеприимно распахнул дверцу; папочка, закричал он, рванувшись вперед, и огромная дверь захлопнулась, отхватив ему пальцы, а отец с гулким, утробным смехом высунулся из окна и швырнул ему огромный венок из роз. Во второй машине была Маргарет, в третьей женщина с алмазными глазами (может быть, миссис Кейси, его бывшая учительница по алгебре?), в четвертой мистер Кунхардт с новым протеже, существом без лица. Каждая дверь открывалась, каждая хлопала, все смеялись, все бросали розы. Одна за другой машины ускользали прочь по тихой улице. И с безумным воплем Уолтер упал под горой роз; шипы ранили его, а внезапный дождь, серый ливень, сбивал лепестки и размывал по листьям бледную кровь.
По неподвижному взгляду женщины, сидящей напротив, он сразу понял, что кричал вслух. Он робко улыбнулся ей, и она отвела взор, как ему почудилось, с некоторым смущением. Это была калека с огромным башмаком на левой ноге. Позже, на саратогском вокзале, он помог ей с багажом, и они вместе взяли такси; они не разговаривали; каждый сидел в своем углу, глядя на дождь, на расплывчатые огни. Несколько часов назад, в Нью-Йорке, он забрал из банка все свои сбережения и запер квартиру, никому ничего не сказав; а здесь у него не было ни единого знакомого; ему приятно было думать об этом.
В гостинице не нашлось мест; вдобавок к приехавшим на скачки, объяснил ему дежурный, у них собрались на конференцию врачи; нет, извините, он не знает, где найти комнату. Может быть, завтра.
Тогда Уолтер пошел в бар. Раз ему предстояло провести ночь на ногах, то вполне можно было напиться. В баре, очень большом, было очень жарко и шумно, он пестрел гротесками летнего сезона: обрюзглыми дамами в чернобурках, и низкорослыми жокеями, и бледными громкоголосыми мужчинами в клетчатой одежде фантастической расцветки. Однако после второй порции шум словно отодвинулся куда-то далеко. Затем, оглядевшись, он увидел калеку. Она сидела за столиком одна и чинно потягивала мятный ликер. Они обменялись улыбками. Поднявшись, Уолтер пересел к ней.
– Мы уже как старые знакомые, – сказала она, когда он устроился рядом. – На скачки приехали?
– Нет, – сказал он, – просто отдохнуть. А вы?
Она поджала губы:
– Вы, наверно, заметили, что у меня больная нога; ох, пожалуйста, не прикидывайтесь; это все замечают. Ну вот, – сказала она, мешая в стакане соломинкой, – мой врач собирается читать доклад обо мне и моей ноге как редком случае. А я ужасно боюсь. То есть мне ведь придется показывать ногу.
Уолтер выразил сочувствие, а она ответила, ладно, не стоит ее жалеть; в конце концов, благодаря этому она получила маленький отпуск, разве не так?
– Я уже шесть лет не выбиралась из города. Шесть лет прошло с тех пор, как провела неделю в гостинице на Медвежьей горе.
У нее были красные щеки в крапинках, а глаза цвета лаванды; слишком близко посаженные, они смотрели пристально, точно она вовсе не умела мигать. На ее безымянном пальце был золотой ободок; притворство, конечно; это никого не могло обмануть.
– Я служанка, – сказала она, отвечая на вопрос. – И ничего тут нет плохого: честная работа, мне нравится. У людей, которые меня наняли, очень смышленый сынишка, Ронни. Я для него лучше, чем мать, он и любит меня больше: сам так говорит. Та-то все время пьяная.
Тоскливо было об этом слушать, но Уолтер, вдруг испугавшись одиночества, остался и пил и говорил так, как прежде говорил с Анной Стимсон. Ш-ш-ш! – сказала она раз, когда его голос взмыл вверх и люди в баре стали оборачиваться. Уолтер сказал, пошли они к черту, ему плевать; он чувствовал себя так, словно его мозг был сделан из стекла, а все выпитое им виски превратилось в молот; в его голове точно звенели осколки, сдвигая фокус, искажая формы; калека, например, казалась не одной личностью, а несколькими: Ирвингом, его матерью, человеком по имени Бонапарт, Маргарет, всеми ими разом и еще другими; он все больше и больше понимал, что жизнь есть круг и ни одно мгновенье не может быть изолировано, забыто.
Бар закрывался. При расчете им стало неловко, и, ожидая сдачи, оба молчали. Глядя на него своими немигающими лавандовыми глазами, она, похоже, хранила полную невозмутимость, но в душе ее, он видел, происходило некое легкое волнение. Когда официант вернулся, они поделили сдачу, и она сказала: «Если хотите, можете подняться ко мне в номер. – И залилась отчаянным румянцем. – То есть вы говорили, что вам негде спать…» Уолтер потянулся и взял ее за руку; ее ответная улыбка была трогательно робкой.
Когда она вышла из ванной, на ней были только поношенный халат телесного цвета да чудовищный черный ботинок; от нее разило дешевыми духами. Только тут он понял, что не сможет пройти через это. Его переполняла жалость к себе; даже Анна Стимсон никогда не простила бы ему такого. «Не смотри, – сказала она, голос ее дрожал. – Мне всегда трудно с теми, кто видел мою ногу».
Он отвернулся к окну, где навязчиво шелестели под дождем листья вяза; мигнула белая молния, слишком далекая, чтобы услышать гром. «Ну все», – сказала она. Уолтер не двинулся с места.
– Ну все, – повторила она с тревогой. – Тушить свет? Я имею в виду, может, ты хочешь приготовиться… в темноте.
Он подошел к кровати и, склонившись, поцеловал ее в щеку.
– Ты так добра, но…
Вдруг зазвонил телефон. Она озадаченно посмотрела на него поверх трубки.
– Господи боже, – сказала она, прикрыв микрофон ладонью, – это издалека! Честное слово, что-то насчет Ронни! Наверное, он заболел или… – алло!.. что? Ранни? Ой, нет. Вы набрали неправильный…
– Постой, – сказал Уолтер, отбирая трубку. – Это я. Уолтер Ранни слушает.
– Здравствуй, Уолтер.
Этот голос, ровный, бесполый и далекий, проник прямо ему под ложечку. Комната словно закачалась, пошла рябью. На его верхней губе выступила полоска пота.
– Кто это? – сказал он так медленно, что слова плохо вязались друг с другом.
– Ты знаешь меня, Уолтер. Ты давно меня знаешь. – И тишина; на другом конце повесили трубку.
– Надо же, – сказала женщина, – как, по-твоему, они узнали, что ты у меня в номере; то есть… что, плохие новости? У тебя вид…
Уолтер упал на нее, прижимая ее к себе, притиснув свою мокрую щеку к ее.
– Обними меня, – сказал он, обнаружив, что еще может плакать, – крепче, пожалуйста.
– Бедный мальчик, – сказала она, похлопывая его по спине. – Мой бедный малютка; мы ужасно одиноки в этом мире, правда? – И скоро он заснул у нее в объятиях.
Но с тех пор он не спал, не мог спать и теперь, даже под убаюкивающий напев вентилятора; в его вращении он различал стук колес: из Саратоги в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Новый Орлеан. А Новый Орлеан он выбрал без особенной причины, только потому, что это был далекий город, незнакомый. Четыре вращающиеся лопасти, колеса и голоса, снова и снова; и сейчас он понял уже окончательно, что из этих зловещих сетей не вырваться, выхода нет и не будет.
За стеной в трубах прошумела вода, шаги послышались сверху, звякнули ключи в вестибюле, где-то далеко забубнил диктор, в соседнем номере девочка сказала: почему? Почему? ПОЧЕМУ? Но в его комнате висела тишина. На свету, падающем из окошка над дверью, его ноги отливали шлифованным гранитом; ногти на них блестели, как десять маленьких зеленоватых зеркалец. Сев, он отер пот полотенцем; теперь жара пугала его больше всего остального, ибо делала осязаемой его беспомощность. Он швырнул полотенце через всю комнату, и оно повисло на абажуре, покачиваясь. И в этот миг зазвонил телефон. Он звонил и звонил – так громко, что было слышно, наверно, по всей гостинице. Скоро ему забарабанит в дверь целая толпа. И он уткнулся лицом в подушку, закрыл уши руками и подумал: не думай ни о чем, думай о ветре.
ЗЛОЙ ДУХ
(рассказ, перевод Р. Облонской)
Стук собственных каблучков по мраморному полу в холле навел ее на мысль о кубиках льда, позвякивающих в стакане, и о цветах, о тех осенних хризантемах в вазе у входа, которые, едва их тронешь, рассыплются прахом, студеной пылью; а ведь в доме тепло, даже слишком, и все же это холодный дом (Сильвия вздрогнула), холодный, как эта снежная пустыня – надутая физиономия секретарши, мисс Моцарт, она вся в белом, точно сиделка. А может, она и вправду сиделка, тогда все сразу стало бы на место. Вы сумасшедший, мистер Реверкомб, а она за вами присматривает. Но нет, едва ли… В эту минуту дворецкий подал ей шарф. Его красота тронула ее – стройный, такой обходительный негр, в веснушках, а глаза красноватые, бездумные. Когда он отворял дверь, появилась мисс Моцарт, ее накрахмаленный халат сухо прошелестел в прихожей.
– Надеюсь, мы вас видим не в последний раз, – сказала она и вручила Сильвии запечатанный конверт. – Мистер Реверкомб крайне вам признателен.
На дворе синими хлопьями опускались сумерки; по ноябрьским улицам Сильвия дошла до пустынного безлюдного конца Пятой авеню, и тут ей подумалось, что можно ведь пойти домой через парк – это почти вызов Генри и Эстелле, с их мудрыми советами, как вести себя в таком большом городе, вечно они ей твердят: Сильвия, ты не представляешь, как опасно ходить через парк вечером, вспомни, что случилось с Мертл Кейлишер. И еще они говорят – это тебе не Истон, милочка… Говорят, говорят… Господи, до чего надоело. И однако, если не считать машинисток, с которыми она вместе работает в фирме, торгующей нижним бельем, кого она еще знает в Нью-Йорке? А, все бы ничего, если б только не жить с ними под одной крышей, если б только хватило денег снять где-нибудь комнату; но там, в этой тесной, ситцевой квартирке, она подчас, кажется, готова задушить их обоих. И зачем только она приехала в Нью-Йорк? Но каков бы ни был повод, не все ли равно, теперь не вспомнишь, а уехала она из Истона, прежде всего чтобы избавиться от Генри и Эстеллы, вернее, от их двойников, правда. Эстелла тоже родом из Истона, городка севернее Цинциннати. Они с Сильвией вместе росли. Самое ужасное – это как Генри и Эстелла ведут себя друг с другом, просто смотреть тошно. Эдакое жеманство, эдакие муси-пуси, и всё в доме окрестили на свой лад: телефон – тилли-бом, тахта – наша Нелл, кровать – Медведица, да-да, а как вам понравятся эти полотенца и подушки – мальчики и девочки? Господи, да от одного этого можно спятить.