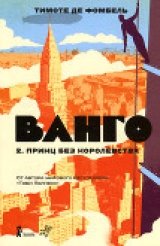
Текст книги "Принц без королевства"
Автор книги: Тимоте де Фомбель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
26
Столица тишины
Париж, 20 декабря 1942 г.
Пробило девять утра, но было темно, как ночью. Вот уже два года башенные часы Парижа – в соответствии с берлинским временем – показывали на два часа меньше.
Двое мужчин шли по Елисейским Полям. Первого звали Огюст Авиньон. На шее у него был черный шерстяной шарф, на голове – шляпа, надвинутая до ушей, чтобы защитить их от колючего холода. За ним шел молодой человек, прижимая к груди тяжелый портфель. Авиньон говорил беспрестанно, отдавая короткие распоряжения, похоже, лишь ради того, чтобы как можно чаще слышать ответ молодого помощника:
– Да, комиссар.
Авиньон был комиссаром всего девять месяцев и еще не привык к новому званию.
– Его действительно зовут Макс Грюнд?
– Да, комиссар.
– Выясните его должность.
– Да, комиссар.
– Я всегда обращался к нему просто «месье». И теперь выгляжу как дурак.
– Да, комиссар.
– Что?!
– Простите, комиссар. Немцы каждый день открывают новые канцелярии. Мы уже вконец запутались.
Уличные фонари не горели. Город тонул во мраке. Им встретились мужчины, с трудом толкавшие тяжелую тачку с дровами.
– Еще далеко?
– Сто метров, комиссар.
– Вам стоит послушать, как я с ним разговариваю. Дело пахнет жареным.
– Понимаю вас, комиссар.
– Значит, отправляетесь в отпуск, Муше?
– Да, до Рождества.
– Чем займетесь?
– Жена хочет навестить родных в Ницце.
– Когда начинается ваш отпуск, Муше?
– Со вчерашнего дня.
– Прекрасно.
Авиньон слушал себя, и ему казалось, что он узнает интонации великого Булара. Он подражал ему изо всех сил, пытаясь вырасти в собственных глазах: демонстрировал значительность, суровость и великодушие больше, чем это было ему свойственно. И, как правило, попадал впросак.
– Передайте привет вашей жене. Моника, кажется?
– Нет, Элиза.
– Лиза, ну да, разумеется.
– Элиза, комиссар.
– Не придирайтесь, Муше. И веселого Рождества вашим детям.
– Да, комиссар.
У Муше не было детей. Авиньон выбрал его помощником, поскольку тот был молод и никогда не видел прежнего комиссара, а значит, в его глазах Авиньон не был обречен выглядеть бледной копией Булара.
– Это здесь, – сказал Муше.
– Что бы там ни говорили, у них губа не дура, – заметил Авиньон.
Они остановились перед чугунными воротами. С балкона красивого особняка в глубине двора свешивался флаг со свастикой. Франция проиграла войну, и Германия оккупировала все, чем славилась страна.
Они предъявили удостоверения.
– Комиссар Авиньон к Максу Грюнду.
Полицейские пересекли двор, вошли в вестибюль и попросили секретаршу доложить о них. Она пригласила их сесть и пошла по лестнице наверх. В здании стояло приятное тепло. Двери непрерывно хлопали, по коридорам сновали военные с папками в руках. Какой-то солдат заменял витражную секцию в двери: гестапо только недавно реквизировало это великолепное здание. Муше присел на банкетку. Авиньон продолжал стоять. Заметив прислоненную к стене и закрытую тканью картину, он подошел к ней и откинул край материи.
На холсте был изображен мужчина, стоящий посреди гостиной. Он смотрел на карманные часы, у его ног лежала львиная шкура.
– Вам нравится?
На лестничной площадке возник Макс Грюнд. Муше вскочил с банкетки. Авиньон, не отрывая взгляда от картины, спросил:
– Это вы на портрете?
Грюнд не ответил. Он сделал Авиньону знак следовать за ним.
– Подождите меня здесь, Муше, – пробормотал Авиньон, доставая два документа из кожаного портфеля.
– Но у меня же еще протоколы. И другие фотографии…
– Ладно, идемте.
Муше заторопился. Пока они поднимались по лестнице, Грюнд орал на грузчика, который толкался около картины. Муше отлично понимал немецкий; Макс Грюнд требовал убрать мужчину с часами: «Избавьте меня раз и навсегда от этого еврея!» Наверное, его не впервые путали с бывшим владельцем особняка.
Муше и Авиньон вошли в кабинет.
– Какое у вас дело? – спросил Грюнд. – Я очень занят.
Он сел за письменный стол, но им сесть не предложил. Секретарша, которая встречала их внизу, теперь сидела за пишущей машинкой у двери. Муше внимательно разглядывал комнату. Видимо, совсем недавно она была спальней: на стене еще виднелись остатки бархата и дерева от изголовья кровати. Три высоких окна впускали много света. Балкон выходил во двор.
Авиньон подошел к столу и положил на него две фотографии.
– Арман Жавар и Поль Серрини.
Грюнд закурил. Стоило произнести слово, как пишущая машинка начинала стучать.
– И что? – спросил Грюнд.
– Вы их знаете?
С первых дней службы в гестапо на берегу Боденского озера Макс Грюнд демонстрировал отличную память и организаторский талант.
Именно благодаря им он за десять лет прошел все ступени карьерной лестницы и несколько месяцев назад был назначен на высокий пост в Париже. Французский он выучил за четыре недели.
– Я могу даже назвать вам даты их рождения, – сказал Грюнд. – Жавар родился 15 сентября 1908 года…
– Это ваши люди?
Грюнд покачал головой и показал на портрет маленького усатого брюнета с безупречным пробором.
– Его.
– Так что мне с ними делать? – спросил Авиньон, который сразу узнал Адольфа Гитлера.
– Вы оставите их в покое.
– Они пытались ограбить банк на улице Помп.
Муше достал из портфеля протокол.
– Вы оставите их в покое, – повторил Грюнд.
Авиньон притворно улыбнулся. С самого начала оккупации он ежедневно оказывался в таком положении. Половина уголовников Парижа пользовалась покровительством немцев. А в пятнадцати минутах ходу отсюда, на улице Лористон, обитала целая банда, безнаказанно орудовавшая по всему городу. Но Авиньон был связан по рукам и ногам.
– Еще что-нибудь? – спросил Грюнд.
– Нет. Благодарю вас. Пойдемте, Муше.
Они направились к двери.
– Подождите, – приказал Грюнд.
Секретарша печатала каждое сказанное слово, и это очень нервировало Авиньона.
– Вы получили от меня пригласительный билет?
– Нет, я…
– Господин комиссар, – перебил его Муше, – господин Грюнд имеет в виду приглашение на Новый год…
– Я не знаю, о чем речь, – скривившись, ответил Авиньон.
Пишущая машинка снова застрекотала.
– Я послал вам в префектуру приглашение, – сказал Грюнд. – Тридцать первого декабря состоится ужин в дружеском кругу. Будут те французы, которых я собираюсь поблагодарить. Хочу показать, как плодотворно сотрудничают два наших народа.
Авиньон вернулся к столу.
– Господин Грюнд, буду с вами откровенен. Я совсем недавно стал комиссаром. И мне неловко перед префектом полиции, а также господами Бриноном и Буске[28]28
Фернан де Бринон и Рене Буске – высокопоставленные деятели французского правительства, сотрудничавшие с нацистской Германией.
[Закрыть]. Я предпочту, если вы пригласите комиссара Давида; уверен, он будет рад.
– Тем не менее приглашены вы, комиссар, а не кто-то другой. До свидания. Я на вас рассчитываю.
Когда они вышли на улицу, Авиньон повернулся к Муше.
– Вы меня сейчас чуть не погубили!
– Да, комиссар.
– Я просил вас забыть об этом приглашении.
Он говорил сквозь зубы.
– Если будете продолжать в том же духе, я переведу вас охранником в Дранси[29]29
Дранси – нацистский концентрационный лагерь и транзитный пункт для отправки в лагеря смерти, существовавший в 1941–1944 годах в пригороде Парижа.
[Закрыть].
– Да, комиссар.
– Вот что, Муше: вы сейчас быстро всё уладите. Найдите мне список приглашенных. Я не хочу прослыть коллаборационистом[30]30
Коллаборационисты – люди, сотрудничавшие с оккупационными властями в странах, захваченных Германией в период Второй мировой войны.
[Закрыть]. Я делаю свою работу, как могу. Война есть война.
– Но у меня поезд через час, господин комиссар.
– Никаких поездов. Вы никуда не едете. Скажите жене, что сами виноваты.
– Но, господин комиссар…
– Забудьте вы эти довоенные радости! С ними покончено!
– Мне надо поехать на вокзал, предупредить жену. Все наши пропуска у меня.
– Ладно, жду вас в полдень на набережной Орфевр. Я вас предупредил, Муше!
– Да, господин комиссар. Я мигом.
Муше остановился посреди тротуара. Утро давно наступило, однако вокруг по-прежнему стояла необычайная тишина. Ее нарушали лишь удалявшиеся шаги комиссара.
Тишина в городе воцарилась с лета 1940 года. От редких проезжавших машин по улицам долго металось эхо. Некоторые парижане вспомнили о существовании лошадей, и теперь эти клячи таскали повозки с дровами и другой поклажей, распространяя по городу запахи деревни.
Муше пересек проспект, спустился в метро и направился к платформе, с которой поезда шли в сторону Венсенского леса. На перроне рядом с ним стоял мужчина и читал толстую книгу, обернутую в газету. Они вместе вошли в вагон и сели на одну скамью.
– Я уже никуда не еду, – сказал Муше.
– Почему?
Мужчина держал на коленях раскрытую книгу.
– Потом объясню. Но кто-то должен отвезти чемодан.
– Мы встретимся с остальными на вокзале. В буфете.
На следующей остановке Муше пересел в другой вагон.
Он сошел на станции «Лионский вокзал». В буфете его ждали трое – молодая женщина и двое мужчин. Все четверо обнялись и расцеловались, словно близкие родственники.
Им принесли черную жидкость, отдаленно похожую на кофе. Муше сразу же расплатился. Вошел мужчина с книгой и сел за соседний столик. Он незаметно поглядывал на входную дверь и слушал их разговор.
– Я никуда не еду, – сказал Муше. – Я нужен Авиньону.
– А что Грюнд?
– Я был у него сегодня утром. Все в точности совпадает с планом. Даже число ступенек на лестнице. В кабинете есть балкон. Мари знает свое дело.
Они повернулись к молодой женщине, которая пила воду из стакана.
– Как поступим с чемоданом?
– Я попробую освободиться двадцать четвертого числа, – сказал Муше.
– Это будет слишком поздно.
Снаружи, прямо напротив них, солдаты в зеленой форме изучали расписание поездов.
– Я должен отвезти его сам. У меня есть удостоверение сотрудника Министерства внутренних дел. Это надежнее.
– Я могу поехать туда с обычным пропуском, – предложил один из «родственников».
– Нет, – тихо сказал мужчина с книгой, даже не глядя на них.
Сидя в стороне, он незаметно участвовал в собрании.
– Мы не будем рисковать, – продолжал он. – Сезар на этом настаивал. Подождем до двадцать четвертого.
Он встал и вышел. Через минуту вышли двое других с чемоданом.
Муше остался сидеть рядом с Мари. Неподалеку от них две женщины обнимались, прощаясь друг с другом.
– Откуда ты так хорошо знаешь все кабинеты у Грюнда? – тихо спросил Муше.
– Я помню людей, которые жили там раньше, – сказала Мари.
Муше пододвинул к ней газету.
– Здесь сообщение для Сезара.
Мари подцепила мизинцем перышко в стакане. Кодовым именем «Сезар» звали шефа их подпольной организации. Никто не знал его в лицо.
– Будут и другие сообщения, – добавил Муше. – Встреча завтра в шесть часов. Станция «Одеон», на перроне.
– Может, лучше наверху?
– Тогда перед киоском, и зайдем в кинотеатр.
– А документы, которые я у вас просила?
– Они тоже будут завтра, – сказал Муше.
Мари осталась одна. Немецкие солдаты, изучавшие расписание, улыбались ей через стекло. Она снова уставилась в стакан. Мари ушла с вокзала в одиннадцать часов.
Через час она бежала по крышам вдоль парка Пале-Рояль[31]31
Название «Пале-Рояль» носят площадь, дворец и парк в центре Парижа.
[Закрыть]. Первый конверт она просунула в щель между ставнями окна, выходившего на унылую улицу с облетевшими деревьями. Соседи таинственного Сезара держали на балконе двух кур. Одна из них всполошилась и захлопала крыльями. Но когда кто-то из соседей вышел на балкон, Мари уже бежала дальше по крышам улицы Монпансье.
Она взяла себе имя Мари в сентябре 1940 года. До этого она была изредка Эмили, а остальную часть жизни – Кротихой. С первого же дня, как прозвучало слово «Сопротивление»[32]32
Сопротивление – организованное движение во Франции, которое оказывало противодействие нацистской оккупации.
[Закрыть], Мари была связной в подпольной группе «Паради».
Ее так мало заботила жизнь родителей, а отношения с ними были такими напряженными, что она очень удивилась, когда в конце весны отец просунул под дверь ее комнаты два желтых треугольника с черной каймой, завернутые в шелковистую бумагу. Она долго смотрела на них, складывала разными способами – и ромбом, и в виде лодочки с парусом, – а потом убрала подальше. На следующий день Кротиха увидела на улице женщину, которая вела за руку дочку. У обеих слева на груди виднелись два желтых треугольника, аккуратно нашитые в форме шестиконечной звезды.
Она долго шла следом, пока женщина не заметила ее и не прогнала.
– Мадемуазель, мы не звери в зоопарке, хватит на нас смотреть.
Но Кротиха продолжала притворяться, что ни о чем не подозревает. Например, о запрете гулять в парках, ходить в музеи, в кафе… Ей даже нравилось подвергать себя риску: впервые в жизни она стала спускаться в метро – лишь для того, чтобы сесть в запретный для евреев первый вагон. Двенадцатого июня она случайно увидела отца, который шел со своим шофером по авеню Монтень. Был ясный, солнечный день. Шофер – его звали Пьер – нес вешалки с четырьмя новыми отцовскими костюмами. Они возвращались от портного. На белом льняном пиджаке Фердинанда Атласа была нашита желтая звезда. Чтобы не встретиться с ним взглядом, Кротиха перешла на другую сторону улицы.
Три дня спустя раздался телефонный звонок.
Кротиха в этот момент была на кухне и сняла трубку.
– Это Мари-Антуанетта.
Голос принадлежал пожилой женщине.
– Кто? – спросила Кротиха.
– Это я, госпожа Булар. Мой сын сейчас рядом. Он хочет с вами поговорить.
– Алло?
Булар схватил трубку.
– Мадемуазель, сделайте то, что я вам скажу. На следующей неделе уезжайте из дома. Должно случиться нечто очень плохое.
– Что вы можете об этом знать? Вы давно не у дел.
Год назад Кротиха повздорила с Буларом, когда его уволили из полицейской префектуры. Присутствие Булара среди начальства было огромной удачей для подпольщиков из группы «Паради». Он был гораздо полезнее внутри системы, чем вне ее.
Но с самого начала оккупации комиссар делал все возможное, чтобы его выставили за дверь: писал оскорбительные письма министру и регулярно не исполнял приказы. Булар ушел как герой: хлопнув дверью, он подверг себя смертельному риску. Он даже уехал из Парижа в свою деревню в Авейроне. Кротиха ему этого не простила.
Она уже собиралась положить трубку.
– Уезжайте хотя бы на несколько дней, вместе с родителями! – кричал Булар на другом конце провода.
– С чего это вдруг вы за меня так волнуетесь? Если бы я знала, что вы нас подведете, я бы не привезла вашу маму обратно. Она бы осталась в Шотландии.
Кротиха знала, что Булар очень благодарен ей за то, что несколько лет назад она придумала, как уберечь его мать от опасности.
– Я сделал все возможное, чтобы вам помочь, – возразил Булар.
– Не надо было уходить с работы.
– Не притворяйтесь дурочкой. В этом не было никакого смысла. Я освобождал для вас трех человек, а на следующий день по приказу префекта сажал пятьдесят.
С самого начала войны Булар проявил настоящую отвагу. В июне 1940 года, за два дня до прихода немцев, он пытался вывезти все картотеки, в которых указывалась этническая принадлежность французских граждан. Вместе с подчиненными он целыми днями носил ящики из префектуры на две баржи. Но в пути баржи были арестованы.
Кротиха слышала, как госпожа Булар вырывает трубку из рук сына.
– Алло! Огюст ужасно упрям, я с вами согласна. Но сегодня, моя дорогая, вы должны его послушать. Ваш адрес есть в списке.
– В каком списке?
– Они снова взялись за аресты евреев.
– А мне-то что? – ответила Кротиха.
И положила трубку.
Но в тот же вечер она смирила гордость и рассказала новость родителям.
Сначала они улыбались. Да, слухи об этом, конечно, шли. Но Фердинанд Атлас доверял государству. Они не были какими-нибудь нелегалами. Они были французами, и их предки в нескольких поколениях – тоже. Правда, они с готовностью проходили все проверки каждый раз, когда это требовалось. Полиция просто хотела умиротворить оккупантов. Это можно было понять.
Фердинанд достал из портфеля удостоверение личности, на котором стоял жирный красный штамп «еврей», и торжественно предъявил дочери: пусть видит, что у него документы в порядке и он ничего не скрывает. Словно этот штамп служил ему защитой.
Но когда Кротиха объяснила, что предупреждение исходит от бывшего комиссара полиции, Фердинанд Атлас в замешательстве посмотрел на жену.
И все же на следующий день после праздничных гуляний 14 июля[33]33
14 июля – французский национальный праздник. В этот день в 1789 году в ходе Великой французской революции была штурмом взята крепость-тюрьма Бастилия, символ королевской власти.
[Закрыть]они сели на поезд до Трувиля. Кротиха еще никогда не путешествовала с родителями. Она провела две недели на побережье, бродя по пляжу, плавая в море и глядя на мать. Та дремала на солнце, прикрыв лицо раскрытой книгой, чтобы уберечь от загара нежный цвет лица.
Они вернулись домой в конце июля. Фердинанд бродил по комнатам.
– Вот видишь, всё на месте! Никто не приходил.
На глаза у него навернулись слезы: как мог он усомниться в своей родине?
Кротиха вернулась к подпольному существованию и дома больше не показывалась.
Но в одно сентябрьское воскресенье к ним пришли сотрудники французской полиции. Они вежливо позвонили в дверь и увели супругов Атлас. Уже в машине Фердинанд обнаружил, что на нем домашние туфли.
– Мне надо вернуться и надеть ботинки.
Сидевшая рядом жена держала его за руку.
– Вам они больше не понадобятся, – сказал полицейский.
Кротиха обнаружила, что родителей увезли, три дня спустя. Она проникла в дом через чердачное окно. Слуги разбежались. Около разобранной кровати на подносе лежали два круассана, твердые, как окаменелые моллюски. Она пыталась при помощи Муше получить хоть какие-нибудь сведения в префектуре, не упоминая, что разыскивает родных. А в начале декабря в ее доме обосновалась канцелярия Макса Грюнда.
Париж, перекресток Одеон, 21 декабря 1942 г.
Муше поцеловал Мари в шею, как будто она была его подружкой. Ее студенческий рюкзак усиливал это впечатление. Он потянул ее в кинозал. Когда они вошли, на экране два всадника поднимались в гору. На передних рядах курили. В глубине зала кто-то спал.
– Давайте письма, мне нужно выйти, – пробормотала она.
– Подожди. Я должен тебе кое-что сказать. В ночь перед Рождеством около Шартра самолет сбросит одного француза с парашютом. Он возвращается из Лондона и должен научить трех наших людей пользоваться радиосвязью. В Париже это было бы слишком опасно.
– И что?
– Сезар думает послать их всех к Святому Иоанну.
– Сомневаюсь, что он согласится.
– Я хочу с ним встретиться.
– Я сама его спрошу. Он разговаривает только со мной. А теперь дайте мне выйти.
– Так спроси его. Это срочно.
Она встала. Муше схватил ее за руку. На них смотрел сосед по ряду. Муше зашептал, почти уткнувшись ей в волосы, словно влюбленный.
– Те люди, которых ты хотела найти, супруги Атлас… В лагере Питивье их уже нет. Их увезли двадцатого сентября.
– Куда?
– Везут всегда на восток. Но куда – неизвестно. Во Франции их точно нет.
С экрана доносилась средневековая музыка.
– Один из конвертов – тоже для Сезара. Там очень важные документы. Другой – для тебя, это касается твоих друзей.
– Они мне не друзья.
– Эй, там, впереди, потише! – крикнул с последнего ряда мужчина, который до сих пор спал.
– Я положил туда все, что нашел на этих Атласов, – прошептал Муше. – В том числе список пунктов, через которые их везли. И последнее, Мари: я должен поговорить с Буларом. Где он?
– Не знаю.
Она вышла. Вечером Кротиха вернулась на крышу Пале-Рояля. Один из конвертов она просунула в щель между ставнями. Заодно немного погрелась около теплых каминных труб, попадавшихся ей на пути. Под шерстяной фуфайкой был спрятан второй конверт, полученный от Муше. Она чувствовала, что не в силах его открыть.
В Комеди Франсез давали «Мертвую королеву»[34]34
«Мертвая королева» – пьеса французского писателя Анри де Монтерлана (1895–1972).
[Закрыть]. Спектакль уже закончился. Зрители не спешили выходить из фойе, чтобы напоследок еще немного погреться.
Кротиха провела ночь на чердаке театра. Когда-то давно она нашла там скрипку, спрятала ее между балками и с тех пор не трогала.
Утром она села на поезд, идущий в Ле-Ман, а там – на скорый, который довез ее до Нанта.
День пролетел быстро. В шесть часов вечера она прошла по дамбе из каменных глыб, во время отлива соединявшей остров Нуармутье с континентом. Было темно. Кротиха держалась подальше от немецких постов, огни которых светились на обоих берегах. Теперь она пробиралась к острову кратчайшим путем через песчаные мели. В лужах с морской водой копошились крабы.
Кротиха понимала, что нельзя появиться у Святого Иоанна среди ночи. Она нашла себе приют под крышей маленького хлева среди солончаков. Всю ночь ее согревало тепло, исходившее от трех осликов, тесно прижавшихся друг к другу.
27
Святой Иоанн
Аббатство Ла-Бланш, 22 декабря 1942 г.
Могучая матушка Элизабет – а в ней было никак не меньше ста килограммов – держала своих подопечных в таком же страхе, какой, наверное, испытывали обитатели аббатства при набегах викингов на остров в IX веке от Рождества Христова. Еще ни один епископ не посмел выпроводить ее на пенсию. Она правила здесь уже сорок лет. Даже немцы, устроившие себе штаб-квартиру в замке в нескольких километрах от обители, боялись заходить за высокие стены аббатства. Они вытоптали три четверти Европы, но, являясь в Ла-Бланш, снимали у входа сапоги и робко просили продать им горшочек меда или пучок редиски.
Да, матушка Элизабет наводила на всех страх, но вместе с тем вызывала всеобщее восхищение. Обширный сад аббатства, обнесенный изгородью, кормил добрую половину острова. На мельнице к югу отсюда три монахини открыли лечебницу, которая пользовалась большим авторитетом, чем иные больницы. Монастырский хор был великолепен. На литургии в Рождество и на Успение сюда съезжалась вся епархия.
Если бы кто-то увидел, как с наступлением ночи монашки азартно гоняют мяч на пляже или купаются после пасхальной службы, его удивлению не было бы предела. «Аллилуйя!» – радостные вопли, которые неслись из воды, долетали, наверное, до самого устья Луары.
Однако, если не считать этих мирских развлечений, Ла-Бланш была для посторонних неприступной крепостью. Несколько мальчишек попытались перелезть через стену, чтобы нарвать груш бон-кретьен, самых сочных в западной части Франции, и горько об этом пожалели. Мать-настоятельница устроила им поистине материнскую порку.
Кротиха дернула за колокольчик у ворот. За решетчатым окошком показались два черных глаза.
– Матушка в часовне. Она поет.
– Скажите, что с ней хочет поговорить Кротиха.
– Кротиха?
– Да.
– «Кротиха» – то есть «крот»?
– Только женского пола.
– А у вас нет другого имени, более…
– Более традиционного?
– Мне придется прервать репетицию рождественской службы. На меня будут смотреть все сестры… И если я скажу, что у входа ждет кротиха…
– Сестра, вы здесь недавно?
– Да.
– Скажите ей, что это по поводу Святого Иоанна.
– Святого Иоанна?
– Да.
– Так-то лучше. Это я ей передам. А вы, если захотите, можете говорить с ней как Кротиха. Присядьте пока на скамейку. Извините, что оставляю вас ждать на холоде.
Сестра Бертиль прошла по лужайке, которую в начале войны превратили в картофельное поле, что свидетельствовало о практичности монахинь. Затем углубилась в коридор и толкнула дверь. Отсюда уже были слышны рождественские гимны. Сестра Бертиль пересекла двор и вошла в часовню.
Монахини репетировали «Между быком и серым ослом спит маленький сын»[35]35
Рождественская песня XVI века.
[Закрыть]. Они пели на шесть или семь голосов, подняв глаза к потолку, с воодушевлением, которое заставляло забыть, что это далеко не шедевр церковной музыки. Так и чудилось, что под сводами часовни порхают тысячи ангелов. Матушка Элизабет стояла на ящике перед хором и в упоении взбивала руками воздух.
Она не сразу увидела Бертиль, которая мялась и краснела, стоя у двери. Матушка довела куплет до конца, после чего знаком велела хору умолкнуть.
Она повернулась, и деревянный ящик под ее башмаками затрещал.
– Слушаю вас, сестра Бертиль! Генерал уже здесь?
– Нет…
Это был традиционный вопрос матушки Элизабет. Она требовала, чтобы ее беспокоили лишь в том случае, если на побережье высадится генерал де Голль вместе с союзниками англичанами. Только это могло гарантировать аббатству спокойствие. Когда к ней приходили с каким-нибудь делом во время ее благочестивых размышлений в саду, или прерывали во время работы, или в обеденной тишине кто-нибудь поднимал руку, чтобы задать вопрос, она всегда уточняла: «Генерал уже здесь?»
– Что случилось, Бертиль? Почему вы покинули свой пост?
– У ворот молодая девушка, она хочет с вами поговорить.
Бертиль не осмелилась назвать ее Кротихой.
– Говорит, это по поводу Святого Иоанна.
– Сестра Марике, подмените меня?
Хорошенькая сестра Марике помогла матушке Элизабет сойти с ящика и поднялась на него сама. Настоятельница взялась за свою палку и направилась к дверям, давая на ходу указания.
– Что мне не нравится, так это двенадцать сестер в первом ряду. Когда они поют «Спит маленький сын», их совсем не слышно. Поэтому, сестра Марике, у вас есть выбор: либо велите им петь громче, либо пускай остальные поют тише. Я все думаю о сестре Веронике: уверена, она принесет гораздо больше пользы на кухне, когда будет чистить топинамбуры.
Все обернулись и уставились на хористку в последнем ряду, которая сразу побледнела, несмотря на густые веснушки.
– Словом, делайте, как лучше, дети мои! Напоминаю вам, что Рождество через три дня, и я очень рассчитываю на пожертвования, которые позволят нам починить кровлю. Покажите все, на что вы способны. Не хотелось бы, чтобы после моей смерти вы пошли по миру. А смерть моя не за горами – я почти так же стара, как маршал[36]36
Имеется в виду Анри-Филипп Петен (1856–1951), французский военный и государственный деятель, маршал, возглавивший коллаборационистское правительство Франции в 1940 году. В 1942-м ему было восемьдесят шесть лет.
[Закрыть].
Дверь захлопнулась.
Бертиль и настоятельница пересекли внутренний двор, прошли по коридору и обогнули картофельное поле.
– Отоприте дверь, сестра.
Бертиль повиновалась. Вошла Кротиха.
Матушка Элизабет коснулась губами ее лба.
– Пойдемте со мной, дочь моя. Сейчас такое время, что нам лучше поговорить вон там.
И она направилась к монастырской ограде. Кротиха поддерживала ее под руку. Бертиль смотрела им вслед. Они шли вдоль стены в сторону моря.
– В последний раз ваши пилоты были просто душки! Мои сестры с радостью держали бы их здесь пожизненно. Но те почему-то не обнаружили в себе склонности к монашеству.
Кротиха улыбнулась. Матушка продолжила:
– Надеюсь, вы найдете для нас канадцев. Потому что с англичанами я объясниться не могу. Хотя красивому брюнету, которого ранили в голову, я поручила заново покрасить часовню. Поскольку ему было запрещено выходить на солнце, он проводил время с пользой.
Они вошли в лес, в тень зеленых дубов. Было десять часов утра. Слабые солнечные лучи пробивались сквозь листву, почти не давая света.
– Я нашла велосипед. Сейчас не сыщешь камер в радиусе ста километров, но мы набиваем шины сеном. И он отлично ездит. А в Париже есть камеры?
– Не знаю.
– Если вы их увидите, отправите нам? Я заплачу вам яйцами.
Матушка Элизабет обладала невероятной энергией. Проходя мимо кустов, она хлестала по ним своей палкой. Кротиха держала ее под левый локоть.
– А яйца? У вас в Париже есть яйца?
– Нет.
Лицо настоятельницы просветлело.
– Сегодня ночью я как раз думала, что, если посылать двух наших сестер каждое воскресенье в Париж с сотней яиц и распродавать их по приходам, мы можем стать Рокфеллерами. Тогда я размещу в трапезной пятьдесят канадских пилотов, а на колокольне – пулеметы. Боши[37]37
Боши – презрительное прозвище немцев во Франции.
[Закрыть]продержатся недолго.
Дорога вывела их прямо к морю. Кротиха сняла туфли.
Матушка Элизабет прикрыла глаза руками.
– Дочь моя, скажите мне сначала, не купается ли здесь Святой Иоанн?
Кротиха оглядела пляж.
– Нет.
– Тем хуже.
В щелке между пальцами настоятельницы мелькнула лукавая искорка. Теперь матушка внимательно смотрела на горизонт.
– У вас есть жених?
– Да.
– Это хорошо. Подождите нашего Святого Иоанна здесь. Он скоро придет. А перед уходом загляните на кухню и попросите булочек. Говорят, в Париже от голода уже едят домашних кошек.
Кротиха села на песок и сказала:
– Большое спасибо, матушка. Вы не заблудитесь на обратной дороге?
– К сожалению, нет, – ответила настоятельница, удаляясь. – Берегите себя, дочь моя. А если вдруг у вас возникнет желание стать монахиней… Места в аббатстве расписаны до конца света, но для вас я сделаю исключение.
Настоятельница ушла, а Кротиха, совершенно ею очарованная, все еще сидела на берегу. Ей захотелось облачиться в монашеские одежды только ради того, чтобы каждое утро видеть, как эта женщина спасает мир.
На несколько минут Кротиха забыла об участи родителей. Шум океана унес ее далеко от этих мест. Она думала об Андрее.
Кротиха не совсем обманула матушку Элизабет, отвечая на вопрос о женихе. Она снова увидела Андрея одним летним утром 1937 года в студенческом общежитии на улице Бак в Париже. Теперь он не прятался. Некоторое время она следила за его перемещениями по городу.
Однажды на Больших Бульварах он подсел к незнакомцу на террасе кафе.
– Птенец погиб, – сказал мужчина.
– Птенец?
– Это прозвище пареньку дали там.
– Какому пареньку? Ванго?
– Замолчи.
Андрей, казалось, был потрясен известием.
– А мой отец?
– Ты встрепенулся как раз вовремя. Если бы ты наконец не навел нас на Птенца, твой отец был бы уже мертв. Но он на свободе и вернулся к семье.
– Я тоже хочу вернуться.
– Как угодно, – сказал незнакомец и встал. – Ты свое дело сделал. Я велел Владу оставить тебя в покое.
– Тогда я еду в Москву.
Незнакомец ушел. Андрей остался один. Кротиха сидела перед вазочкой с мороженым – совсем рядом с ним, как в тот день, много лет назад, когда впервые осмелилась к нему приблизиться. Рука Кротихи так дрожала, что она боялась взяться за ложечку. Андрей встал и пошел по улице. К счастью, он забыл скрипку.
На следующий день она приклеила ему на окно записку: «Ваша скрипка у меня».
Всю ночь она смотрела на инструмент, лежавший перед ней в открытом футляре. Она знала: пока скрипка у нее, он никуда не уедет.
Наверное, он очень удивился, увидев это послание на окне шестого этажа. Через неделю она приклеила новое: «Может быть, я вам ее верну».
Когда она собралась оставить третью записку, то увидела на окне листок от Андрея: «Скрипка мне больше не нужна. Оставьте ее себе».
Эти слова встревожили Кротиху. Назавтра, исписав несколько страниц, она спустилась по водосточной трубе в его комнату. Там никого не было: Андрей уехал. Но оставил московский адрес.
Она спрятала скрипку и отправила письмо по почте. Пару месяцев спустя пришел ответ.
Они переписывались два года. Это были письма, полные недомолвок. Только после четвертого письма Андрей догадался, что похититель его скрипки – девушка. А после седьмого понял, что эта воровка любит его уже четыре года.
Началась война, и ответы от Андрея приходить перестали. Но Кротиха все равно продолжала писать, меняя тон в зависимости от того, как складывались отношения между Францией и Москвой. Первые письма она начинала словами: «Дорогой враг», последующие: «Мой милый союзник».
Андрей же обращался к ней, как к невесте, сообщая, что зачислен в армию и уезжает на фронт: «Прощай, моя Эмили».
Вот уже несколько месяцев всюду говорили о Сталинградской битве. Советская армия упорно отражала атаки немцев.
Сидя на берегу, Кротиха с ужасом представляла, как ее милый союзник бьется с врагом на кровавом снегу. Посреди этого видения, в котором Андрей был скифом в меховой шапке, сидящим верхом на коне, Кротиха услышала крики чаек и чей-то голос:








