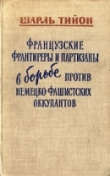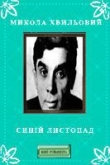Текст книги "Листопад"
Автор книги: Тихомир Ачимович
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
На другом конце села прозвучало несколько винтовочных выстрелов. Затем еще и еще.
– Снова сербы убивают сербов, – сокрушенно сказал старик. – Как вам только не надоест.
Одна за другой взорвались три гранаты. Над колокольней поднялась стая ворон и галок. Ветер донес запах гари. Стрельба прекратилась. Тишину теперь нарушали лишь гомон встревоженных птиц и лай собак. Перестрелка заставила людей спрятаться по домам. Улицы были пустынны. Вдали, за снежной пеленой, появился над домами столб черного дыма.
– Смотри, пожар! – воскликнул старик. – Идем посмотрим, что горит. Как, ты не хочешь? – удивленно спросил он, увидев, что Лабуд, дойдя до перекрестка, повернул в сторону школы. – Ну как хочешь, а я должен знать, что там произошло. – И, не оборачиваясь, старик заспешил на пожар, что-то выкрикивая на ходу.
Оставшись один, Лабуд вздохнул с облегчением и сбавил шаг. Надо было собраться с мыслями, навести в голове порядок. Шагая по улице, Лабуд видел и чувствовал, что за ним наблюдают. То в одном окне, то в другом поднимались уголки занавесок, но стоило Лабуду посмотреть в ту сторону, как занавески мгновенно опускались. Лабуд хорошо знал односельчан и без труда определял, кто из них мог бы рискнуть заработать за его голову десять тысяч динаров.
Ближе к центру села наблюдателей в окнах становилось меньше, зато все чаще попадались вооруженные партизаны. В самом центре все сохранилось по-прежнему, за исключением здания общины. Партизаны сожгли его еще в начале восстания. Это была их первая победа. Перед домом, что стоял напротив сгоревшей управы, Лабуд увидел незнакомого ему часового. Из помещения старой корчмы слышались громкие голоса, а за корчмой стоял еще один часовой, вооруженный винтовкой с примкнутым штыком. У церковной ограды было привязано несколько лошадей, а в летней кухне поповского дома горел огонь и виднелись чугуны и кастрюли. Лабуд сообразил, что в село прибыло еще одно подразделение отряда. В школе, где расположилась его рота, царило оживление. Бойцы уже вынесли парты на улицы и теперь вносили внутрь помещения солому, забивали досками разбитые окна.
В школе было четыре комнаты: две большие и две поменьше. Уже к третьему классу около половины школьников бросало ходить в школу. «Дети, как только подрастут, должны работать, а не болтаться без дела» – такова была суть психологии сербского крестьянина той поры. В помещении для четвертого класса, который в свое время окончил Лабуд, было тепло, пахло свежей соломой. В круглой железной печке бушевало пламя. На стене висела шинель Горданы, а стол, придвинутый к окну, был завален медицинским имуществом. Двери класса открывались ежеминутно. Люди входили и выходили с таким видом, словно что-то искали и не могли найти.
Лабуд не обращал внимания на это беспрерывное хождение. Но Гордана все видела и понимала. Она знала, что в роте давно считают ее любовницей Лабуда. И сейчас бойцы, как бы желая убедиться в этом лично, заглядывали к ним без всякого дела, просто так, из любопытства. Гордану это сначала раздражало и сердило, но вскоре она махнула на все рукой: пусть думают, что хотят.
– Гордана, закрой, пожалуйста, дверь, я хочу побыть один, – попросил Лабуд. Он стал у окна, бесцельно блуждая взглядом по холмам, которые начинались прямо от школы.
Гордана вопросительно посмотрела на него:
– Мне тоже выйти?
– Зачем? Я не о тебе. Меня раздражает, когда они заходят сюда без всякой нужды.
– Вход сюда никому не запрещен. Люди приходят на перевязку или за какой-нибудь другой помощью. В этом нет ничего странного.
Лабуд резко повернулся к Гордане и сердито посмотрел на нее.
– Это относится далеко не ко всем. Кстати, мне кажется, что ты напрасно расходуешь столько бинтов, – заметил он. – Смотрел я, как ты перевязывала сейчас этого быка. Израсходовала на него целый пакет, а завтра нечем будет настоящего раненого перевязать. Поверь мне, этот мужик нарочно бередит рану, не дает ей заживать. Он рассчитывает на то, что я отпущу его на лечение домой. Воюет всего два месяца, а уже весь в шрамах, словно старый фронтовик. Пуля первым делом дураков выбирает.
– Милан, ну как можно так говорить, побойся бога! Не виноват этот товарищ.
– Значит, по-твоему, я виноват в том, что он подставляет свою глупую башку под немецкие пули? Я его как-то спросил: «О чем ты думаешь в бою?» Знаешь, что он мне ответил? «Посеяла ли жена пшеницу, и не сожгли ли четники мой дом».
Гордана весело рассмеялась.
– Не вижу в его словах ничего плохого. О чем же еще думать простому крестьянину? Тебе это должно быть особенно понятно, так как ты ведь сам из крестьян.
– Ты хочешь сказать, что и я такой же отсталый? – обиделся Лабуд.
– Как ты можешь говорить такое, надо же! – воскликнула Гордана, подходя к Лабуду.
– Или ты хотела бы видеть меня другим?
– Если бы ты был другим, я бы тебя никогда не полюбила. Я знаю, что тебя ничто не может заставить измениться, хотя и не возражала бы, если бы ты немного по-другому относился ко мне.
– А ты попробуй изменить мой характер.
– Не имею желания бороться с силами природы, бесполезно.
– На этот раз ты, пожалуй, ошибаешься, – сказал Лабуд.
Он не мигая смотрел в ее смеющиеся глаза, наслаждаясь их сиянием. Они согревали его, словно солнечные лучи. «Если когда-нибудь, в счастливый час своей жизни, – мысленно обратился он к Гордане, – ты вспомнишь мое имя, пусть оно возродит в твоей памяти грозные годы нашей молодости. Сейчас мы боремся за счастливое будущее и отдаем ему все наши силы. Наше будущее – не пустая мечта, а реальная действительность. Наша жизнь – это борьба, борьба вечная, иногда смертельно опасная. Но, невзирая ни на какие преграды, испытания и искушения, мы должны дойти до цели. Любовь помогает мне в борьбе, и я хотел бы, чтобы через нашу любовь рождалась для людей новая жизнь. Ох как хочется жить! Но знаю также, что нас на каждом шагу подстерегает смерть…»
Лабуд грустно улыбнулся. Гордана смотрела на него с недоумением. Ей все казалось, что она его не понимает и никогда не поймет. Будучи не в силах разобраться в причине его долгого молчания, она прильнула к нему, положила голову ему на плечо. Его куртка была влажной и холодной. Гордана посмотрела ему в глаза. Они были какие-то погасшие.
– Ты насквозь промок, на тебе сухого места нет, – сказала она. – Почему ты совершенно не заботишься о своем здоровье? Сходил бы домой, это же твое родное село. Наверное, не скоро сюда вернемся снова.
– Кроме тебя, у меня никого не осталось больше, – ответил он, вздохнув, – ни дома, ни родных – все пропало. Четники сожгли мой дом.
Гордана, пораженная новостью, замолчала. Они стояли рядом, касаясь друг друга плечами, и смотрели через окно на дорогу, бегущую по холму, по которой сейчас шла колонна беженцев. Люди едва тащились по грязи. За время нахождения роты Лабуда на задании число беженцев в отряде заметно сократилось, но еще оставалось значительным. Смерть подстерегала беженцев на каждом шагу. Лабуд с душевной болью смотрел на их нестройную, рваную колонну. Он знал, что стоит ударить морозам или немцам посильнее навалиться на партизан, как положение беженцев станет катастрофическим.
Колонну беженцев замыкало охранение в составе десятка бойцов. Четверо из них несли раненого и производили впечатление траурной процессии. Колонна еще не успела скрыться за поворотом, как на холме появилась еще одна, правда меньшая по размеру, чем первая, но еще более жалкая.
Так продолжалось до вечера. Группами и группками, отделениями и взводами, а иногда и ротами собирался к месту сбора партизанский отряд. Штаб отряда прибыл после обеда и разместился в каменном здании, которое было окружено траншеей с укрепленными огневыми точками и проволочным заграждением. Этот дом принадлежал раньше местному попу, который с началом восстания уехал в город. Сменивший его новый поп примкнул к четникам и сейчас мотался где-то вместе с ними. Здание постепенно было превращено в опорный пункт. Крестьяне обходили этот дом стороной.
Лабуд нашел комиссара в большой комнате с закопченными стенами, хранившими на себе следы всевозможных лозунгов. Все: и партизаны, и четники, и недичевцы, сменявшие друг друга в селе, – оставляли на стенах этой комнаты память о своем пребывании. Посередине комнаты стоял длинный стол, также весь исписанный и исчерченный. По обе стороны стола находились длинные деревянные скамьи.
Комиссар сидел за столом в наброшенной на плечи шинели, подперев подбородок руками, и, казалось, вчитывался в слова, вырезанные ножом на поверхности стола. Рядом с ним лежали автомат, кожаная сумка и подсумок с двумя гранатами.
– Смерть фашизму! – с порога произнес Лабуд партизанское приветствие и поднял на уровень виска сжатый кулак правой руки.
Комиссар медленно поднял голову, протер кулаками глаза и уставился на Лабуда так, будто его появления живым и здоровым он уже не ожидал.
– Свобода народу! – ответил комиссар, быстро поднялся, вышел из-за стола и крепко обнял Лабуда. – Наконец-то мы опять вместе. Как я рад видеть тебя! Теперь весь наш отряд в сборе.
Лабуд чувствовал себя как человек, который после длительного отсутствия вернулся в отчий дом.
– Надеюсь, теперь надолго соединились? – спросил он.
Шумадинец неопределенно пожал плечами.
– Во всяком случае, какое-то время будем вместе, а как будет дальше – не знаю. – Он вынул сигареты, угостил Лабуда и закурил сам. Выпуская дым через нос, комиссар продолжал: – Сейчас ничего не могу сказать наверняка. Ясно лишь одно, что, куда бы мы ни повернули, они идут следом. Мы им как бельмо на глазу, и они спешат от него избавиться. Чтобы им успешнее противостоять, мы решили отряд собрать вместе.
Лабуд задумался.
– Хотя вы уже приняли решение, я все же должен сказать, что не считаю его удачным в создавшейся обстановке. На данный момент, ввиду особо тяжелого положения, отряду было бы лучше действовать мелкими группами.
– Трудно сказать, кто из нас прав. Например, в бою на шоссе под Степоевцем нам очень не хватало твоей роты.
– Как вы оказались под Степоевцем? До него более пятидесяти километров отсюда.
– Нам сообщили из Белграда, что немцы посылают два батальона на Дрину для проведения карательной операции. Мы и решили устроить им засаду. Все прошло как нельзя лучше, жаль только, что у нас не было сил, чтобы уничтожить их полностью. Но те, кто уцелел, долго будут помнить нашу засаду. Опять же четники нам помешали. От Степоевца сюда отряд шел рассредоточенно, подразделениями. Так было безопаснее… За твоей ротой наблюдали постоянно, регулярно получали донесения. Твои действия одобряем. Правда, мы удивились, когда узнали о бое в Лапове, – это не входило в задачу роты.
– У нас не было иного выхода: на каждого бойца оставалось по пять патронов и ни одной гранаты. И в это время мы узнали, что в Лапово прибывает эшелон с боеприпасами для восточного фронта. Решили рискнуть.
– Немцы объявили по радио, что во время налета на станцию вы понесли большие потери.
– Мы потеряли четырех убитыми и пятерых ранеными. Один из раненых позднее умер, двух раненых оставили на излечение у верных людей. Кстати, должен заметить, что в деревнях с каждым днем все труднее находить у крестьян убежище: боятся четников.
– Что поделаешь, крестьян тоже надо понять. На каждом шагу видишь, как горят их дома.
Лабуд невольно вспомнил пепелище родного дома, и ему даже почудился запах гари.
– Везде одно и то же… У вас были дезертиры? – спросил он, чтобы сменить разговор. – У меня на днях убежали двое.
Комиссар вопросительно посмотрел на него и вялыми движениями руки потер заросший подбородок. Лабуд знал, что комиссар очень тяжело воспринимает такие случаи, но не имел права скрывать от него правду.
– Не удалось поймать? – спросил комиссар.
– Нет. Они убежали ночью, когда вся рота отдыхала, а они находились в карауле.
– Скажи спасибо, что они четников на вас не навели. Сейчас дезертиры редко домой возвращаются, а идут от нас прямо к четникам, надеясь спастись и не ведая, что пули им не миновать. На днях получена директива Окружного комитета партии усилить борьбу с дезертирством, не останавливаясь перед применением крайних мер. Как только люди немного отдохнут, соберем собрание. Обсудим этот вопрос, да и другие важные проблемы имеются.
Комиссар помолчал немного, как бы размышляя над тем, надо ли уточнять, что он имел в виду.
– Ты, вероятно, слышал о том, что сформирована первая пролетарская бригада?[16]16
День создания 1-й пролетарской бригады – 22 декабря 1941 года – считается днем рождения югославской Народной армии. – Прим. перев.
[Закрыть] – спросил он Лабуда. – Жалею, что меня там не было. Наше радио передавало, что эта бригада является зародышем будущей армии. Думаю, что и наш отряд со временем превратится в регулярное подразделение, надо только нынешние трудности пережить. Кстати, получен приказ идти в Санджак, но прежде надо уничтожить виадук на Лапаревской высоте.
Лабуд, прижмурив левый глаз, удивленно посмотрел на комиссара.
– Думаешь, будет легко уничтожить этот виадук?
– Конечно, не легко. Но это приказ окружкома.
Лабуд уже пытался однажды самостоятельно, действуя на свой страх и риск, взорвать этот виадук. Но потерпел неудачу и потерял несколько человек. В памяти отчетливо всплыли бункера, окопы, тяжелые минометы, минные поля, проволочные заграждения, по которым был пропущен электрический ток, – так немцы охраняли виадук. Девять мин, выпущенных бойцами Лабуда из легкого миномета, оказались для виадука словно плевки на бетонную стену. А динамита ни в роте, ни в отряде не было.
Комиссар тоже знал о мощной охране виадука. Поэтому вопрос Лабуда заставил его задуматься над этой проблемой еще раз. В это время в комнату вошло несколько человек. Расположившись на скамье, они дружно закурили.
Лабуд настолько глубоко задумался, что едва заметил этих людей. Наконец он пришел к выводу, что виадук можно взорвать, лишь проникнув на него.
– Товарищ комиссар, послушай мое мнение, – начал Лабуд. – Моя рота однажды пыталась уничтожить этот проклятый виадук и больше едва ли захочет…
Комиссар не дал ему договорить:
– Коли ты так напугался, обойдемся без тебя. Не на тебе одном отряд держится.
Лабуд почувствовал, как его прошиб холодный пот.
– Ты не понял меня, – поспешно заговорил он. – Когда я говорил, что моя рота больше не пойдет на виадук, я не имел в виду себя. Ни роте, ни даже целому отряду там делать нечего, кроме как бесславно погибнуть. Голыми руками бетонированные бункера не поднять в воздух. Кроме того, немцы пристреляли там каждую кочку – заяц не проскочит.
– Все это мне хорошо, известно, и тем не менее я считаю, что виадук должен быть взорван. Эта дорога – важная артерия, идущая на восток, и мы обязаны хотя бы на зиму вывести ее из строя.
– Я тоже понимаю значение виадука и поэтому прошу разрешить мне попробовать уничтожить его, но одному, без роты. Мы с Зечевичем не раз об этом думали, но у нас не было взрывчатки.
– О взрывчатке позаботятся товарищи из окружкома. Завтра к вечеру она будет доставлена.
– Тогда, я думаю, все в порядке, и прошу тебя поручить мне это задание. – Голос Лабуда звучал несколько громче, чем ему хотелось бы.
– Ты пойдешь один, без роты? – В голосе комиссара звучало искреннее удивление. – Разве это возможно? Я не понимаю.
– У меня есть план, я все продумал.
В комнате стало тихо.
– Скажи, товарищ Лабуд, – спросил один из тех, что пришли недавно и теперь внимательно слушали разговор комиссара с Лабудом, – ты уверен в успехе? Это же пахнет авантюрой.
Вопрос задал командир Рудничской роты. Две недели назад он был ранен в шею, которая еще была плотно забинтована. Чтобы повернуть голову, ему приходилось поворачиваться всем телом.
– Если у тебя есть план, почему ты до сих пор не осуществил его?
Лабуд насмешливо посмотрел в его сторону и только приготовился ответить, как дверь с шумом отворилась и в комнату стремительно влетела Гордана. Она была без головного убора, вид у нее был очень встревоженный.
– Милан, скорее, они пошли Чарапича расстреливать!
Удивленный неожиданным появлением Горданы, Лабуд не сразу понял смысл ее слов.
– Какого Чарапича?! – воскликнул он.
– У нас в роте всего один Чарапич, а если ты не поспешишь, и его не будет, – ответила она сердито.
Лабуд пулей выскочил из помещения штаба отряда. Несколько человек, и среди них комиссар, устремились было следом за ним, но передумали и вернулись в комнату.
Шумадинец подошел к столу и сел на прежнее место.
– Что, черт возьми, происходит в вашей роте? – нахмурившись, спросил он Гордану. – Ты же секретарь скоевской организации[17]17
СКОЮ – Союз коммунистической молодежи Югославии.
[Закрыть]. Как могла ты позволить такое самоуправство? Я был о тебе лучшего мнения и даже собирался предложить твою кандидатуру на должность комиссара роты.
Гордана смотрела на Шумадинца широко открытыми глазами.
– Что я могла сделать? – сказала она тихим голосом. – Когда я пришла в роту, Чарапичу уже был объявлен приговор, и они не стали меня слушать. А Зечевич даже обвинил меня в том, что я защищаю воров.
– Воров? А что Чарапич украл?
– Он съел пайку хлеба и кашу Славки, пока она была на посту. Когда товарищи ехали его упрекать за это, он вышел из себя и заявил, что ему надоело таскаться с нами и что он собирается перейти к четникам.
– Конечно, это серьезный проступок, и Чарапич, видно, из числа нестойких, колеблющихся. Но все равно, без суда расстреливать человека нельзя. Точно ли установлено, что он съел порцию Славки?
– Да, он сам признал это. Правда, сначала отрицал. Дело в том, что он помогал каптенармусу распределять обед между бойцами и ему было поручено выдать порции тем, кто во время обеда стоял на посту…
Славка Попович осталась в роте после смерти мужа и сына. Это была молодая красивая женщина, которой природа дала все, кроме счастья. Убитая горем, она медленно возвращалась к жизни. Трудности партизанской жизни Славка переносила безропотно. Скромная и спокойная, как большинство молодых крестьянок, она старалась быть незаметной. Часто можно было видеть, как, задумавшись, она смотрела вдаль, словно кого-то ожидала. Когда Лабуд предложил Славке стать санитаркой, она отказалась под предлогом того, что не выносит вида раненых и что должна отомстить за своего мужа и сына.
Свои обязанности Славка выполняла безукоризненно. Она добровольно шла на самые трудные задания, а во время остановок и отдыха первой вызывалась идти в охранение. Это было самое трудное из всех дежурств. Нелегко после трудного перехода, когда все тело ломит от усталости и требует отдыха, идти на пост.
В тот день Славка сменилась с поста после обеда. Она очень замерзла и, вернувшись в роту, сразу приникла к печке. Смертельно хотелось спать, и она чувствовала, как глаза закрываются против ее воли.
– Славка, ты не обедала? – спросил ее Зечевич, который следил за сменой часовых. – Тебе обед оставили.
Зечевич повертел головой, ища глазами Чарапича, который спал в отдалении, накрытый своей белой накидкой.
– Павле, где Славкин обед? – подойдя к Чарапичу и растолкав его, спросил Зечевич.
– Какой сейчас может быть обед? Все давно поели, – сонно ответил Чарапич. – Все, что каптенармус мне оставил, я роздал.
– Не мог каптенармус забыть, сколько у него людей на посту. Я сам напоминал ему об этом. Мне кажется, что ты хитришь.
– Влада, я совсем не голодна, – почувствовав, что может вспыхнуть ссора, негромко произнесла Славка. – Оставь его в покое. Мне бы лишь согреться и поспать.
– Нет, я этого так не оставлю, я выясню, где твоя порция, – ответил Зечевич и отправился искать каптенармуса.
Каптенармус спал в соседней комнате. Влада так громко начал его будить, что бойцы, находившиеся в комнате, испуганные, повскакивали.
– Чего ты кричишь, пожар, что ли? – протирая глаза, сердито спросил каптенармус. – Можно бы и потише. В чем дело?
– Дело в том, товарищ каптенармус, что сам ты поел, а часового оставил голодным. Как тебе не стыдно! Я доложу об этом командиру.
– Ничего не пойму. Или я сплю и не могу уразуметь, о чем ты говоришь, или ты пьян и не знаешь сам, что болтаешь. Ты знаешь, Влада, что я всегда часовым оставляю пищу в первую очередь. Пошли спросим Чарапича, что он с ней сделал.
Пока Влада разговаривал с каптенармусом, Чарапич взял карабин и вышел из помещения. Хотел ли он сбежать совсем или же намеревался отсидеться где-нибудь, пока обстановка в роте не успокоится, никто точно не знал.
Зечевич, обнаружив исчезновение Чарапича, схватил винтовку и выскочил на улицу. Следом за ним бросилось еще несколько бойцов, любителей острых ситуаций. В коридоре они едва не сбили с ног Гордану, которая, заслышав шум, вышла из своей комнаты.
Чарапич был уже довольно далеко. Ему оставалось пройти метров пятьдесят до лесной опушки, но его быстро настигли и взяли в кольцо. Бледный и растерянный, стоял он среди партизан, судорожно сжимая в руках свой карабин.
– Что вам от меня надо?! – закричал он. – Что я вам сделал? Дайте мне уйти, куда я хочу!
– Куда же ты направился, хотел бы я знать? – спросил его один из бойцов.
– А тебе какое дело? – возмутился Чарапич. – Я свободный человек и могу идти, куда хочу.
– Хорошо, мы отпустим тебя, но сначала примешь наказание, которое заслужил, – с трудом сдерживая себя, чтобы не перейти на крик, угрожающе произнес Зечевич. – Коль сумел оставить товарища без обеда, умей и наказание за это принять.
– Не оставлял я никого без обеда, меня оболгали. Я взял лишь то, что мне следовало, – ответил Чарапич нервозно.
– Замолчи, враль! – крикнул подбежавший каптенармус. – Ты украл чужой паек! Разве не тебе я его оставил на сохранение? Надо тебя к комиссару отвести, пусть он сам разберется.
– Что ты пугаешь меня комиссаром? Видел я начальников и повыше. – Глаза Чарапича воровски бегали. Вдруг он взорвался: – Надоело мне голодать, не могу больше, понятно? Не верю я больше в ваши выдумки! Сколько раз комиссар обещав, что до рождества с немцами будет покончено и что придут русские. Вы все врете и живете одной ложью. Русских-то нет никаких. Немцы их столицу взяли. А я жить хочу, можете вы это донять?
На мгновение все остолбенели. Бойцам стало как-то нехорошо от слов Чарапича, а некоторые из них даже отвернулись, словно были в чем-то виноваты. Эти люди были готовы пожертвовать собою ради победы, ради торжества идеи. Но они не питали зла к тем, кто отворачивался от них и уходил из отряда. Они понимали, что не у каждого доставало мужества выдержать тяжелые испытания, добровольно пойти на смерть.
Но Чарапич нарушил одну из заповедей партизан: обокрал своего боевого товарища.
– Не придется тебе жить больше, несчастный! – распаляясь, произнес Зечевич. – Уничтожим тебя, как гниду.
– Не имеете права, – храбрился Чарапич, – без суда не имеете права.
– Ты вор, ты нас опозорил.
– Я больше не хочу быть с вами, с меня хватит.
– Может быть, ты намереваешься вернуться к четникам?
– Это тебя не касается! Захочу – к ним пойду, не захочу – брошу винтовку и вернусь домой. Куда пожелаю, туда и пойду, только с вами, свиньями, больше не хочу оставаться. Сыт я от ваших помоев.
– Э, да ты из тех, по кому веревка плачет! – воскликнул Жика Марич, пробившись через толпу бойцов. – Что вы уговариваете его? Разве не видите, что он рехнулся? На такую сволочь ржавого патрона жалко.
Сразу стало тихо. Все замерли в напряженном ожидании.
– Марич дело говорит, – повернувшись к Зечевичу, сказал каптенармус. – Лучше мы его сейчас шлепнем, чем он потом нас будет из-за угла разить.
– Отберите у него винтовку и свяжите! – приказал Зечевич.
– Винтовку не отдам, она моя! – Чарапич сделал шаг в сторону и угрожающе взял винтовку на изготовку. Но на него навалились со всех сторон и вмиг разоружили.
– Не хочется боевой патрон на тебя тратить, не стоишь ты того! – гневно посмотрел Зечевич на Чарапича.
– Зачем тратить патроны? – крикнул кто-то в толпе. – Такого гада надо вешать!
– Не найдешь добровольцев руки о него марать, – возразил ему боец с перевязанной ладонью.
– Самая легкая смерть – от пули: чирк – и готово.
– Пули побереги для четников.
– Этот ничем не лучше четников. Он обошел все армии, какие есть в нашем государстве. Удивляюсь, почему его к нам приняли.
Пока бойцы рассуждали таким образом, Зечевич смотрел на Чарапича и его стало охватывать сомнение, правильно ли он поступает.
– Слушай, Влада, если надо, я готов отвести его до первого поворота, – предложил один из бойцов, заметив, что Влада заколебался.
– Хорошо, пусть будет так, – отбросив сомнения, решил Зечевич. – Только отведи его подальше от деревни, чтобы народ не говорил, что партизаны убивают друг друга.
В горле у Чарапича вдруг булькнуло, словно он пытался что-то проглотить, и он глухо зарыдал. По его щекам потекли слезы.
Зечевич в последний раз посмотрел на Чарапича и зашагал к школе. Навстречу ему бежала Гордана в расстегнутой куртке и без шапки.
– Влада, ты что делаешь? Разве так можно? Нельзя без разрешения комиссара.
– Все можно, когда надо, Гордана, – ответил Зечевич, – возвращайся назад и занимайся своим делом.
– Смотри, отвечать придется.
– За кого? Черта с два! – Зечевич повернулся к бойцам, которые все еще стояли вокруг Чарапича, и крикнул нервно: – Долго будете возиться? Или вам, интеллигентикам, руки не хочется пачкать?
Один из бойцов снял с Чарапича брючный ремень и завязал ему руки. Павле больше не сопротивлялся. В его глазах заледенел страх. До сих пор ему все казалось, что с ним шутят.
Когда Чарапича повели к лесу, Зечевич продолжил свой путь к школе. На душе у него было неспокойно. «Надо ли расстреливать человека за сто граммов хлеба и ложку постной фасолевой каши? – спрашивал он себя и, немного поколебавшись, ответил: – Надо. Тот, кто сегодня оставил товарища без обеда, завтра может послать ему пулю в спину. С паразитами следует поступать решительно».
Зечевич оглянулся и опять посмотрел на фигуру Павле, которая безвозвратно удалялась, становилась все меньше в сероватом свете позднего дня.
Близился вечер. Ландшафт менял свои дневные краски, и создавалось впечатление, будто все вокруг погружается в бездонную пропасть. Линия горизонта, придавленная низкими облаками, терялась из виду. Несколько бойцов о чем-то спорили около школы. Зечевич миновал их, поднялся по ступенькам крыльца и, когда взялся за ручку двери, услышал глухой звук одиночного выстрела.
Этот выстрел слышал и Лабуд, бежавший со всех ног к лесу.
«Опоздал», – подумал Лабуд, но не остановился, пока не оказался лицом к лицу с Чарапичем. Тот был еще на ногах. По его лицу текла кровь. Когда Лабуд встретился с ним взглядом, ему показалось, что Павле презрительно усмехнулся.
– Кто стрелял?! – крикнул Лабуд. – Я спрашиваю, кто стрелял? – повторил он, словно на данный момент это было самое главное. – Развяжите его, – приказал он.
Боец, который только что произвел злосчастный выстрел, вытащил нож и покорно разрезал ремень, которым были связаны руки Чарапича.
– Бинт есть у кого-нибудь? Быстро позовите санитарку, надо кровь остановить.
Один из бойцов направился к школе. Он не спешил.
– Не надо, Лабуд, – сквозь стиснутые зубы с трудом прошептал Павле. – Так будет лучше… Я не хочу… Дважды не умирают.
Голова Чарапича обессиленно упала на грудь, левая нога подогнулась, он захрипел и ткнулся лицом в снег.
Наступила тишина. Партизаны бесстрастно и равнодушно смотрели на расстрелянного. Кто-то принес лопату, молча разгреб снег, под которым стояла вода, и начал копать могилу. Земля была мягкая.
Лабуд машинально смотрел, как быстро углубляется могила, затем повернулся и пошел назад, к школе, думая о том, что, возможно, рота в последние дни нуждалась в чем-то подобном, вроде этого выстрела. А что, если этот выстрел убил у людей последнюю надежду? Все могло быть. Это был первый случай самосуда не только в роте, но и в отряде, и никто пока не мог предвидеть его последствий. Может быть, он выведет людей из состояния депрессии, которая, как паутина, незаметно опутывала их, или, наоборот, усилит сомнения и колебания.
В роте никто не спал. Бойцы, разбившись на группы, возбужденно переговаривались, вспоминая все прегрешения Чарапича. Уловив по настроению бойцов, что они осуждают Чарапича и категорически отделяют его от себя, Лабуд не стал вмешиваться в их разговор. «Они все понимают как надо, – с удовлетворением подумал он. – Если кликну добровольцев на трудное дело, уверен – все пойдут, как один».
Лабуд незаметно вышел на улицу. Низко над школой плыли темно-серые облака, набрякшие от веды и снега. В углу школьного двора у навеса Космаец колол дрова и складывал их в поленницу. Он выполнял эту работу с явным удовольствием. Ему было жарко, и он снял куртку, оставшись в одной рубашке. Рядом, по другую сторону забора, наблюдая за Космайцем, стоял часовой и время от времени перебрасывался с ним фразами.
– Послушай, парень, зачем тебе столько дров? – с усмешкой спросил часовой. – Не думаешь ли ты здесь зимовать?
Космаец отложил топор и ладонью отбросил прядь волос с мокрого лба.
– Какая зимовка? – Космаец поплевал на ладони и вновь взялся за топор. – Знаешь, как положено у православных: после похорон обязательно бывают поминки. Для того и дрова.
– Богатые ли будут поминки?
– Каков поп – таков и приход. Каков покойничек – таковы и поминки, – ответил Космаец и продолжил свое дело с еще большим усердием.
Лабуд наблюдал за Космайцем и думал о том, почему он так любит этого озорного, всегда веселого и не по годам зрелого юношу. «Как он здорово ему ответил! Каков покойник – таковы и поминки». Лабуду хотелось подойти к Космайцу и обнять его. Всегда при виде Космайца он вспоминал свои юношеские годы, себя в шестнадцать лет.
«Прошлое не вернешь, – думал Лабуд. – Оно быстро забывается. Случай с Чарапичем – тоже уже прошлое. Завтра о нем уже не вспомнят, как не вспоминают о грязи, которую счищают с сапог перед входом в дом».
За одной из школьных парт, вынесенных из школы на улицу, в глубокой задумчивости сидел Влада Зечевич, подперев щеки ладонями. С первых слов разговора с ним Лабуд понял, что Влада считает себя правым и не намерен каяться.
– Поступил так, как требовалось, – не поднимая головы, резко сказал он. – Деморализацию надо пресекать в зародыше, и предателей нечего жалеть. Если мы с тобой станем подлецами, пусть и нас расстреливают.
– А ты уверен, что он был нашим врагом? – спросил Лабуд.
Влада гневно посмотрел на Лабуда.
– Сам знаешь, что тот, кто не верит в нашу победу, – тот наш враг!
– Трудно, да и рано еще говорить о победе. Все видят сейчас, что мы терпим поражение, несем большие потери, отступаем, – сказал Лабуд. Он не намеревался поколебать Зечевича в его взглядах, ему хотелось вызвать его на откровенность. – Должен заметить тебе, – продолжал он, – что даже среди коммунистов некоторые стали терять надежду. Кроме того, на людей неблагоприятно действуют разговоры о том, что отряд на днях должен покинуть этот район. Далеко не все уверены, что им удастся когда-нибудь вернуться назад.