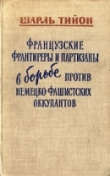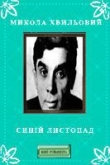Текст книги "Листопад"
Автор книги: Тихомир Ачимович
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Ранка настолько изменилась за эти дни, что ее трудно было узнать: лицо посерело и сделалось похожим на старый пергамент, глаза провалились, полные невыплаканных слез. После ранения Марко она временно исполняла и его должность. В штабе каждый день обещали прислать нового командира, но все не присылали, и она одна, без смены, круглые сутки находилась на переднем крае и боялась, что вот-вот повалится наземь от усталости. Наконец из батальона поступил приказ: роте подготовить свой участок обороны к сдаче другому подразделению. Узнав об этом, Лазаревич довольно улыбнулся:
– Давно пора нас сменить. Ни одна рота не выдерживала здесь шесть дней, в траншее, без смены.
– Наша выдержала…
– Нам за это все равно награды не дадут.
– Кто пошел воевать за награды – тот уже отвоевался, – ответила Ранка. – А мы не за ордена воюем, и ты это прекрасно знаешь.
– У меня за эти дни всю память отшибло, и теперь я ничего не знаю, кроме того, что хочу спать.
– Когда нас сменят, постарайся хорошо выспаться, – посоветовала Ранка. – Скоро начнется общее наступление, и тогда до конца войны не придется спать.
К вечеру на их место прибыл пролетарский батальон. Это уже был хороший признак. Пролетарские части всегда присылали перед наступлением. Их роты сняли с передовой и отвели в тыл, но не очень далеко от переднего края.
– Эта деревня бывает под обстрелом? – спросил Штраус у одного бойца, когда они очутились в тылу.
– Не думаю, чтобы снаряды сюда долетали, – ответил тот. – Мы тоже только утром сюда прибыли.
– Здесь не видно больших разрушений, – сказал Штраус, осматриваясь вокруг.
– Это ты днем посмотришь, потом скажешь. – Боец закинул винтовку за плечо, зевнул раз-другой и удалился.
Бойцы минут тридцать сидели на дороге и ждали, пока их распределят на постой. На небе разгулялись облака, а луна светила как через запотевшее стекло. Из темноты выступали сутулые контуры построек.
Взвод, к которому был причислен Штраус, разместили на отдых в конюшне. Одну половину помещения занимали две лошади и одна корова, а вторую отвели бойцам. В соломе было тепло, но Штраус никак не мог уснуть. Его очень мучил голод, еще больше, чем усталость. На рассвете их накормили, а потом целый день ничего не привозили. Он надеялся на ужин, но его почему-то не было. Еще ему сильно хотелось курить: если партизан хоть изредка, но кормили, то табак вовсе не выдавали. Многие умудрялись курить дубовые листья, но Штрауса от них тошнило. Утром Чаруга дал ему щепотку высушенного мха, он набил им трубку, несколько раз затянулся, а потом целый день ощущал горечь во рту, словно жевал полынь. Вдобавок ко всему разболелось раненое плечо, и он теперь уже жалел, что отказался уйти в госпиталь. Боль отдавала в висок, и голова разрывалась на части. Бойцы рядом с ним спали мертвым сном, их посапывание начинало Штрауса раздражать. Невыносимым сделался воздух – от испарений навоза, лошадиного пота и мокрой одежды. Штраус понял, что здесь ему не уснуть, и осторожно встал, чтобы выйти на улицу.
Недалеко от конюшни стоял часовой. С переднего края доносилась стрельба. Штраус остановился и прислушался. Ему ни о чем не хотелось думать.
Голова была пустой, словно из нее вытекли все мозги.
– Что, не спится? – спросил часовой.
Штраус покачал головой. Одежда на нем была влажной, а на улице свежо, и он поеживался, как на морозе.
– На месте командира я бы часовыми назначал в первую очередь тех, кому не спится…
– У меня разболелось плечо, – пояснил Штраус. – Днем меня ранило.
– Извини, я не знал, что тебя ранило. – Это был молодой боец, совсем недавно мобилизованный в армию. – Отчего ты не пойдешь в лазарет?
Штраус промолчал. Он и сам удивлялся, почему не пошел в лазарет. Может, поддался общему энтузиазму. Люди и с более серьезными ранами оставались в роте.
– Георг, правда, что ты немец? – после небольшого молчания спросил часовой.
– Нет, я австриец, – ответил Штраус без охоты.
– Но ты служил в немецкой армии?
– Служил.
– Говорят, был офицером?.. Как же это ты? Как посмотришь – на вид вроде порядочный человек, а пошел служить фашистам… Этого я не понимаю.
– Выхода другого не было. – Голос у Штрауса был совсем вялым.
– Как так – не было выхода? Разве там, в Австрии, нет гор? Можно же было уйти в горы, организовать партизанский отряд, как наши люди делали, когда вы нас оккупировали. Вот уж кому-кому, а швабам вонючим никогда бы не стал служить. Мой отец два года был в четниках, но это хоть и враги народа, но все же свои люди.
– Все враги одинаковые – что свои, что чужие, – сказал Штраус.
– Ну, ничего подобного, – возразил боец. – Свои есть свои, а чужие остаются чужими. В Южной Сербии, откуда я родом, оккупантами были болгарские фашисты, так четникам и не снились такие варварства, какие вытворяли те ублюдки. Моя сестра симпатизировала партизанам, оккупанты схватили ее, привязали к скирде соломы и подожгли. Ты, наверное, тоже такие экзекуции устраивал нашим людям?
– Я воевал на африканском фронте, потом в Италии.
– В Италии вы были своими людьми.
– Итальянцы тоже немцев не любят!
– Удивительно! Они же были союзниками, как мы с русскими. Как это можно не любить союзников?
– Можешь мне поверить.
– Я тебе верю. Ты старше меня, и я тебе верю. Ты, наверное, очень образованный.
– До войны я работал инженером…
– После войны тоже будешь инженером?
– Может быть. Конечно, буду.
– Жаль, что тебя ранило под самый конец войны. Может, я могу тебе чем-нибудь помочь?
– Нет, никакой помощи мне не нужно… Если бы у тебя нашлось хоть немного табака…
– Нет у меня табака. Я некурящий.
– Жаль…
Штраус ощупал раненое плечо и поморщился от боли.
– Если у тебя так болит рана, ты должен пойти в лазарет, – посоветовал ему часовой.
– Да, я так и сделаю, – ответил Штраус, хотя уже точно знал, что в лазарет не пойдет.
Он решил побродить по селу в надежде встретить кого-нибудь из крестьян. У них всегда имелся табак. Хлеба могло и не быть, но табак всегда находили.
– Георг, послушай, напрасно ты идешь без оружия! – крикнул ему вслед часовой. – Наш взводный приказал никого никуда без оружия не отпускать. Всякое может случиться.
– Ничего со мной не случится, – ответил тот. – Я только схожу в лазарет, перевяжусь и вернусь обратно.
Он отошел еще на несколько метров, потом решил, что без пароля ходить ночью еще опаснее, чем без оружия, и вернулся назад спросить у новобранца пароль.
– Разглашать пароль часовому запрещено, – ответил боец.
– Но ты же знаешь, что я иду в лазарет. Кругом стоят часовые, меня могут задержать.
Боец минуту колебался.
– Понимаешь, мне его не жалко тебе сказать, но взводный строго наказывал держать в секрете… Лазаревич, не любит, когда его не слушаются… Если не станешь болтать, так я скажу…
С паролем Штраус почувствовал себя увереннее. Он сперва шел медленно, потом незаметно прибавил шаг. Небо разъяснилось, тучи разошлись, и луна светила ярко. Лужи на дороге блестели, словно были покрыты тонкой коркой льда. Опасаясь, что его остановят часовые, он шагал осторожно, напряженно прислушивался к звукам и слышал, как пульсирует кровь в висках. Лоб его пылал, кажется, у него нешуточно подскочила температура. Он уходил все дальше в ночь…
С приближением утра на переднем крае стрельба усилилась. Осветительные ракеты все чаще расписывали небо. Изредка тяжелые снаряды залетали и рвались на окраине деревни.
В пять часов утра роту подняли на завтрак. Как и на передовой, здесь раздавали пищу в темноте. Тяжелая артиллерия противника часто обстреливала деревню, и, чтобы избежать ненужных потерь, командование приказало кормить людей пораньше и на день вывести всех за деревню, в сосновый лес. Жика Чаруга обнаружил отсутствие Штрауса.
– Кто его последним видел? – спросил Чаруга бойцов.
Неделю назад он был назначен на должность заместителя командира взвода и все еще входил в круг новых обязанностей.
– Он ночью ушел в лазарет, – подал голос один из бойцов. – Я как раз стоял часовым.
– Идиот, ты ему так и поверил. – Чаруга почувствовал, как у него заколотилось сердце.
Партизаны видели, какой злостью отливали его глаза. Он вошел в конюшню и через минуту вернулся с пулеметом в руке. Еще автомат повесил на шею и, не посмотрев в сторону бойцов, словно все они были повинны в исчезновении Штрауса, пошел докладывать о случившемся комиссару роты. Ранка только закончила завтракать и одевалась, когда он постучался и вошел в комнату. За ночь комиссар отдохнула, заметно посвежела, даже появился румянец на щеках.
– Товарищ комиссар, у нас чертовски большая неприятность, – еще с порога сказал он, – шваб смылся. Выждал подходящий момент и драпанул к своим.
По лицу Ранки скользнула мрачная тень.
– Ты уверен, что он сбежал?
– В этом нечего сомневаться. Он обманул часового, сказал, что идет в лазарет на перевязку, а сам драпанул.
Она взяла чашку с недопитым кофе, торопливо сделала два глотка и, отставив чашку в сторону, выглянула в окно. Туман рассвета путался в ее роскошных черных волосах.
«Без пилотки она куда красивее», – подумал Чаруга, ощущая, как его обволакивает нежность к своему комиссару.
– Ты допивай кофе, – сказал он ей, – теперь ничего не поделаешь, не пойдешь догонять его.
– Почему бы и не попытаться его догнать? – Ранка повернулась к Чаруге и, встретившись с его взглядом, улыбнулась. – Не мог же он далеко уйти. Ведь впереди везде стоят наши войска.
Она вытащила пистолет из кобуры, вынула обойму, пересчитала в ней патроны. Рана на руке у нее уже затянулась, но боль изредка еще появлялась.
– Мы с Марко оставили его в роте, поверили ему…
– Ну, товарищ комиссар, разве швабам можно верить? Все они гады!
– Ему теперь далеко не уйти. Скоро начнется общее наступление, и он снова попадется. Как бы хотелось, чтобы он попался именно нам.
– Тогда бы уж я его прикокнул, подлеца… Ты не расстраивайся, все равно он попадется.
– Откуда ты взял, что я расстроилась?
– Мне кажется, ты переживаешь. Но это не твоя вина, что он, гад, утек. Мы все довольны, как ты командуешь ротой. У тебя неплохо получается.
Ранка пристегнула ремень, надела пилотку, повесила через плечо полевую сумку. Чаруга еще раз с интересом взглянул на нее, но она не обращала на него внимания. Ранка привыкла к мужским взглядам и не сердилась да ребят. Даже тогда, когда они пытались заглянуть ей в самую душу: ведь людям надо как-то себя успокоить…
Когда Ранка с Чаругой вышли на улицу, снова стал накрапывать дождь. На дороге показались две колонны: одна держала направление в сторону фронта, вторая – к лесу. Они выждали, пока обе колонны прошли. У бойцов было великолепное настроение – все успели выспаться и позавтракать. Как только тронулись с места, кто-то запел.
Чаруга, распираемый гордостью, шел впереди своего взвода, размахивая руками в такт песне. За последние дни замковзвода заметно похудел, и куртка свободно свисала с его плеч. На, новой должности Чаруга старался показать себя с хорошей стороны, и Ранка предложила штабу утвердить его вместо погибшего командира второго взвода. Он знал о предложении комиссара и теперь смотрел да нее, как верующий больной смотрит на икону. Заметив, что комиссар увязала в грязи по щиколотку, Чаруга вдруг почувствовал, что и ему от этого стало труднее шагать.
Дорога была разбита подводами, машинами, гусеницами танков. И всюду непроходимая грязь. Ноги утопали в этой жиже, как в плохо замешенном тесте. Местами виднелись следы телег, оставленные крестьянами еще осенью, но сейчас они тоже смешались с грязью. По обеим сторонам дороги стояли серые, давно не беленные дома с черепичными крышами. Несколько домов было изрешечено снарядами, а в двух местах над развалинами еще стелился дымок. Вокруг толпились люди. У них был удрученный вид. Когда мимо них проходила колонна, они всматривались в нее, надеясь увидеть среди партизан своих родных и знакомых.
В центре села грязи было меньше: под нотами заскрипел щебень, бойцы повеселели, подтянулись, строй выровнялся, и прерванная песня возобновилась. Вскоре рота свернула с главной дороги в узкий переулок, и, когда стала подниматься к лесу, ей навстречу попалась группа крестьян, вооруженная вилами и топорами. У них был такой вид, словно они поймали большого медведя и теперь ведут показывать его на ярмарке.
Взглянув мимоходом на крестьян, Чаруга заметил, что они ведут кого-то, связанного веревками, и смутная догадка зашевелилась в нем. Эта догадка поднялась из самой глубины души. Он хорошо знал своих крестьян, верил в их надежность. В первое мгновение люди показались ему хмельными. Они так шумели, словно стремились обратить на себя внимание.
Впереди шел мужик средних лет, в резиновых сапогах, черной домотканой куртке и старой выцветшей шляпе, так согнувшись, будто за спиной нес вязанку дров. Через плечо он тащил веревку, которой был связан человек, идущий шагах в трех позади него. Вокруг толпы, как мухи, носились несколько подростков. У них был торжественный вид.
Приблизившись к партизанам, процессия остановилась, чтобы пропустить колонну. Поравнявшись с крестьянами, Чаруга отделился от колонны и подошел к ним поближе; ему хотелось увидеть, какого такого зверя они изловили. Разглядеть его издали почти не было возможности, ибо крестьяне плотно обступили своего пленника. С одной стороны стояла женщина с вилами, вперенными пленнику в бок, с другой – мужик с топором через плечо. Связанный был без головного убора, в немецкой форме без всяких знаков отличия. С него успели стащить сапоги, и он стоял в одних носках. Волосы цвета спелой пшеницы закрывали ему лицо. Увидев партизан, он еще ниже опустил голову.
– Это мы поймали шваба, – сказал крестьянин, снимая с плеча топор. – И сопровождаем его к вам в штаб.
Чаруга отодвинул в сторону мужика с топором, подошел ближе к пленному, взял его за волосы и, подняв опущенную голову, заглянул в лицо. В первое мгновение его трудно было узнать. На шее и лице виднелись кровоподтеки, один глаз опух и заплыл. Одежда в нескольких местах была порвана.
– Он сопротивлялся, вот мы его и жигосали[19]19
Жигосали – поставили клеймо.
[Закрыть], – сказал мужчина с топором.
Чаруга отпустил пленника, поплевал на ладони и вытер их о штаны.
– Ну, попался, сукин сын? – зло сверкая глазами, спросил он пленного и, увидев приближающегося комиссара, через голову крестьян сказал ей: – Вот он, гад! Теперь-то мы его прикокнем, как пить дать.
Штраус стоял, не поднимая головы. Он понимал, что оправдываться бесполезно, хотя никак не мог осознать, в чем его преступление.
– Где же вы его схватили? – спросила Ранка у крестьян.
Женщина с вилами повернулась к комиссару лицом. У нее были толстые ноги и громадные бедра.
– У меня в доме его накрыли, – сказала она. – Муж ночью вышел проверить корову. Она должна отелиться. Жду, его нет. Я тоже поднялась, иду в хлев и вижу: они сидят возле фонаря и курят. И я сразу в нем распознала шваба, но, чтобы не спугнуть, дала ему попить молока, а сама позвала соседей.
– Прикончить его надо, – вмешался в разговор мужчина, который вел Штрауса на веревке. – Нечего с ним возиться.
– Это ты сейчас такой храбрый, а ночью дал ему табак. Самому скоро курить будет нечего, а ему, извергу, дал.
– Ну, человек попросил, как же, сказался партизаном, – робко пояснил мужчина. – И на пилотке звезда была.
– Звезда? Это он, наверное, нашего человека убил и пилотку взял у него.
– Конечно, убил нашего человека. Может, этот человек из нашего села был.
– Откуда бы он ни был, все равно он наш, а это чужой. Но разговору сразу видно, что чужой…
– Отдайте его нам, – оказала Ранка женщине. – Мы потом решим, что с ним делать.
– Мне кажется, тут должно быть одно решение, – подал голос старик с пушистой седой бородой, – его, изверга, нужно сдать в штаб, а там умные люди уже придумают…
Комиссар посмотрела на Штрауса. У него был такой вид, какой бывает у человека под ураганным обстрелом. На минуту ей стало жаль этого растерянного, перепуганного человека.
– Нас просили остерегаться диверсантов, приказали ловить их, – сказал мужчина в полувоенной одежде.
– Это никакой не диверсант, – ответила комиссар мужчине. – Это боец нашей роты, – решила она внести ясность. – Он уже месяц находится у нас.
– Чем вы докажете, что он ваш боец? – спросил все тот же мужчина в полувоенной форме. – После всего – он их боец! Так я вам и поверил.
– Его зовут Георг Штраус, и он ранен в левое плечо. Можете проверить. Он ушел из роты, сказал, что пойдет в лазарет перевязать рану.
Кое-кто из крестьян разочарованно замычал. Особенно огорчился мужчина в полувоенной форме. Он, видимо, занимал какой-то ответственный пост в селе и согласился отпустить пленного в том случае, если комиссар даст им письменное подтверждение, что они, он и его односельчане, «поймали» диверсанта и отдали партизанам.
– Но ведь он же не диверсант, – начала комиссар.
– Нам все равно, кто он, но нам нужен такой документ, – перебил ее мужчина.
– Хорошо, раз вы настаиваете, я вам дам такой «документ». – Она достала блокнот из сумки и написала расписку. Отдавая ее крестьянину, Ранка сказала: – Развяжите его. И сапоги придется вернуть.
Это была более важная проблема, и Ранке пришлось долго спорить с мужчиной в полувоенной форме, пока не выспорила назад сапоги.
Штраус стоял рядом с опущенной головой. Он долго надевал сапоги на босые ноги – грязные носки ему пришлось сбросить. Весь он излучал уныние оттого, что все так получилось. По тому, как комиссар настойчиво добивалась возвращения ему сапог, Штраус понял, что его уже не расстреляют. Если бы решили расстрелять, то сапоги не были бы нужны.
– Товарищ комиссар, я понимаю… – первым заговорил Штраус, когда крестьяне разошлись. – В последний раз прошу вас поверить мне.
– Мы тебе уже раз поверили… Можешь благодарить господа бога, что Валетанчича нет. Он бы с тобой не стал возиться.
Штраус все еще не мог прийти в себя, медленно тер ладони, как бы счищая с них грязь.
– Вы можете меня сами наказать самым строгим образом, но, пожалуйста, оставьте в роте. Если вы меня выгоните, я совсем пропаду. Мне сейчас деваться некуда.
– Каждый человек за свой проступок должен нести наказание, – пояснила ему комиссар.
– Теперь я понял, почему наши… то есть германская армия с вами так и не смогла справиться, – сказал Штраус. – С вами был ваш народ, а с кем народ – тот непобедим.
– Это мы и без тебя знаем!
Штраус улыбнулся грустно. Щеки у него вздулись, один глаз был совсем закрыт. Он все время прикладывал к нему платок, смоченный в воде. Раненое плечо тоже давало о себе знать, и все тело ломило. Крестьяне изрядно поколотили его, когда он пытался оказать сопротивление, но теперь, думая о них, Штраус в своих мыслях не уловил ни капли горечи. «Слава богу, что все так удачно кончилось», – думал он. В груди саднило от сознания, что его могли убить в этом проклятом хлеву, куда он зашел, увидев свет фонаря.
Уже совсем рассвело. Угрюмое небо посветлело и поднялось над землей, только над лесом за селом еще плыл жидкий туман. Это был, когда-то очень красивый лес, но недавно здесь прошли бои, и лес изрядно пострадал. В стороне от дороги стояли тягачи с орудиями на прицепах, замаскированные ветками, в нескольких местах были видны грузовики, накрытые брезентом, подводы с боеприпасами. Еще дальше стояли танки с расчехленными стволами. По опыту Штраус знал, что такое большое количество войск и техники обычно скапливается перед большим наступлением. Он поделился этой мыслью с комиссаром, но Ранка вдруг оставила его и быстро отошла от колонны. Она скомандовала роте остановиться, вызвала к себе командиров взводов и стала им что-то объяснять.
В лесу было многолюдно, а зелень только-только распускалась. Большое скопление людей могло быть замечено вражескими наблюдателями. Одно успокаивало Штрауса – их скоро двинут вперед.
Между ветками блестела натянутая паутина. Уткнувшись в нее лицом, Штраус остановился, несколько минут стоял, чувствуя, что пульс постепенно утихает, потом побрел по узкой тропинке в сторону высоты, куда направился его взвод. Этот день он считал самым мрачным в своей жизни. Ему очень хотелось, чтобы как можно быстрее их снова послали на передовую. Правда, об этом мечтали многие бойцы, особенно те, чьи семьи еще находились на оккупированной территории.
К середине дня, когда облака разбрелись, выглянуло солнце. Земля сразу начала просыхать. Рота училась преодолевать минные поля, каждый боец был занят своим делом, и никто не заметил связного из штаба батальона, пока тот не подошел совсем близко.
– Ребята, кончайте это занятие! – не слезая с коня, закричал связной развеселым голосом. – Слушайте новость – наши войска сегодня утром прорвали Сремский фронт. Первая армия форсированно наступает… Штаб бригады приказал вашему батальону немедленно сняться отсюда и выступать в направлении Левенты. Это теперь будет последнее наше наступление в этой войне, можете мне поверить.
Связной оказался прав. Через несколько дней бригада встретилась с частями Первой армии, взламывающей немецкую оборону, словно камышовую плотину. Война стремительно катилась к своему закату. Так камень, брошенный с вершины горы, несется к ущелью. И чем быстрее война приближалась к завершению, тем глубже Ранка Николич ощущала свою растерянность. Все последние дни, во сне и наяву, она терзалась мыслями о Марко. Где он сейчас? И жив ли вообще? Из роты его увезли без сознания, дни проходили, а от него не было никаких вестей.
Когда в бригаду принесли весть об окончании войны, Ранка не выдержала, разрыдалась, точно ребенок. Это были одновременно и слезы радости, и слезы от боли разлуки.
Потом несколько дней у нее страшно болела голова. Она никак не могла собраться с мыслями, унять истерзанное сердце. Вступала в свои права весна. Ветер любви дул все сильнее, и ее качало. Точно одинокий тополь в поле, она гнулась и распрямлялась в надежде и ожидании. Все чаще и чаще у нее зарождались мысли подать рапорт комиссару бригады с просьбой отпустить ее из армии. Как-то она поделилась своей мыслью с Николой Маричем, а тот отрубил: «Никуда мы тебя не отпустим! Ты еще здесь нужна».
Измученная переживаниями, утомленная службой, Ранка по вечерам едва добиралась до своей постели. Их бригада осела в небольшом городке, и девушек разместили в местной гостинице. У нее была чистая комнатка на втором этаже с окном в сад, В саду было тихо, цвели тюльпаны, пахло маргаритками, а плющ оплетал небольшую беседку в античном стиле. По вечерам в беседке допоздна сидели девушки со своими возлюбленными, и Ранка закрывала окно в своей комнате, чтобы не слышать их веселого смеха. Утомленная дневными хлопотами, она, засыпала сразу же, как только прикасалась к подушке.
Однажды она не помнила, сколько спала, а очнулась, когда в комнате зазвонил телефон. Это звонил ее хороший знакомый, офицер связи бригады.
– Ранка, извини, что я так рано разбудил тебя, но у меня для тебя важная новость.
От волнения у нее сдавило горло. Сон сразу улетучился.
– Откуда ты звонишь? Какая новость, говори быстрее, не мучай…
– Я только что приехал из командировки, звоню прямо с вокзала. Нам надо поскорее встретиться.
– В чем же дело?
– Тебе письмо от Марко. Я нашел его в госпитале. Он лежит в Вуковаре.
Минуту Ранка молчала. Слезы душили ее.
– Ранка, ты меня слышишь? Что же ты замолчала?..
– Милан, прошу тебя, подожди, я только оденусь… Через пятнадцать минут я буду на вокзале. Жди меня перед главным входом, слышишь, я уже бегу…
Это был, кажется, один из самых счастливых ее дней после окончания войны. Ранка уже четвертый раз перечитывала письмо, которое излучало теплоту и нежное волнение любви. Ее маленькое счастье оживало и возрождалось с утренним рассветом. В каждом слове Валетанчича было столько тепла! Он писал:
«У меня все цело: и руки, и ноги, и голова, а это для человека главное. Осколок только задел легкие и сломал два ребра, но врачи удачно заштопали меня, и я уже почти на ногах. Вчера мне даже разрешили выйти в госпитальный сад и сказали, что если буду вести себя хорошо, то скоро могу пойти в город. Здесь лежит несколько человек из нашей бригады, и мы вместе коротаем время. В госпитале очень хороший уход, но это меня не радует – лучше бы я по три дня не имел хлеба, а только каждый день видел тебя, моя любимая. Каждый раз, когда открывается дверь в палату, я поворачиваюсь и смотрю: мне все кажется, что это ты входишь. Все мои мысли заняты только тобой, счастье мое. Как ужасно долго тянутся дни, как хочется быстрее увидеть, обнять и расцеловать тебя. Эта канитель стала хорошей проверкой моих чувств. Сейчас я понял, что без тебя моя жизнь будет серой и неинтересной, и, если бы не было тебя, моя рана не так быстро бы заживала. Врачи обещают через месяц меня выписать. Любимая, ты не представляешь, с каким нетерпением жду я этот день. Мне могут после госпиталя дать отпуск на месяц, но я им не воспользуюсь…»
Ранка прижала письмо к горячим щекам и, под пальцами почувствовала слезы. Они скатывались густо, как капли дождя, и их нельзя было остановить. Внутри у нее все трепетало. Ей хотелось петь и плакать, и эти чувства просто душили ее, как неосознанная боль. Все старалась представить себе, как долго может длиться один месяц, и у нее ничего не выходило. Если мерить его меркой войны, он может никогда не кончиться. Порой на войне день бывает длиннее года. Еще она знала, как мгновение, принесенное пулей, превращается в вечность. Но теперь вокруг не свистели пули, не рвались мины и снаряды и не нужно было дни превращать в мгновения, а жизнь в вечное ожидание. Сейчас, когда она знала, что Марко жив, ей легко было ждать его возвращения. Тяжелее ждать безнадежно.
Вся во власти радостного возбуждения, Ранка бодро шла по улице. Сердце ее трепетало, щеки горели румянцем. В легком голубом платье в белых ромашках и сандалиях на босу ногу она была похожа на школьницу, успешно выдержавшую последний экзамен. Невдалеке от своего дома Ранка встретила незнакомую женщину, улыбнулась ей, как старой приятельнице, и сказала: «Доброе утро».
Незнакомка молча отвернулась и прошла мимо. Поведение женщины Ранку ничуть не огорчило. Она весело рассмеялась и бегом направилась к себе. Дверь в комнату оказалась незапертой, в спешке она забыла ее закрыть. В комнате, сидя на постели, Ранка снова развернула письмо, принялась его перечитывать.
Над ее столом висел календарь. Девушка взяла авторучку и зачеркнула первый день. Потом она вменила себе в обязанность каждый вечер перечеркивать прожитое число. Почта работала еще отвратительно, и письма от Марко приходили с большим опозданием. Иногда они поступали на четвертый, а то и на пятый день. Когда их долго не было, Ранка сама справлялась на почте.
Уже пошел второй месяц со дня получения первого письма, а Марко все не приезжал. Потом вести от него совсем перестали приходить. Уже третий раз Ранка заходила на почту и возвращалась оттуда с глазами, полными слез.
Ночью поднялась буря, сверкали молнии, дождь хлестал по стеклам окна. Проснувшись, Ранка испуганно сжалась в постели. Гроза не прекращалась. Когда сверкали молнии, в комнате становилось светло, точно зажигалась лампа, потом наступала кромешная тьма. Так длилось долго. Наконец, когда все успокоилось, Ранка, измученная и перепуганная, словно и не бывавшая в переделках посложнее, уснула глубоким сном. Разбудил ее осторожный стук в дверь. Очнувшись, она не сразу сообразила, где находится. Стук снова повторился. На этот раз он был более настойчивым.
– Кто там? – спросила она, накидывая на плечи легкий халатик.
За дверью с минуту было тихо.
– Это я! Открой, не бойся!
Она подумала, что ослышалась. Выждала немного, потом осторожно приоткрыла дверь. Марко стоял боком, и она не сразу узнала его. На нем был костюм цвета морской волны, золотые погоны и фуражка с высокой тульей и черным козырьком.
– Это… это ты? – У нее сдавило горло.
Марко улыбнулся и шагнул к ней.
– Здравствуй!
Они обнялись прямо в проеме, двери. Марко прижал ее к себе, оторвал от пола и поцеловал. Ранка заплакала.
– Ну вот, мы снова вместе, – сказал он.
Ранка улыбнулась сквозь слезы. Волосы у нее заметно отросли, лицо загорело, и в домашнем халате она показалась ему совсем еще девочкой, почти ребенком.
– Какая я глупая! – Она всхлипнула, потом вытерла глаза и улыбнулась. – Я не буду больше плакать. Это все нервы, все потому, что я так долго тебя ждала… Как ты меня отыскал в такую рань?
Марко снова прижал ее к себе.
– Очень просто! На вокзале нанял такси и сообщил шоферу твой адрес.
– Господи, какое счастье! Скажи, как ты себя чувствуешь?
– Отлично! Я всю ночь в поезде спал.
– Ты, наверное, проголодался?
Он отрицательно покачал головой.
– Офицерская столовая открывается только в семь. Сейчас у нас совсем другая жизнь, не походная, хотя и живем по законам регулярной армии. И в батальоне много новых товарищей. Я тебе писала, на твое место временно назначили Лазаревича. Теперь мы занимаемся с бойцами по семь часов в день, а потом для командиров и комиссаров в штабе бригады организуются лекции. У нас столько всего нового, что не сразу все припомнишь.
– Почему же ты мне самую важную новость не сообщаешь? – спросил Марко, улыбаясь. – Ты даже не писала, что стала подпоручиком.
Ранка покраснела как школьница.
– Откуда ты узнал? – У нее на лице мелькнула улыбка.
– Мне написали друзья.
В комнате стало совсем светло. На полу под окном блестела лужа, и редкие капли все еще стекали с подоконника. Валетанчича шатало от избытка счастья. Маленькая комнатка Ранки показалась ему тем уголком рая, о котором простой человек может только мечтать. Голос у него сделался хриплым от волнения.
– Ты не написал, когда приедешь, – с укором сказала Ранка, – и я даже не привела себя в порядок.
– И такой я тебя люблю. Ты даже не знаешь, как я тебя люблю! В госпитале ты мне снилась почти каждую ночь.
– И ты решил поэтому, что мне можно и не писать, – с упреком сказала она. – От тебя я уже шесть дней ничего не получала…
– Не сердись, пожалуйста, я хотел нагрянуть неожиданно.
– Если бы ты написал, когда приедешь, я бы тебя встретила на вокзале. Я ужасно люблю встречать поезда. Ты не доставил мне даже такого маленького удовольствия.
– Зато я что-то решил. Это будет для тебя сюрпризом…
Ранка вопросительно посмотрела на него.
– Я решил, что мы поженимся. Мы это можем сделать в ближайшее воскресенье.
– Не знаю, сможем ли. – Лицо у комиссара сделалось пунцовым, как спелая вишня, а глаза заблестели. – Чтобы пожениться, надо подать рапорт комиссару бригады и получить от него разрешение. Сейчас такой закон. Без разрешения комиссара бригады нас нигде не зарегистрируют.