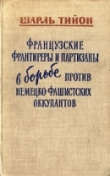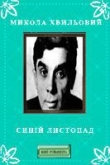Текст книги "Листопад"
Автор книги: Тихомир Ачимович
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
– Завтра со всеми вами будет покончено!
– Ты что, к Чамчичу идешь? Расскажешь ему, где мы находимся?
– Скажу ему, что ты меня прогнал. – Она повернулась к нему спиной и быстро пошла вниз по дороге.
С каждой минутой Елена удалялась. Влада понял, что теряет ее навсегда. Сейчас она придет к четникам и расскажет им об отряде. Перед мысленным взором Влады возникла картина: Елена в объятиях Чамчича, – и его руки непроизвольно вскинули винтовку. В прорезь прицела он в последний раз увидел ее красивые ноги, гибкий стан. По спине Елены двумя черными змеями спускались длинные косы. Мушка прицела уперлась в промежуток между косами и замерла. Времени на размышление не оставалось. Через секунду она скроется за уклоном дороги. Вот уже исчезли ноги, и теперь лишь верхняя часть туловища осталась на виду. Палец нажал на спусковой крючок. Резкий звук выстрела разорвал холодный вечерний воздух. Когда дымок от выстрела развеялся, Елены уже не было видно.
Влада побежал вниз. Елена лежала неподвижно. Легкий ветерок шевелил кончики ее шерстяного платка. Сквозь пулевое отверстие сочилась кровь, ее становилось все больше, и она постепенно заливала полушубок. Елена была красива и мертвой. Влада упал на колени перед ней. Слезы текли по его лицу, застревали в усах.
Когда Влада пришел в себя, шел снег. Он ровным белым слоем укрывал лицо Елены от посторонних взглядов. По дороге шли бойцы роты. На Владу и Елену никто из них не обращал внимания. Они лишь на какое-то мгновение замедляли шаг, а затем обходили Владу и следовали дальше. Когда рота скрылась за ближайшим лесочком, Влада встал и, не оглядываясь, медленно побрел вслед за своими.
Он напряженно размышлял о случившемся, искал оправдание для Елены и не находил. Она изменила ему как жена, изменила делу, за которое он дрался, хотела предать его самого и его боевых товарищей. Сейчас они рассчитались – что сделано, то сделано. Вскоре Влада обнаружил, что он ненавидит не столько свою жену, сколько того, кто отнял у него Елену. Эта мысль пробудила его от шокового состояния. Завтра, когда встретится с четниками, он уж постарается, чтобы не продешевить, взять с них подороже. Двадцать пять тысяч динаров – разве это цена за человеческую голову? Нет, он ценит свою жизнь гораздо дороже, и враги убедятся в этом.
– Не вы, а я буду назначать цену, – бормотал Влада, – моя голова, моя и цена. Двадцать пять ваших – за одну мою. На том и порешим, конец аукциону. Денежки свои оставьте при себе – пригодятся на похороны.
– Влада, ты о чем? – спросил подошедший Лабуд.
Зечевич остановился.
– Все о том же. Спрашиваю себя, сколько стоит наша жизнь, – ответил он нехотя.
– Смотри не просчитайся. Двадцать пять против одной будет маловато.
– Я знаю, сколько стою, не беспокойся.
– Отныне ты подорожал – тебя назначили командиром нашей роты.
– Коли так, придется повысить ставки, – после небольшой паузы произнес Влада. – Они нас ожидают в засаде у Кошутицы. Разреши мне пойти первым. Руки чешутся. Хочется этим скотам рога обломать и показать, за сколько мы продаем наши головы.
Уже более часа отряд поднимался по горной тропе, но до перевала было еще далеко. Бойцы шли молча, часто спотыкались в темноте о скользкие камни, падали, но двигались безостановочно. Тропинка была покрыта снежной кашей, с каждым шагом идти по ней становилось все труднее. Шел снег с дождем. Изредка налетали порывы холодного ветра, от которого перехватывало дыхание и выступали слезы на глазах. Одежда на бойцах намокла, стала тяжелой и неприятной. Вскоре люди буквально перестали узнавать друг друга, так как превратились в одинаковые, запорошенные снегом статуи. В разреженном воздухе было трудно дышать. Когда падали кони, груз с лошадей распределяли между бойцами.
Зечевич больше не выглядел подавленным. На его худом, заросшем щетиной лице не было видно и тени усталости. И все потому, что он знал, куда идет и зачем. Вообще это очень важно для человека – иметь перед собой цель. Мысли Влады перескакивали с одного на другое. В нем уже совершился внутренний перелом, хотя он этого еще не сознавал. Тот, кто ныряет в горный поток, не думает о подводных камнях. Плыть по реке смерти и думать о спасательном береге – наивно, смешно и недостойно воина. Однако, кто не надеется выплыть, тот не прыгает в волны, а остается на берегу наблюдать борьбу других со стихией. Легко не дается ничто в жизни, особенно свобода.
От холода и ветра люди совсем закоченели. Наконец на небольшом плато был сделан привал, и бойцы бросились разжигать костры.
Влада сбросил с плеч ящик с патронами, который он взял после того, как пала одна из лошадей, и уселся на него, пытаясь отогреть закоченевшие руки. Не успел он немного отдохнуть, как его позвали – комиссар созывал членов партии.
На небольшой поляне собралось около тридцати человек. Их лиц не было видно, и они различали друг друга по голосам. Вопросов, ждавших решения, было много, а времени мало. Поэтому требовалось излагать свои мысли кратко, говорить о самой сути. Жизнь диктовала свои условия, учила смотреть на опасность трезво, без страха и паники, как на естественное явление.
– Действия комиссара считаю правильными, – услышал Влада сильный голос Милана Лабуда и подумал о том, что сейчас, на этом месте, решается судьба их отряда, а может быть, и более того. – Комиссар действовал от имени партии. Каждый из нас на его месте поступил бы так же. Раз взяли в руки винтовки, значит, надо оторвать себя от домашнего порога, от жениной юбки и от коровьего хвоста. Нельзя победить сильного врага, если будешь разрываться между винтовкой и плугом, как нельзя спасти свой дом от пожара, если не защищаешь от огня дом соседа. Я думаю, что вы все такого же мнения?
– Хватит об этом, надоело, давай ближе к делу! – сердито крикнул Славка Костич. – Мы не для того собрались, чтобы болтовню слушать.
Лабуд повернулся в сторону Костича.
– Разве я не о деле говорю? Мы сегодня бросаем старый обычай, оставляем свои села, свой край и уходим в незнакомые места – в горы Рудник, а оттуда будем пробиваться в Санджак, на освобожденную территорию… – Лабуд на миг остановился, словно размышлял, стоит ли раскрывать все, что он думал и знал. – Мы не скоро вернемся назад, а многие из нас вообще не вернутся. Сегодня мы только начинаем новый этап нашей великой и трудной борьбы. Впереди долгий и тяжелый путь. Каждый должен твердо усвоить, что тот, кто не желает идти с нами, – тот против нас. Такова на сегодня обстановка. А тот, кто против нас, тот против своего народа, тот – предатель. И его ожидает смерть. Я говорю об этом потому, что между нами есть люди, которые не знают, как им поступить: пойти с нами или остаться. Эти трусы ставят личные интересы выше интересов нашей борьбы. В первую очередь это относится к товарищу Костичу, который хочет развалить отряд, посеять у бойцов сомнение, то есть довести отряд до гибели. Он испугался трудностей, потерял веру в победу.
– Коли так, чего с ним возиться? – крикнул кто-то из темноты. – Такого надо гнать из партии.
Получив поддержку, Лабуд еще смелее продолжал:
– Костич встал на путь предательства. Мы должны осудить его поведение, а его роту расформировать и по частям влить в другие подразделения отряда.
– Ты врешь! Все, что ты сказал, неправда. Спроси сначала моих бойцов, согласны ли они с твоими предложениями! – озлобленно крикнул Костич. – Не имеешь права самовольничать. Где ты был, когда создавалась наша рота?
– Когда отряд формировался, тебя в нем тоже не было. Так что вопрос о том, кто где был летом, ничего не меняет. Считаю дело решенным. Вы утвердили меня командиром отряда, дали мне власть, и я буду поступать исходя из обстановки и как считаю нужным для дела. Вы доверили мне свои жизни, и я сознаю свою ответственность. Если же придется отдать нам свои жизни, то я сделаю все, чтобы враг дорого заплатил нам за них, чтобы и в самую последнюю минуту мы сохранили честь и достоинство борцов за свободу. А теперь объявляю, что с рассветом идем на прорыв в направлении Кошутицы. Я пойду впереди. С собой возьму с десяток гранатометчиков, у кого рука потверже, и в качестве прикрытия несколько пулеметчиков. Не сомневаюсь, что пробьемся.
– И мы не сомневаемся! – крикнул Зечевич. – Записывай меня в передовой отряд.
После полуночи мороз усилился. Снег шел не переставая. Внизу, в долине, выли волки. «Итак, решено, – думал Зечевич, – отряд оставляет Космай». Все остальное казалось несущественным в сравнении с этим событием. Поэтому он плохо слушал выступления коммунистов, обсуждавших поведение Славки Костича, и машинально проголосовал за исключение его из партии. После собрания Зечевич вдруг обнаружил, что с удовольствием спешит вернуться в роту, которая стала для него всем: и домом и семьей. Без нее жизнь теряла смысл.
Бойцы сидели у костра, грелись, сушили одежду и обувь. Почти никто из них не спал.
– Влада, на собрании случайно не было разговора о том, дадут ли нам чего-нибудь поесть? – спросил Космаец, когда Зечевич расположился рядом с ним.
– Что ты болтаешь? – не принял шутки Влада и нахмурился. – На войне, дружище, приходится иногда потерпеть.
– Я понимаю, но что поделаешь, если есть хочется, – грустно произнес Космаец.
– Ничем не могу помочь, хлеба нет ни крошки, и вообще ничего из еды нет. – Влада почувствовал, что напрасно стал читать нотации Космайцу, и добавил участливо: – Потерпи до утра, чего-нибудь найдем, когда выберемся отсюда.
– Один бы кусочек чего-нибудь. – Космаец низко опустил голову.
Гордана, сидевшая невдалеке, вытащила из-под себя вещевой мешок и долго рылась в нем.
– Возьми! – Она протянула Космайцу кусок сахара. – Это мне на праздник дала одна старушка… Было четыре кусочка, но три я уже отдала раненым, а этот тебе, Рада.
Космаец протянул было руку, чтобы взять сахар, но тут же отдернул ее, словно обжегся.
– Нет, я не могу его взять, я же не раненый. – Он отвел глаза в сторону, чтобы побороть искушение. – Ты ведь тоже голодна, вот и съешь его сама.
– Кто тебе сказал, что я голодна? Я, правда, устала немного, и голова еще болит, но есть я не хочу.
Она взяла Космайца за руку и положила сахар ему на ладонь. Он, наверное, целую минуту смотрел на него, не зная, как поступить. Затем вынул нож, расколол сахар на мелкие кусочки и, взяв один себе, раздал товарищам.
– А это тебе, Гордана, – протянул он девушке ее долю.
Она рассмеялась и крепко обняла мальчика, прижав его к своей груди. Космаец не сопротивлялся и не возражал против таких нежностей, но щеки его густо покраснели.
– А ты знаешь, какой сегодня день? – спросила Гордана.
Космаец неопределенно повел плечами. Он давно потерял счет времени, словно жизнь проносилась где-то в стороне от него.
– Ну вот, а еще православным зовешься! – весело воскликнула Гордана. – Сегодня же рождество! До войны я очень любила этот праздник, – продолжала она негромко. – Соберемся, бывало, компанией и идем ночью на Калемегдан[18]18
Старая крепость в Белграде.
[Закрыть] костер жечь. Разведем большой-большой и играем вокруг него, песни поем. Веселились до самого утра. Да, а теперь кажется, что все это было очень и очень давно… Компания распалась, а многих из друзей и знакомых и в живых уже нет… Попробую заснуть, может, во сне увижу кого-нибудь из старых друзей.
Она прислонилась спиной к холодному стволу бука, закрыла глаза и вытянула затекшие ноги. Гордана была без сапог. Сквозь прохудившиеся чулки виднелись пальцы ног. Ее сапоги совсем развалились, и Лолич в очередной раз пытался хоть как-нибудь отремонтировать их.
– Пейо, да брось ты это бесполезное занятие, немного подлатал, и хватит, – сказала Гордана, щурясь от пламени костра. – Эти сапоги свое отслужили. У них от древности теперь не кожа, а что-то вроде бумаги: ткнешь сучком – и дырка. Как только в следующий раз четников разобьем, что-нибудь поищу для себя. Должна же у кого-нибудь из них быть маленькая нога! Спасибо тебе, Пейо, отдохни лучше.
– До рассвета еще далеко, успею выспаться, – ответил Пейя.
– Придется тебя разочаровать насчет сна, – вступил в разговор Зечевич. Он едва дождался, пока Пейя кончит возиться с сапогами Горданы. – Лабуд приказал отправить твой взвод в разведку. Идти надо немедленно.
– Вот так всегда: ты полагаешь, а тобой располагают, – полушутя, полусерьезно сказал Лолич.
Он взял винтовку, смахнул с нее снег, протер патроны и вставил их в магазин.
– Задание получишь от Лабуда… Если что, не беспокойся, мы будем поблизости, одного не оставим… Костер гасить не надо. Наоборот, наберите дров потолще, перед уходом бросим их в огонь. Четники наверняка наблюдают за нами – пусть думают, что мы еще здесь. Надо попробовать обмануть их и ударить по ним неожиданно.
Снег все падал и падал. Снежинки кружились в холодном воздухе, словно рой потревоженных пчел. Колонна партизан быстрым шагом спускалась вниз по склону горы, поросшей лесом. Причудливые силуэты деревьев мелькали перед глазами, будто тени. Опасность грозила отовсюду. Но пока лес молчал. Его тишину нарушало лишь поскрипывание снега под ногами.
Лолич со взводом шел впереди отряда метров на двести и регулярно докладывал Лабуду об обстановке. Он понимал, что сейчас от него зависело многое – надо было обнаружить четников, не открывая себя. Снег слепил глаза. Вытирая лицо от налипшего снега, Лолич в который уже раз отмечал, что его руки до сих пор хранили запах кожи сапог Горданы, которые он только что ремонтировал.
«Конец иллюзиям, – с горечью и сожалением подумал он, – конец мечтам и приятным сновидениям. Жизнь все ставит на свое место. Все вокруг меняется, и я тоже. Когда-то я мог смотреть на нее целыми днями, но не ценил этого. Теперь же счастлив, если увижу ее хотя бы издали. Все напрасно… О Гордане надо забыть, она предпочла другого. Как бы я хотел выбросить ее из головы, если бы мог! Видеть их вместе – выше моих сил. Но может быть, еще есть какой-нибудь выход?»
Лолич ломал голову над тем, как бы завоевать расположение и любовь Горданы, но все его варианты упирались в одно препятствие – в Лабуда. Пока Лабуд с Горданой, решил Лолич, ему нечего рассчитывать на успех. Он остановился и посмотрел назад в надежде увидеть Гордану. Мимо проходили, словно тени, бойцы его взвода. А на горе все еще пылали костры, оставленные партизанами. Они пурпурно пламенели на черном бархате ночи. Снизу казалось, что пожаром охвачена вся гора. Четники не давали о себе знать. Трудно было сказать, куда они подевались: то ли снялись со своих позиций и ушли совсем, то ли спрятались от мороза и снегопада в селах. Лолич подождал Лабуда, чтобы поделиться с ним своими соображениями, хотя видеть Лабуда ему не хотелось.
– Пока не знаю, что нам следует предпринять, – сказал Лабуд, выслушав Лолича. – Мимо села пройти незаметно нам, конечно, не удастся. Значит, надо бы напасть на них, пока они спят. Но они разместились в крепких домах, и так легко до них не добраться.
– Я думаю, надо выманить их на открытое пространство и заставить там принять бой, – предложил комиссар.
– А как это сделать?
– Надо послать в село взвод Лолича, и пусть они там начнут бой. Четники сразу поймут, что противник малочислен, и у них должно появиться желание прикончить его. Мы же всем отрядом устроим им засаду на высотке за селом.
– Пожалуй, ты прав. Другого выхода я не вижу, – согласился Лабуд. – Пейо, теперь все зависит от тебя. Подумай до рассвета, как все это осуществить.
– Задание понял, – ответил Лолич и растворился в темноте.
Вместе со взводом в село ушла и Гордана.
Пока все шло по плану. Лабуд убеждался в этом, обходя высоту, по гребню которой располагались роты его отряда. Одна из рот во главе с комиссаром ушла за овраг и там устроила отсечную позицию, чтобы ударить четникам во фланг.
– Без команды не стрелять! – предупреждал Лабуд, переходя от бойца к бойцу. – Ждите красную ракету. Подпустим их как можно ближе, забросаем гранатами и ударим в штыки… Проверьте оружие, приготовьтесь.
Лабуд старался казаться спокойным и уверенным. Волнение перед боем – дело обычное. Зато с началом боя он всегда ощущал прилив новых сил, а возникавшие вопросы решал быстро и четко. Лабуд все чаще посматривал на часы, но время, казалось, остановилось.
Между тем начинало светать. Вдруг из села донеслись первые выстрелы. Через минуту стрельба охватила уже все село, небо рассекали сотни трассирующих пуль.
Расчет комиссара оказался верным. Четники, решив, что им в руки идет легкая добыча, бросились преследовать взвод Лолича.
Лабуду было хорошо видно, как, отстреливаясь на ходу, отступал взвод Лолича. Вскоре он вышел к позиции отряда. Потерь у Лолича не было, за исключением одного раненого, которого Лабуд приказал отправить в лазарет.
– Едва ноги унесли, – рассказывал Лолич. – Когда мы открыли огонь, они повыскакивали из домов. Ну и паника поднялась! Слышишь, до сих пор орут.
Лабуд стоял на одном колене, укрывшись за кустом. В одной руке он держал ракетницу, в другой – гранату. Рядом с ним лежал ручной пулемет. Голоса четников приближались. Пули, как злые осы, свистели над головой, секли ветки кустарника. Справа и слева от Лабуда лежали в цепи партизаны, но он их не замечал. Сердце у него билось учащенно. Окружающая обстановка казалась какой-то нереальной. Время и пространство сплелись в единый узел. Напряжение достигло предела. Все его существо было охвачено стремлением одолеть врага и выжить. В сознании Лабуда то и дело возникал образ Горданы. При виде врага страх с Лабуда как рукой сняло. Он сразу успокоился и стал самим собой.
«Еще рано, еще не время, – говорил он себе, не отрывая взгляда от темных фигур неприятеля. – Надо подпустить их как можно ближе».
Четники продвигались быстро, почти бегом, а Лабуду казалось, что они стоят на месте. Свет наступавшего дня только-только коснулся неба и еще не очень четко отделил небосвод от земли. Четники шли группами человек по десять и представляли собой отличную мишень для гранатометчиков и пулеметчиков. Когда они приблизились к позиции отряда на расстояние пятьдесят метров, Лабуд выпустил ракету. Над высотой повис огненный купол, оттеснив темно-серое небо. Стали отчетливо видны черные силуэты четников, казалось, до них можно-достать рукой.
В мгновение ока гребень высоты превратился в огненный гейзер. Перед четниками пролегла смертельная преграда. Больше ничего не существовало, кроме взрывов гранат, ливня свинца, предсмертных криков и стонов раненых. Лабуд видел, как падали четники. Они валялись, словно снопы пшеницы, разбросанные по полю для просушки. Повсюду на снегу чернели темные пятна земли, выброшенной взрывами гранат.
– Товарищи, в атаку, вперед! – крикнул во весь голос Лабуд, заметив, что четники стали отползать назад.
Первым призыв командира поддержал Космаец. За ним поднялась вся цепь. Снег сыпал крупными хлопьями, словно спешил поскорее стереть с лица земли следы кровавой схватки. Космай почти не был виден, но Лабуд ощущал его присутствие, как понимал он и то, что опасность еще не миновала. Поэтому он спешил и требовал, чтобы бойцы шли как можно быстрее.
Не останавливаясь, отряд проскочил село, миновал поле неубранной кукурузы, спустился в овраг, а оттуда начал подниматься по склону горы. Лабуд потерял представление о времени. Он был весь мокрый от пота, плечо ныло от ремня пулемета. Ему уже казалось, что они в безопасности, когда рядом взметнулся столб камней и снега, поднятый взрывом гранаты. Другую гранату он успел поймать в воздухе и отбросить в сторону.
Немцы выскочили из тумана, словно привидения, всего в пятидесяти метрах от партизан и обрушили на них ливень из пуль и гранат. Лабуд бросился в ближайшую яму и открыл ответный огонь. В двух шагах от себя он увидел Владу Зечевича. Его лицо было залито кровью. Между ними лежало еще два неподвижных тела. Немцы не давали поднять головы, их пули вздымали снежную пыль. Вдруг Лабуд услышал выстрелы минометов и понял, что дела отряда совсем, плохи. Но он не собирался умирать и плотнее прижал к плечу приклад ручного пулемета.
– Отходите, я вас прикрою! – крикнул он бойцам, и в то же мгновение его ослепил свет разорвавшейся мины. Взрывной волной его перевернуло и отбросило в сторону. Ткнувшись лицом в снег, он потерял сознание.
Когда Лабуд пришел в себя, бой давно уже кончился. Небо по-прежнему было затянуто облаками, но снег прекратился. Кругом стояла тишина. Лабуд повернул голову и увидел рядом с собой нескольких раненых бойцов, сидевших около костра. Повсюду валялось оружие и снаряжение, на белом снегу выделялись кровавыми пятнами использованные бинты.
Собравшись с силами, Лабуд встал. Ноги дрожали от слабости, в голове шумело.
– Гордана, где мы находимся? Где комиссар? – спросил Лабуд. Но Гордана была занята перевязкой раненого и не слышала его вопроса.
– Комиссара больше нет, – вместо Горданы ответил Космаец. – Мы его похоронили вон у того дуба, – показал он рукой в сторону высокого дерева метрах в сорока от костра. – Эх, не увидим мы больше нашего любимого товарища Шумадинца.
Лабуд, шатаясь словно пьяный, добрел до могилы комиссара и сел на землю, обхватив голову руками. Все его существо протестовало против случившегося. Но отрицать очевидное было невозможно – отряда больше не существовало. От него осталась горстка людей, к тому же в большинстве своем раненных и контуженных. Лабуду казалось, что бойцы и командиры смотрят на него с презрением и укором, что ему больше не доверяют. Их молчание он воспринимал как осуждение.
Его приговор самому себе был скор и решителен. Лабуд вытащил из кобуры пистолет и посмотрел на него долгим взглядом как на спасителя. Темное дуло пистолета обещало освобождение от всех тягот и забот. Лабуду не было страшно – он чувствовал какое-то беспредельное опустошение. Холодный металл ткнулся в висок, и в этот же момент щелкнул курок. Звук удара спускового механизма о патрон прозвучал для Лабуда как выстрел. Но самого выстрела не последовало. Осечка! Лабуд, сохраняя самообладание, перезарядил пистолет и даже посмотрел на траекторию испорченного патрона и место его падения. Но проделывать все во второй раз ему было нелегко. Сейчас в патроннике находился последний патрон. «А если и он откажет? – пронеслось в мозгу Лабуда. – Нет, такого не бывает!»
Действительно, второй патрон был исправен, и Лабуд не понял сначала, что же произошло. Он, казалось, сделал все, как надо: поднес пистолет к виску и нажал на спуск. Прогремел выстрел, но Лабуд не ощутил ни удара, ни боли. Ему показалось, что сердце его не выдержит и разорвется. Он открыл глаза и увидел около себя Гордану. Она была бледная как полотно. В самый последний момент ей удалось отвернуть в сторону ствол его пистолета. Сейчас она смотрела на Лабуда с укором.
– Милан, разве нет другого выхода? Зачем же так?
Лабуд в сердцах бросил пистолет в снег.
– Не знаю, видно, нет, – ответил он негромко. – Зачем жить, если отряда больше нет? Ты же видишь, сколько нас осталось.
Гордана опустилась на колени и взяла его руки в свои.
– А мы разве не отряд? – спросила она со слезами на глазах. – Действительно, нас осталось мало, но это совсем не означает, что с нами покончено. Вот увидишь, отряд снова возродится… А тебя я не понимаю. Как ты мог решиться на такую глупость! Это непохоже на тебя. Ты должен жить хотя бы ради меня, ради нашей любви, если ничего другого у тебя не осталось!
– Лабуд поступил правильно, – вступил в разговор Пейя Лолич, сидевший недалеко от Лабуда, к нему спиной. – На его месте каждый сделал бы то же самое… Как хотите, но рано или поздно он свое получит. Такие вещи безнаказанно не проходят.
Гордана гневно посмотрела на Лолича, почувствовав, как у нее перехватило дыхание.
– Сколько народу погибло, и кто-то должен за это отвечать, – продолжал Лолич. – Я не знаю, кто в этом виноват, и не хочу быть никому судьей, но уверен – придет время и виновного найдут, даже если к тому времени его не будет в живых.
Лабуд посмотрел на Лолича и усмехнулся. Он не стал ничего ему говорить, так как видел его насквозь. Беспричинные обвинения Лолича пробудили Лабуда, вызвали у него желание действовать. Лабуд встал. Перед ним была жуткая картина минувшего боя. Но он снова был самим собой и знал, на кого ему следует опираться. Угрызения совести больше его не терзали – все это отошло на задний план. Сейчас надо было действовать, продолжать борьбу.
Несильным голосом Лабуд отдал команду готовиться к движению. Бойцы, словно давно этого ждали, начали собираться и вскоре построились в две шеренги.
Наступал вечер, когда остатки отряда двинулись в далекий путь. Лабуд снова шел впереди, неся на плече ручной пулемет. Слова Лолича не выходили у него из головы, больно ранили душу, но он не искал оправдания. Полностью сознавал свою вину и, когда пришло время, без ропота принял наказание.
…И вот теперь, много лет спустя, уже искупив вину, Лабуд часто возвращался мыслями к прошлому. В долгие часы тяжелого одиночества он лежал с закрытыми глазами и возрождал в памяти давно минувшие события, образы боевых друзей и товарищей. Люди, с которыми ему пришлось воевать, возникали откуда-то из глубин небытия, следовали в его памяти один за другим. Их было много, очень много – десятки сотен. Но самыми дорогими остались для него те, с которыми он провел первые дни и месяцы войны, с которыми пережил первые поражения и первые победы: Гордана, Зечевич, Шумадинец, Марич, Космаец, Лолич тоже… Чаще, чем других, Лабуд вспоминал Космайца. Когда отряд Лабуда вырос в бригаду, которая отважно сражалась с врагом в каменистых теснинах Боснии, Космаец все мечтал вернуться в родные места, на свою любимую гору. И он добился своего, правда уже в конце войны, будучи командиром роты. После этого следы его затерялись, и теперь с Лабудом осталась лишь Гордана.
В открытое окно врывался шум города. Пахло молодыми листьями и цветами. С каждым днем листья на деревьях увеличивались и вскоре почти полностью закрыли голубое небо, видимое из окна комнаты Лабуда. Шепот листьев Лабуд воспринимал как последнюю песню.
Осталась за порогом еще одна зима, последняя для него. Он знал это и не терзал себя напрасно. Его увядшее лицо и потухшие глаза были спокойны и, казалось, говорили, что все идет так, как должно было идти. Маятник настенных часов неторопливо отсчитывал секунды. Солнце клонилось к закату. Это был его закат. Когда в комнату поползли предвечерние тени, перед Лабудом снова стали возникать картины минувшего. В жизни бывают события, о которых человек не может вспоминать без отвращения, но забывать которые он не имеет права. Всякий раз, стоило ему закрыть глаза, откуда-то, словно из другой жизни, до него доносился холодящий душу вопрос: «Признаете ли вы себя виновным? – Этот лицемерный голос ему не забыть никогда. – Обвиняемый, вы должны сказать суду, признаете ли вы, что, будучи солдатом старой армии, убили руководителя молодежной организации?..»
Лабуд понимал, что тень от преступления сохраняется дольше, чем сияние подвига, и что за преступлением рано или поздно следует наказание.
«Да, признаю…»
«Вы признаете, что в тысяча девятьсот сорок первом году совершили предательский акт в отношении своего народа? Вам вменяется в вину то, что вы, намереваясь деморализовать отряд, бросили беженцев, которые в тот же день попали в руки четников и все погибли…»
Он ничего не отрицал, не пытался защититься, не сваливай вину на тех, кого уже не было в живых, и в глубине души гордился тем, что имеет возможность принять часть вины погибших на себя. Он помнил, что те, погибая, не пытались делить одну смерть на двоих. Теперь Лабуд так же принимал приговор, как они приняли смерть.
«Да, признаю…»
«Вы признаете, что по вашей вине в сорок первом году был уничтожен партизанский отряд, оставленный Верховным штабом для выполнения специального задания?»
«Да, признаю…»
«Суд удаляется на совещание…»
И пока судьи совещались, он сидел в холодном зале суда, где все кресла, были пусты, и думал о Лоличе. Пейя был единственным живым свидетелем, ему принадлежало решающее слово. И его голос громко звучал на суде. Лолич ничего не прибавлял, ничего не преувеличивал и не приглаживал: он хотел быть объективным. Лабуд не обиделся на него.
Последний раз они встречались вскоре после окончания войны. Лабуд в то время командовал бригадой. Лолич был редактором одной газеты. В тот день им вручали награды: Лабуду – орден «За заслуги перед народом» с золотыми мечами, Лоличу – медаль. Он еще сказал тогда с недоброй усмешкой: «Интересно, за какие заслуги тебе дали такой орден?»
Сейчас все ордена были подшиты к делу. Шесть орденов и две медали. На кителе от них остались дыры, словно рубцы от ран. За каждым орденом – десятки подвигов, за каждой медалью – по три ранения, но сейчас это не принималось в расчет. Все это кануло в бездну, которой некоторые боятся и обходят далеко стороной… И там, на острове, где все залито солнечным светом, для него был один мрак. Независимо от того, закрывал он глаза или открывал, мрак не рассеивался.
За окном пробуждалась весна, сияло солнце, было тепло, а его пробирал холод, и не было возможности согреться. Он очень любил жизнь, страстно хотел жить, но смерть была уже на лестнице. Только он сам, и никто другой, слышал ее шаги. С каждым часом она подходила к нему все ближе и ближе, уже постучалась в дверь, но он не хотел ее впускать.
– Завтра я встану, и мы пойдем в парк, – каждый вечер говорил Лабуд Гордане, которая не отходила от него ни на шаг. – И будем гулять целый день. Я нарву тебе сирени.
Она знала, что этого уже никогда не будет. Действительность опровергала иллюзию. Гордана брала его холодную руку, прижимала ее к своей груди, целовала без слов. Он устало смотрел куда-то мимо нее, словно всматривался в даль.
– Дорогая моя, помнишь ли ты?.. – начинал он тихим голосом. Это «помнишь ли» было теперь стержнем их жизни. Всего остального просто не существовало. Для них теперь все было в прошлом. Они так и говорили: «до войны», «до нашей встречи», «до нашего расставания» – и ни слова о своей жизни теперь. Сегодня, как и завтра, рисовалось им в каких-то неясных, размытых контурах. Все чаще Лабуд впадал в меланхолию и позволял себе всякие несуразности. Гордана понимала его состояние и не сердилась. Когда женщина действительно любит, она никогда не сердится на мужчину.
– Ты меня прогоняешь? Хочешь, чтобы я вернулась к нему?
– Да, тебе со мной не по пути. Нам надо расстаться.
– Значит, не любишь больше? А ведь как клялся…
Слабыми пальцами он брал ее за руку, но сжать не мог: не было сил.
– Я люблю тебя больше, чем раньше. Но одной тебе будет трудно.