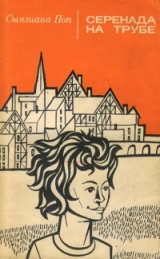
Текст книги "Серенада на трубе"
Автор книги: Сынзиана Поп
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
– Ну и что? – сказал он и посмотрел на часы. – Я тебя подожду!
Он остался сидеть рядом со мной, засунув руки в карманы, а я так хотела, чтобы он еще раз поднял руку. Но он сидел неподвижно в пальто с двумя рядами металлических пуговиц.
– Когда ты кончишь, – сказал он, – я дам тебе шкуру. Хочу, чтобы здесь прошла рыжая лиса.
– Я кончила. Все. Я проплакала почти час.
– Нет, – сказал он. – Полчаса.
– Все. Я кончила. Дай мне шкуру.
Я облачилась в шкуру и стала размахивать хвостом, туман тем временем рассеялся, и я плавала среди серебристых клочков вуали, я танцевала, а Ули отчаянно хлопал в ладоши: «Не оборачивайтесь, там рыжая лиса, не оборачивайтесь, там рыжая лиса», – и: «Внимание, руки вверх, стреляю!»
Я подняла руки и стала отступать, а он шел на меня, вытянув руку, как пистолет. Потом я ударилась о березу, Ули подошел, и снег, упавший с веток, побелил его волосы.
– Паф! – произнес он, и я упала на землю. Он упал рядом, мы лежали на спине, а над нами были серебряные деревья. Потом я закрыла глаза, а когда открыла, он приподнялся на локте и меня разглядывал. И улыбался. Он улыбался, и точно кто–то зажег ночник в только что начавшемся снегопаде.
20
Я встала ногами на скамейку и вначале уселась на спинку, а потом – на сидение, подтянув ноги к груди. Гораздо легче думать, когда голова лежит на скрещенных руках, оцепенение неприятно только вначале, со временем входишь в него, как в жизнь, и даже трудно себе представить, что когда–то было по–иному. В особенности если твои мысли – как куры леггорн, вскормленные на зеленом поле: толстые и белые, настоящие корабли с раздутыми парусами. А Белокурый Ули гармонировал с пейзажем, окружающими его вещами и даже с природой; аллеи парка были пустынны, после четырех прошло только полчаса, и одна лишь осень цеплялась еще за деревья.
Я расположилась поудобнее и продолжала вспоминать: тогда мы просто ушли с кладбища, и никто из нас не сказал, что было бы лучше пройти через туннель, хотя склон кладбища был скользкий и мы несколько раз упали. Потом мы расстались под фонарем, который я погасила, чтобы горел один только Ули. Я дважды оборачивалась назад, пока дошла до угла улицы, и он, Белокурый Ули, продолжал стоять там, на снегу.
Да, я отдала бы все на свете, чтобы снова оказаться с ним в туннеле. Чтобы мы снова вышли вместе с одиннадцатым классом, и я была бы тем самым агнцом в руках Христа. Чтобы Ули схватил меня за руку на 143‑й ступеньке. И так далее. Не знаю, что было бы дальше – может, поцелуй, как в фильмах, – но для него мне непременно бы понадобились распущенные длинные волосы, хотя, пожалуй, сошли б и короткие. И даже мой остриженный чуб. И все–таки здорово было бы иметь развевающуюся на ветру гриву. Выйти следом за Ули через нижний выход туннеля и на секунду опустить голову на его плечо. И чтобы был небольшой ветер, только легкое дуновение, разметавшее волосы по форме лицеиста. А потом мы спускаемся в Крепость, к церкви Биккериха и даже на минуту входим в нее, потому что там тень, и свет падает только у окошка, и мне очень нравится взрыв рыжего и золота на фоне аккордов Баха. И еще я хотела бы иметь божественный голос, контральто, один из тех голосов, от которых бьются стекла во время службы на Рождество. Чтобы я пела одна посредине собора, и все дамы, одетые в черное, и господа в очках с тонкой золотой оправой вытирали бы слезы батистовыми платками. А дети дергали бы за шнур колокольчики. И все, как полагается, делали б книксен. И чтобы потом меня поздравил сасский пастор, отец Ули, – да, я и забыла: особенно здорово петь этим невероятным голосом в его церкви. Думаю, у меня хватило бы смелости посмотреть ему прямо в глаза, хотя он никогда не смеется, и я просто не могу себе представить, как он родил четырех детей. У него, кроме Ули, три дочери. Я их знаю, я видела их в церкви на коленях в платьях из органди, но пастор ни разу не взглянул на них. А они ведь его дети. О, будь мой отец сасским пастором, он бы все время подмигивал мне, а иногда и целовал бы меня по–своему – знаете, в висок, потому что ведь только с Мутер они целовались, словно сумасшедшие, в рот. Так что я не могла себе представить, как отец Ули пьет кофе с молоком, как одевает пижаму, как идет в клозет, просто совсем не могла себе его представить иначе, чем вылезающим даже из–под одеяла по утрам в башмаках и с очками на носу. Да, есть люди, которых я никак не могу вообразить себе, например, спящими, в моем представлении они всегда бодрствуют, как куклы с незакрывающимися глазами. Так и смотрят на тебя не мигая, и уж лучше бы у них не хватало руки или ноги. К калекам я всегда испытываю нежность. А строгих людей – боюсь. Но они–то и есть избранники божии. И почему только богу нужна такая дисциплина? Во всяком случае, немецкий бог со своими белокурыми, тонконосыми, коротко остриженными пасторами мог бы завоевать Рим. Отец Ули – один из них, но Ули на него не похож, Ули, попади он в рай, развел бы там повсюду белую акацию. И сидел бы под ней, держа меня за руку. Хотя рыжий не слишком подходит к цветам рая. Но Ули такой. Для него не существует закона.
Передо мной на аллею упал каштан, упал и лопнул, хотя время каштанов еще не пришло. У телят глаза из каштанов, и иногда у коров, если они сонные. А когда проснутся, то похожи на старых американских дам.
Я решила поднять каштан, но для этого надо было встать. А мне хотелось еще посидеть на скамейке – больше нечего было делать, хотя, может, было бы лучше пойти в городской автопарк и там на ступеньках ждать весь вечер и всю ночь утреннего рейса в горы. Но нужно было еще зайти в пансион святой Урсулы, у меня там на кровати остался рюкзак, а я не могла туда вернуться до вечера. После обеда у девочек семинары, по коридорам школы циркулируют старосты, может, среди них та тощая, которую я встретила в «Вари» и которую совсем не хотела больше видеть. Слишком уж хорошо организовала она экскурсию на «явление природы», а мне совсем не нравятся типы с организаторскими наклонностями. Мне следовало бы сказать «типицы», но безгрудые барышни – это всегда деревянные кони, а конь, как известно, мужского рода. И Мезанфан была конем, когда–нибудь я все–таки куплю ей кожаную упряжь, – ах, люди так напоминают животных!
Я снова опустила голову на колени, но посторонний шум привлекал мое внимание, кто–то шел по гравию аллеи, и я не глядя, по шагам никак не могла угадать, кто. Потом я посмотрела – шла нянька с детьми. Нянька была толстая, а дети маленькие. Совсем маленькие, она тащила их за руки, потому что они только учились ходить. Но они не плакали, может, были приучены, няньки ведь такие специалистки воспитывать детей.
– Посмотрите, каштан, – сказала я, когда они поравнялись со мной. – Дайте им, пусть поиграют. Им это доставит удовольствие. Все–таки ведь дети.
– Что? – удивилась она и вытаращила на меня свои глаза–пуговицы.
– Каштан.
– Какой каштан?
– Тот, который упал раньше других.
– Упал каштан? – От удивления она воздела руки, и двое детей загромыхали на весу, как кастрюли.
– Да.
– Какой каштан?
– Да вот он. – И я показала на него.
– О–о–о! Каштан! – воскликнула она.
– Вы воспитываете детей? – спросила я, и она сказала «да» и полузакрыла свои пуговицы.
– Посидите со мной, – попросила я, – мне хотелось бы с вами поговорить. Я никого не знаю в городе, и дайте детям каштан.
– Каштан? – удивилась она.
– Каштан.
– Какой каштан?
– Да вот он, – сказала я и показала пальцем.
– Упал? – мило удивилась она.
– Упал. Поторопился.
– О–о–о! – сказала она. – О–о–о! Каштан.
– Присядьте, – попросила я, – присядьте. Она села.
– Пускай дети поиграют, – сказала я.
– Играйте, – сказала она, и малыши тупо уселись.
– Поиграйте с каштаном, – сказала я, – он очень красивый.
Они подняли головы, и из их носов ниточками потянулись сопли. А няньке не сиделось на скамейке, мы говорили с ней, но она смотрела куда–то в сторону.
– Вы кого–нибудь ждете? – спросила я.
– Да, – сказала она. – Все равно кого. – И вздохнула. – Все равно кого.
Я кивнула на детей.
– Вам они нравятся такие, с сосульками?
– С сосульками?
– У них из носа течет, разве не видите?
Она начала меня раздражать. Кроткая, как симментальская корова.
– Да, – сказала она. – Они простудились. Уже осень.
–. Одевайте их теплее. Где это видано – дети осенью в песочниках?
– Вы не видели? – удивилась она. – Боже мой! Как же так? Посмотрите на детей. Они в песочниках.
– Ох, вы очень умны, – сказала я. – Очень умны. Думаю, она не слышала: она исследовала все аллеи парка, которые можно было увидеть с нашей скамейки.
– Вы сидите повыше, – сказала она, – ничего не видно?
– А что должно быть видно?
– Кто–нибудь, все равно кто, может в любую минуту прийти.
– Нет, – успокоила я ее, – никто не идет. – Но нянька еще больше заволновалась, она сидела очень прямо на скамейке и вертела головой и глазами–пуговицами во все стороны. Но потом появился велосипедист. Он вел велосипед за руль, потому что гравий был мягкий и шины проваливались. Нянька застыла. Велосипедист тоже повернул голову и остановился. Они посмотрели друг на друга, потом он пошел дальше, а нянька кинулась за ним.
– Эй, я ничего не имею против, – крикнула я, – но не забудьте этих дохляков. Я ухожу.
– Pas d'importance, – произнес тут один из малышей и сделал усталый жест… – Cest toujours la même chose[55]55
Неважно, всегда происходит одно и то же (франц.).
[Закрыть].
Я разинула рот и ничего не могла сказать и тогда, когда нянька в первый раз проследовала на руле счастливого велосипедиста. Но во второй раз я окликнула ее, хотя она вела велосипед, не знаю, куда девались руки этого типа, и, во всяком случае, момент был опасный.
– Сестрица, откуда эти два дохлячка знают иностранные языки? Понятия не имеют, что такое каштан, а французское произношение у них прекрасное.
Но она не ответила мне и только на шестом кругу, уж не знаю, кто из них – нянька или велосипедист, в общем, комбинированное видение крикнуло, что это дети господина примаря. И тогда я поняла и усадила их на скамейку, потому что весь город знает, какой он полиглот. И я хотела уйти, но нянька не появлялась, а появившись, села на скамейку и поспешно спросила:
– Вы сидите повыше, никто там не едет?
– Едет, едет танкист.
И – вот ей–богу – по аллеям парка ехал большой танк, но нянька умела водить и танк, и она потом водила и турбореактивный самолет. Она сидела за рулем и смотрела во все свои пуговицы, а у этих ее личностей куда–то исчезали руки. Но что это были за пуговицы, о господи, два круглых глаза, как пуговицы от пальто!
21
– Жаль, что город не выходит к морю, – сказала я няньке. – Вы могли бы вести пароход. Вы смогли бы его вести, ведь правда?
– И моряки тоже люди, – ответила нянька. – Ей–богу, они все–таки тоже люди.
– Ну да, и, однако, танкист… Верно? Танкист на аллее…
– Кто–нибудь, все равно кто, может в любую минуту прийти, – сказала она и закрыла ставнями свои пуговицы, как у Бетти Буп.
– Ах, а я‑то не могла понять, на кого вы похожи! – сказала я. – Вы знаете Бетти?
– Нет, не знаю.
– Жаль, она работала только с моряками. А Поппи, у которого стальные мышцы, вы тоже не знаете?
– Нет.
– Жаль. У него были такие мышцы…
– Вы сидите повыше, – сказала она, – там ничего не видно?
– Как же, видно. Приехал оркестр, который обычно играет на террасе.
– На инструментах я не умею играть, – сказала она, и в голосе ее звучало глубокое огорчение. – До свидания, теперь я пойду.
– Allez vous en, allez vous en, dépêchez![56]56
Ну, пошли, пошли, торопитесь (франц.).
[Закрыть] – басом сказал один из ее воспитанников и, еще до того как нянька поволокла их, с ненавистью пнул ее ногой.
– Бедная вы, несчастная, – сказала я няньке, – когда уж эти малыши научатся ходить…
Я посмотрела им вслед, а когда повернула голову, те четверо оболтусов, с которыми я познакомилась на улице, стояли передо мной.
– Как поживаешь, Пинелла, все околачиваешься здесь? А мы тебе до лампочки?.. Не годится.
Все они курили и пускали дым мне прямо в лицо.
– Хватит! – сказала я. – Я не ветчина из кладовки вашей матушки.
– У нас ведь мамаши разные, – сказал все тот же, и, я думаю, это был их Шеф.
– Ты Шеф? – спросила я.
– Да, и спускайся со скамейки, что за манера держать колени у рта? Ты можешь простудиться. Снизу дует.
– Не дует, мне так очень хорошо, не беспокойтесь.
– Дует, – сказал Шеф и одним движением стащил меня со скамейки. – Я сказал тебе, что дует.
Я упала на гравий и содрала колени. Тело у меня затекло, я не могла сразу подняться и так и стояла на коленях.
– Ты просто идиот, Шеф, – сказала я. – Толкучка на улице кончилась?
Снизу все четверо казались силачами, на них были короткие кожанки, и они стояли, выставив вперед ногу. Правую ногу. Но мне еще не было страшно.
– Кончилась, – сказал Шеф. – Мы принесли тебе то, что ты забыла.
– Я ничего не забыла. Я ведь аист.
– Точно, – сказал он.
– Да, да. Спасибо.
– Пожалуйста, – сказал он и ухмыльнулся. – Пожалуйста.
Я встала и хотела сесть на скамейку, но Шеф схватил меня за руку.
– Пошли с нами на прогулку, – сказал он. – Я ведь сказал, ты что–то забыла в толпе. Если прогуляешься с нами, получишь все назад.
– Я ничего не забыла.
– Дорогая Пинелла, – сказал он, – а улыбка? Разве ты не сказала, что она тебе знакома?
– Да, я знала ее, но это неважно. Я прекрасно ее себе представляла, честное слово.
– А–а–а! У нас и честь есть, – сказал Шеф и снова улыбнулся, и остальные тоже улыбнулись.
– Ты настоящий Шеф, – сказала я, – смотри, как тебе подражают. Как будто вас размножили на ротаторе. Но вам идет. Ей–богу, идет.
– Берегись, Шеф, – сказал один из них, – она бьет на человечность, и, если так пойдет, она победит.
– Меня? – спросил Шеф и снова ухмыльнулся. – Дорогая Пинелла, я уже объявил тебе – идем с нами.
– Куда?
– В лес. Это недалеко, здесь нам могут помешать.
– Я не пойду в лес. Мне совсем неохота гулять.
– Давай, Пинелла, давай, – сказал тип и взял меня под руку. – Скоро вечер, и становится холодно. Дует ветер, а мы не взяли с собой одеяла.
– Какое одеяло?
– Ведь не будем же мы просто прогуливаться под деревьями, Пинелла, ты что, ребенок? Сколько тебе лет?
– Пятнадцать!
– Пятнадцать? Потрясно! Нет, как это ты умудрилась дожить до таких лет, а? Ну, Пинелла, не ломайся.
Они потянули меня на аллею, а я сопротивлялась, но не могла справиться со всеми четырьмя вместе и кричать тоже не могла, мне было стыдно, я никогда не кричала, ни разу не пикнула, когда Командор бил меня, хотя он здорово хлестал меня ремнем по ногам и по рукам, по тем местам, где кожа потоньше. Ну а потом я перестала сопротивляться, и мы все впятером пошли по аллее в таком порядке: двое слева, двое справа и я посредине. Можно было подумать, что мы закадычные друзья. Потом я вдруг вырвалась и побежала, но они тут же меня схватили, и Шеф серьезно пригрозил мне:
– Без фокусов, Пинелла, ведь в конце концов мы можем рассердиться.
Я вспомнила зловещую тишину в комнате Эржи, и мне стало плохо.
– Не пойду я, оставьте меня в покое, что вам от меня надо? Я ничего плохого вам не сделала.
– Что–то ты разнюнилась, – сказал тип, – ведь вначале вела себя, как настоящая леди.
– Я вам ничего плохого не сделала.
– И мы тебе ничего не сделаем, вот увидишь. А потом проводим тебя домой, до самых ворот, мы ведь джентльмены – какого черта, parole d'honneu[57]57
Честное слово (франц.).
[Закрыть].
– У меня нет дома. И мне не нужны джентльмены. Вы просто мерзкие свиньи. И вообще это стыдно – заставлять человека делать что–то против его воли. Если хотите знать, я убежала из дому. Как раз потому и убежала. Как раз потому.
– О, – сказал Шеф, – ну тогда просто великолепно, у нас в распоряжении целая ночь. Дорогуша, почему ты не сказала сразу? Понимаешь, очень важно морально подготовиться. И не называй нас больше свиньями, потому что вот… И, сказав это, он прижег мне руку окурком.
Я не заплакала и даже не вздрогнула, я привыкла к боли, и Шеф был удивлен. Он был немного удивлен, и на этом, пожалуй, оказался в проигрыше, с этого момента я начала уже брать верх.
– Ладно. Пошли, господа джентльмены, если уж вы настаиваете! – сказала я и раздвинула локти, предлагая взять меня под руки. – Не тревожься, Шеф, если поплевать, то пройдет. Вот так. – И я лизнула ожог, который страшно саднил.
В этот момент в конце аллеи появился юноша, и я тут же поняла, что это Якоб – Эниус-Диоклециан.
И меня захлестнула такая радость, что тогда самая большая опасность была расплакаться. Но я удержалась и крикнула ему вслед, потому что он шел, опустив голову. Наверное, повторял в уме музыкальную фразу, а может, и разучивал ее, у него в карманах брюк всегда были нашиты клавиши.
– Хелло, Якоб, – крикнула я, – я тебе звонила сегодня утром. Сестра говорила?
Он поднял голову и, казалось, совсем не удивился, увидев меня под руку с оболтусами.
– Как поживаешь? – спросила я.
– Спасибо, хорошо, – сказал он. – А ты как поживаешь?
– Они хотят увести меня в лес, – сказала я. Нужно было сказать об этом, Якоб – Эниус-Диоклециан, казалось, был совершенно на другом конце света.
– Зачем вам в лес, – сказал он, – там будет холодно.
Оболтусы молчали. Не знаю, о чем они в эту минуту думали, во всяком случае, они крепко держали меня за руки, хотя Якоб – Эниус-Диоклециан был довольно сильный парень. При желании мы вдвоем могли бы разделаться со всеми четырьмя.
– Ты еще играешь на рояле? – спросила я. – Мне жутко нравится тебя слушать.
– Да, – сказал он, – разумеется. Играю.
– Никогда не слышала, чтобы кто–нибудь так играл, как ты. Как это ты делаешь?
– Просто–напросто упражняюсь. Но я вас не задерживаю, – сказал он, – я тороплюсь.
– Якоб, – попросила я, – подожди немного. Мне совсем не хочется идти в лес.
Он посмотрел на меня очень внимательно, потом на оболтусов и, хотя ситуация была совершенно ясна, сказал:
– До свидания. Если не хочется, то зачем ты идешь?
– Не я иду, посмотри получше, Якоб, ты все еще не понимаешь?
– Ничего не понимаю, – сказал он, – и я спешу. До свидания.
Мне стало вдруг так мерзко, что меня чуть не вырвало тут же, на месте.
– Якоб, – сказала я, – ты понимаешь, теперь уж я никогда не смогу тебя слушать. Вся твоя музыка – сплошная фальшь. А ведь раньше я бы, кажется, слушала тебя всю жизнь.
– Прости, но я очень тороплюсь. В половине шестого у меня урок.
– Алло, маэстро, – сказал Шеф и схватил Якоба – Диоклециана за левое плечо. – Мы уводим Пинеллу и лес, понятно? Мы уводим ее. Пинелла, дорогая, ты хочешь с нами идти?
– Хочу. Оставьте его в покое. Конечно, хочу.
– Послушай, парень, – сказал Шеф, – на чем ты вкалываешь?
– На рояле, – сказал Якоб, и голос его задрожал.
– Ладно, – сказал Шеф, – отполируй мне ножную клавиатуру.
И, плюнув на застежки ботинок, указал на них пальцем.
– Ну что ж ты, пианист, разучился играть? Давай нажимай.
– Оставь его в покое, Шеф, прошу тебя, не то меня стошнит.
– Без фокусов, Пинелла, – сказал он. – Давай, мусью.
– Оставь его, – сказала я и потянула Шефа за рукав. – Прошу тебя, оставь.
Но тут Якоб присел на корточки, вынул из кармана платок и принялся вытирать ботинки Шефа. А потом другие оболтусы тоже вытянули ноги, и Якоб с ангельским терпением и с таким рвением начистил их ботинки, что небо и птицы небесные засверкали в их глянце.
– All right[58]58
Ладно (анг.).
[Закрыть], – сказал Шеф и бросил несколько лей на песок. – Собирай и проваливай.
И Якоб собрал монеты и смылся, хотя я сказала:
– Не может быть, это ужасно, Якоб, ты так прекрасно играл, это слишком большая, гигантская плата, «Impromtu» Шопена столько не стоит.
Но он не ответил и уходил все дальше по аллее, как будто ничего не случилось. Я печально смотрела ему вслед, пахло ладаном, и не хватало только цветов и родственников в черном, потому что как раз заиграл духовой оркестр, и все остальное для похорон было.
– Эй, – сказал Шеф, – у тебя кто–то умер?
– Да, Шеф, а я думала о нем с таким удовольствием, мне казалось, что он этого избежал. Это все было из–за музыки, но теперь… Не очень–то сподручно носить траур по воспоминаниям.
– Знаю, – сказал Шеф, – такое и со мной случалось. Из–за матери. Сперва я хотел ее прикончить, потом успокоился и сам купил ей фонарь. Сверкает у нашей двери, как маяк. На улице ночь, а у нас до зари сияет красный фонарь.
– Ладно, Шеф, кончай, я слишком расстраиваюсь, лучше идем.
И мы все пошли по аллее, продолжая держаться под руки, но радость жизни ушла, это было видно даже по тому, как мы шли, точно пьяные, качаясь из стороны в сторону, или как больные, для которых уже гаснет свеча. И только духовая музыка порывами подгоняла нас, затем она неожиданно перешла в торжественный вальс. А мы продолжали тащиться, хотя лес был далеко, а вечер – уже на носу.
– Мне жаль, что я вас огорчила, – сказала я, – честное слово, жаль. Вы были вначале так веселы. Но Якоб…
– Но говори, не говори, – завопил Шеф и кинулся к ближайшему кустарнику.
– Ей богу, типичное не то, – сказал второй и ринулся туда же, а за ним и другие, и всех четверых вырвало у обочины дороги.
– Ну и крепкий же у тебя желудок, – сказал мне потом Шеф, он был желто–лилового цвета, – а я чертовски чувствительный к таким вещам.
– Ты джентльмен, Шеф, честное слово.
– Давайте, ребята, сядем, мне что–то нехорошо. Мы все сели, и им действительно было очень плохо, прислонившись к спинке скамейки и вытянувшись, они ловили ртом воздух. Они напоминали тех рыб, которые тем больше задыхаются, чем шире раскрывают свои напоминающие зонт жабры.
– Как мне вам помочь, Шеф? – спросила я. Он не ответил, и тогда я сделала им но очереди искусственное дыхание и таким образом привела их в чувство.
– Черт возьми, – сказал Шеф, – подумать только, что может случиться в парке!
– Говорили мы тебе, что надо работать на вокзале! – сказал один из оболтусов. – Территория присоединенная, надежная. А тебе подавай high life[59]59
Светская жизнь (англ.).
[Закрыть].
– Страсть как охота чего–то новенького, – сказал Шеф. – Вокзал уже в наших руках. Мне нужен размах. Но никогда не знаешь, что тебя ждет.
– Тут не без подвоха, Шеф, я тебе с самого начала сказал. Недовольному… ну, ты сам знаешь.
– Знаю, – сказал Шеф, – но что поделать, тянет меня на новые земли, сами знаете, человека влечет неведомое.
– Так мы не идем в лес? – спросила я.
– Не переводи разговор, Пинелла, и что было бы в конце концов, если б ты присоединилась к нашей шайке? Мы берегли бы тебя от сюрпризов. Таких якобов, знаешь ли, хоть пруд пруди.
– Я в трауре, – сказала я и опустила руки на колени.
– Морально?
– Нет, речь идет теперь не о Диоклециане. Манана умерла. Она умерла вчера вечером, и я не отнесла ей цветов. Что делать, Шеф? Помоги мне, только ты и есть у меня на свете. Вернее, вы,
– Где? – сказал Шеф, и все четверо сели на корточки.
– В Крепости. – И я объяснила им все про Каменный двор. – Я оставила ее у окна, но, возможно, они теперь уже ее похоронили, и тогда ищите ее на кладбище под именем Марии Рубаго. Поняли? Каменный двор вот где. – И я нарисовала им план на песке, а потом стерла рисунок. – Вам откроет Эржи, и ей вы можете сказать все.
– Есть, джентльмены, – сказал Шеф. – По коням!
– А лес? – спросила я.
– Послушай, Пинелла, я не хотел бы в тебе разочароваться.
– Ладно, – сказала я, – дело ваше, во всяком случае, за Манану вам спасибо. Я буду любить вас до самой смерти, друзья мои.
– Джентльмены не могут иначе, – сказал Шеф. – Ну все, мальчики, теперь – по коням!
И они отправились – в пиджаках, с зажженными сигаретами, и уже не пахло ладаном, пахло конским навозом.
А я люблю лошадей. Четыре коня галопом несутся по аллее, четыре лошади с отметинами, и одну из них зовут Стелла. Просто так – Стелла Бамба, чемпионка по лыжам. У нее были конские волосы, и она потела у финиша в конце трассы.








