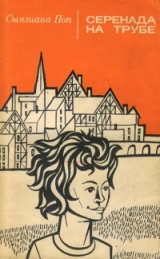
Текст книги "Серенада на трубе"
Автор книги: Сынзиана Поп
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
– Ну? – сказал Командор.
– Ничего, это все.
– Не уходи, ты больше не вернешься, – сказала Манана, и это были последние ее слова, которые я слышала. Потом она помогала Эржи по хозяйству, но я никогда не слышала, чтобы она говорила. Она работала как зверь и свистела, а потом, когда превратилась в мешок с картошкой, свистела и лежала в базарной тележке. Когда мы ходили с Эржи за покупками, то брали ее с собой и прогуливали по городу, хотя толкать тележку на гору и по немощеным улицам было очень трудно. Но она так хорошо себя чувствовала среди пучков спаржи и петрушки, что, какую бы муку мне ни пришлось принять, толкая ее в гору, я все равно всегда брала ее в такие походы на рынок. И единственным отклонением от порядка Каменного дома было ее исчезновение с полицейским Леонардом, но это произошло через неделю после нашего приезда с гор.
– Будь благоразумен, Малыш, сумасшедшая тебя убьет! – крикнула тетя Алис. Она стояла наверху, на лестничной площадке, и все слышала.
– Ее можно спасти, – просила я. – Положите ее в больницу.
– Эту чувствительную шлюху?! – сказал Командор и медленно заковылял по дому. – У тебя нет матери, с сегодняшнего дня все кончено. Я слышать о ней не хочу.
– Вот почему я его убью, теперь ты понимаешь? – спросила я мальчика Пипэла, и он сказал:
– О господи, ты убила его уже дважды.
– Он задохнется у меня под рупором, – сказала я, – вот смотри.
– В рупоре есть дырка, видишь?
– Я заткну ее рукой.
– Рупор слишком мал для его головы.
– Позови Шефа. Он все устроит.
– Кого?
– Шефа. Он на кладбище у Мананы.
– Манана умерла? – спросил Пипэл.
– Сегодня утром. Я оставила ее у окна.
– О бедняга, – сказал Пипэл и опустил голову на колени. – Я очень ее любил. Теперь я тебя люблю, что мне остается делать?
– Выйдем из круга, – сказала я, – хватит с меня этих идиотов. Командора уберет Шеф.
– Ладно, – сказал он, – пошли. Ты думай о зеленом. Это самый лучший цвет на земле.
– Ты посмотри, – сказала я, – какая зеленая лужайка. – И мы стали прогуливаться по сочной траве, и у мальчика Пипэла была розовая рубаха в клетку.
– У тебя розовая рубаха в клетку? – спросила я.
– А ты получше приглядись, – сказал он, – может быть, придешь в себя.
– Розовая в клетку, – повторила я.
– Красная в клетку, – сказал он.
– О, как жалко, то больше шло к зеленому.
– Да, – сказал Пипэл, – но ничего не поделаешь, эта рубаха красная. Слава богу, что ты пришла в себя. Я уже почти час тебя стерегу.
У Пипэла была красная рубаха и красивые зубы. И прямой, отрезвляющий взгляд.
– Пей, – сказал он и подал мне оранжад, потому что он продавал напитки на бульваре.
Я поднялась с его колен и увидела, что мы сидим на каких–то ступеньках и он за последние полчаса ничего не продал. Тележка с прохладительными напитками была пригнана к стене, а зонт от солнца свернут.
– Ты был там, на переговорном пункте? – спросила я.
– Да, – сказал он, – и эта старая дура так и не вернулась.
– Был большой скандал?
– Не очень, я взял тебя на руки и принес сюда.
– На руках?
– Ага.
– Да что ты говоришь? А сколько стоит этот оранжад?
– Не глупи, – сказал он.
– Я спросила, сколько он стоит, – повторила я.
– Послушай, – сказал он, – у тебя на самом деле нет ни номера телефона, ни адреса, ну, совсем ничего и никого нет?
– Да ты что, что ты такое говоришь? – закричала я и вскочила на ноги. Я дочь министра иностранных дел, если хочешь знать, можешь спросить на почте. А теперь – привет! Вознаграждение получишь на том свете!
24
Мне страшно хотелось есть, и я вошла в первую же пирожковую на площади Ратуши. За пять лей я купила две лепешки с сыром и вышла, решив съесть их на улице за одним из столов, расположенных на тротуаре.
Площадь Ратуши была прямоугольная, и каждое лето и осень большие рестораны, кафе и пивные с барами обслуживали клиентов на улице, прямо на тротуаре, и единственное различие их было в цвете мебели, в характере букв на вывеске и в одежде официантов; те, что из «Лютера», подавали в белом пиджаке и во фрачных брюках, а из «Трансильвании» выглядели настоящими юнкерами прусской армии. В «Сан – Сальвадоре» каждый вечер играл эстрадный оркестр, но самым привлекательным зрелищем были стаи голубей, взлетавших по временам с асфальта на высокую башню Ратуши и потом – назад; они проносились над артезианским колодцем, и он окроплял их водой. Единственным неприятным заведением была пивная, в которой исчезали мужчины по утрам в одиннадцать часов: это были чаще люди свободных профессий, нажившие брюшко в пивных дуэлях. Они устраивали настоящие чемпионаты по вливанию пива в желудок, но, если бы не то, что все это кончалось пьяным дебошем (эти типы фальшиво подвывали, а потом мочились у стен Ратуши), не о чем было бы и говорить. А мы–то в школе жертвовали каждый год по лею на сохранение древних памятников, и Башня Ратуши была, конечно, среди них.
Я выпила лимонный сироп, мне безумно нравился его зеленовато–желтый цвет, и как раз в это время в маленький садик у пирожковой вошел человек с серебряными волосами, он был первой скрипкой в городском симфоническом оркестре, и я изо всех сил аплодировала ему на последнем воскресном концерте, где присутствовали ученики второй ступени. У немецкой школы были абонементы на ученические концерты, так что мы – те, кто ходил в бархатных фуражках, – занимали весь партер, и только на балконе первого и второго ярусов можно было увидеть голубые шляпы девочек из гимназии принцессы Елены или фуражки шагунистов с золотыми позументами.
Воспитанницы интерната святой Урсулы не ходили на концерты, у них был свой собственный женский оркестр, и они устраивали закрытые прослушивания, хотя я легко могу себе представить, как играли эти старые девы и девочки–солдаты. Если вам не дорога жизнь, могу рассказать. Во всяком случае, атмосфера городского концертного зала была очень приятна – чисто и тепло, и мы все глазели друг на друга, пока музыканты настраивали инструменты, потому что концертный зал был единственным местом, где можно было это делать свободно, только на симфонические концерты разрешалось ходить вместе девочкам и мальчикам. А сопровождавшие нас преподаватели музыки не собирались за нами следить или делать публично замечания. Они старательно шпионили друг за другом, у них не было другой возможности познакомиться и поговорить о потрясающих вещах, которые происходили в их школах. Потому что одно уж точно: в каждой из школ происходили самые невероятные вещи и были самые фантастические ученики из всех, каких когда–либо создавал господь бог. Единственный, кто не влезал в эту кухню, был Биккерих, наш старый учитель, которого знал весь город, весь город как завороженный слушал в его исполнении органные концерты Баха, – и вот наш Биккерих спокойно сидел в кресле в переднем ряду, опустив подбородок на мягкий бант галстука в крупный горошек, а мы дрожали от гордости, что были его учениками. Учениками господина профессора в гольфах, которого я сегодня утром окончательно отправила на пенсию.
Первый концертмейстер играл в тот раз так прекрасно, что никакая добровольная дисциплина и ни одна из педагогических метод, проверенных временем, не могли бы добиться такой гробовой тишины зала, заполненного только учениками. И я снова думаю о том – нет большой нужды знать музыку, узнавать с первого такта, что это Концерт номер четыре или номер три, а очень важно, чтобы тебе открылась ее красота, просто услышать и прийти в восторг, отдаться той божественной эмоции, которая распахивает в тебе все двери и вообще все, куда может проникнуть совершенная гармония. В то воскресное утро наши лица были похожи на лики ангелов, казалось, дай нам только крылья – и мы улетим, воспарим; на улице мы притихли, хотя кричали и аплодировали этому господину с серебряными волосами битый час.
А теперь вид у него был ужасно растерянный, хотя в руках он держал всего лишь футляр со скрипкой, черный футляр из эбенового дерева, он смущенно вошел в пирожковую, и, приглядевшись, я увидела рядом с ним блондинку, она протопала немного раньше него своими каблуками–гвоздиками, такими огромными, что на них можно было бы повесить целый ворох пальто. У нее были толстые короткие ноги и все, что нужно женщине, чтобы сделать из нее розовую и очень мягкую пуховую перину. Думаю, она здорово задерживала дыхание, потому что талия у нее была невероятно тонкая, а бедра – очень округлые и рот сердечком, полуоткрытый, как у секс–бомбы. Я тут же вспомнила, как этот серебряноволосый господин исполнял такты с пиццикато в финале концерта; он был худ, лицо осунулось, глаза закрыты, отрешенный, ушедший в себя, послушный лишь зову, как святой Антоний, но католические святые еще человечны, а он был как православные мощи. Я тут же вспомнила это и подумала, что люди безумны. Но настолько безумны, что следовало бы выпустить тех, кого держат в сумасшедших домах, а оставшихся на воле поместить на их место. Потому что для первой скрипки нужна была восковая женщина, женщина с пучком, предельно одухотворенная, а не эта розовая фифа, которая задумчиво проводила пальцем по товарам на витрине.
Я встала и ушла. Славу богу, что кресла расставлены одно за другим, было бы ужасно смотреть прямо в лицо этой фифе–сердечку с бедрами, надутыми насосом от грузовика. И смотреть на святого Эфтодия, веселого и проворного, как кенарь. Он положил руку на спинку соседнего кресла, и все его мысли были сосредоточены на круглой спине, скрытой бархатом, и клянусь, что первое же прикосновение доставило бы ему большую радость, чем все симфонические концерты за год, хотя каждый билет на них стоил шестнадцать лей и половина сбора шла ему.
Я совсем уже решила пойти в кино. Мне было так грустно, что только фильм со Станом и Браном мог бы мне помочь, но такой, в котором не было бы единоборства со сливками, этим я была сыта по горло. Думаю, значит, они очень много зарабатывали, если позволяли себе повторять без конца одни и те же трюки. Правда, публика смеется на десятый раз, как и в первый, но какая публика? Если говорить о лоботрясах из ремесленной школы, то думаю, что они смеются с самого рождения и никто не может остановить их, все равно они будут непрерывно гоготать и выкрикивать когда заблагорассудится, но есть же на свете и тонкие люди, которые не считают кинематограф коробкой с мятными леденцами. Есть такие, которые уходят с фильма, хотя и заплатили за билет. А другие просто–напросто спят, потому что фильм скучный, и им ничуть не стыдно, поскольку они заплатили четыре лея. Манана часто так спала, спала и довольно громко похрапывала, но меня совсем не тревожили свистки вокруг, я разрешала ей продолжать в том же духе, ибо никогда не сомневалась в ее искренности, не думаю, чтобы она хоть раз произнесла настоящую ложь, а ее молчание в Каменном доме разве не означало протеста?
Я дошла до улицы Ювелиров, узкой улицы с витринами, скрытыми под каменными сводами; приходилось идти между двумя туннелями, с одной и с другой стороны улицы, и свет в этих туннелях исходил больше от настоящих бриллиантов, покоящихся на бархатных ложах, чем от подслеповатых ламп, висящих у потолка. Я полагаю, так оно и было задумано. Драгоценности должны сверкать прежде всего, чтобы привлечь внимание к тому месту, куда они прикреплены, а потом уже ты спрашиваешь, что это, золото или платина оправляет бриллиант или изумруд. И только после этого замечаешь, морщиниста ли дама, которая его носит, или у нее кожа вроде индийской шали, толстая она или худая, – все это замечаешь только под конец, хотя мне кажется кощунством ожерелье из жемчуга под двойным подбородком. Да. Драгоценности настолько независимы, что лишь женщина по крайней мере равно неповторимая может носить их, не боясь пойти на компромисс. А на многих ли женщинах можно поставить марку: «изготовлено в единственном числе»? Так что я за фальшивые драгоценности. Они лучше представляют категорию того, кто их носит, тут ведь есть стекла всех цветов, и каждый может найти свой оттенок. Фальшивые драгоценности продаются на килограммы во всех парфюмерных магазинах и на рынке и получили во всем мире такое распространение, что я начинаю верить в искренность женщин. А драгоценности у Грамона были до того настоящие и такие несказанно красивые, что на всей витрине, затянутой бархатом, лежал всего лишь один камень: гигантский тысячегранный бриллиант.
Я постояла, посмотрела и потом вошла.
– Кто покупает камень с витрины?
– Добрый день, – сказал лысый господин за прилавком. – Добрый день.
– Кто его покупает? – спросила я.
– Вам кого нужно? – спросил человек.
– Вы господин Грамон?
– Да, – сказал он.
– Добрый день, господин Грамон. Кто покупает этот камень?
– Бриллиант? – спросил он.
– Это настоящий бриллиант, ведь верно?
– Почему вы меня спрашиваете? – удивился он и недоуменно посмотрел на меня.
– Я думала, это сделано на заказ, – сказала я. – Мне хотелось бы знать, кто будет его носить.
– Нет, не на заказ, – сказал он, – но кто–нибудь его купит.
– Если женщина уродлива, не продавайте ей, – сказала я.
– Что? – переспросил господин Грамон и поднял очки на лоб.
– Не продавайте его, если это будет не святая дева Мария, – попросила я.
– Что случилось? – спросил господин Грамон и посмотрел на меня в упор.
– Ничего не случилось, но если женщина уродлива, то это будет преступление, так и знайте.
Господин Грамон не ответил, и в тишине было слышно, как тикали стенные часы в металлической оправе.
– Если хотите, я вам продемонстрирую, – сказала я.
– Не понимаю, – сказал господин Грамон.
– Господин Грамон, разрешите мне примерить этот бриллиант.
– Вам? – спросил он и опустил очки на нос.
– Да, – ответила я, и он посмотрел мне прямо в зрачки.
– Это уж слишком, мадемуазель, вы слишком много просите, – сказал он и слабо улыбнулся.
– Нет, не много. И это для вашей же пользы, господин Грамон. Разрешите мне примерить бриллиант. Мне это невыгодно, так и знайте, но я примерю. Я принесу эту жертву в любое время.
– Жертву? – спросил господин Грамон и почесал себе лысину. Жертва – примерить бриллиант?
– Да, господин Грамон, разрешите мне его примерить, я очень вас прошу, это для вашей же пользы, я ведь уже сказала.
– Почему вдруг вам его мерить?
– Господин Грамон, этот бриллиант не всякий может носить.
– Нет. Конечно, – сказал он, – у кого же столько денег?
– Я не о деньгах говорю, господин Грамон.
– Да? – спросил он.
– Да.
– Тогда подождите минутку, я сейчас вернусь.
Он встал и исчез за плюшевой занавеской. Потом вернулся назад, держа в руках коробочку.
– Примерьте этот, – сказал он и протянул мне коробку.
– Нет, я хочу именно бриллиант.
– Примерьте, – сказал он, – это тоже бриллиант.
– У вас есть зеркало? – спросила я, и он указал мне на зеркало в шкафу. – Можно?
– Да, пожалуйста, – сказал господин Грамон, – пожалуйста, барышня.
Я застегнула кулон и посмотрелась в зеркало. Он был мне очень к лицу. Ну просто потрясающе.
– Вам нравится, господин Грамон? – спросила я.
– Ох! – рассмеялся он и потер руки.
– Вам нравится, как выглядит на мне этот фальшивый бриллиант? Он мне очень идет, не так ли?
– Это бриллиант, барышня.
– Нет, господин Грамон, бриллиант – тот, что на витрине, и прошу вас, дайте мне его сейчас же. А это стекло.
Ювелир несколько минут смотрел на меня, выпучив глаза, потом сказал «сейчас», подошел к витрине и вынул бриллиант из его ложа. Затем принес его и нерешительно протянул мне.
– Вы сами мне его наденьте, – попросила я, – я боюсь испортить. Я не очень–то привычна к драгоценностям.
Господин Грамон надел на меня бриллиант, и в следующую минуту все можно было проследить по его лицу. Вначале – робкий восторг и опасение за то, что случится, и особенно озабоченность. Он так осторожно прилаживал цепочку, что я даже не чувствовала па затылке прикосновения его рук. Потом он бросил взгляд в зеркало, чтобы увидеть эффект, и в следующую минуту разразился таким громким хохотом, что слегка закачались все камни на витринах лавки.
– Я говорила, что это вам же на пользу, господин Грамон, думаете, я очень хорошо себя чувствую?
– Ох, – стонал ювелир, – ох! – И живот его колыхался в спазмах смеха. – Вы очень симпатичны, моя дорогая.
– Пожалуйста, снимите с меня бриллиант, – попросила я. – И довольно цирка. Надеюсь, что теперь бриллиант спасен.
Но прошло еще некоторое время, прежде чем он успокоился, и я ждала с бриллиантом на шее, а потом ювелир его снял, и я поторопилась к выходу.
– Погоди, – услышала я вслед, – погоди минуту. Я хочу подарить тебе тот, другой. Честное слово, ты симпатичная девочка. Как тебе все это пришло в голову?
– Совсем даже не пришло. Это было всегда, постоянно. Я просто проверила. Я проверила и не ошиблась. Хорошо иметь несколько навязчивых идей, господин Грамон.
– Пожалуйста, – сказал господин Грамон и сунул коробочку мне в руку.
– Как красиво сверкало на мне это стекло, не правда ли? – спросила я с грустью.
– Да, – сказал он, – это было очень красиво.
– Жаль, – сказала я. – Жаль.
И я вышла на улицу и сунула коробочку в рюкзак. Потом я пошла дальше и увидела, как в моих теннисках появились две дырки и через них меня приветствовали маленькие пальцы.
25
Я некрасива, некрасива, и нет на мне марки «изготовлено в единственном числе». Но у меня есть смелость, и я доказала это, а такое чего–нибудь да стоит. Хотелось бы посмотреть, как в подобных случаях поступают другие. Выйти под град пуль и героически умереть. Маркитантка номер один с волосами, развевающимися по ветру. «Румыния, разрывающая цепи» Розенталя[63]63
Широко известная картина румынского художника, на которой Румыния изображена в виде молодой и красивой женщины.
[Закрыть]. Топ, топ – на все трещины в тротуаре приходилась левая нога. Я некрасива, я некрасива, но от такого нельзя умереть. Нравится тебе или не нравится, ищи меня в субботу. Приглашаю тебя на суаре: бонжур, мадам, пуркуа, мадам. Вот моя физиономия, довольствуйтесь тем, что есть.
На «Стан и Бран» была дикая очередь. Я пошла в «Люмину». Там показывали фильмы для детей. В кассу было немного народу, но как раз в ту минуту, когда я собиралась занять очередь за металлической перекладиной, какой–то сорванец выскочил снизу и оказался перед моим носом. Я дала ему щелчок и рассмеялась, но он, не оборачиваясь, крикнул:
– Ты что, дорогуша, взбесилась? – И напялил на себя клетчатую кепку.
Тип, который стоял перед сорванцом, был стеной. Он был высокий и широкий, одетый в кожаную белую тужурку, на которой можно было показывать китайские тени. Но сорванец был настолько мелок, что ему для этого следовало бы приподняться на цыпочки. Или мне нужно было взять его на руки. А предложить ему это я не могла, он, конечно, смертельно бы обиделся. Так что некоторое время он терпел перед собой стену, иногда поднимая голову, а потом повернулся спиной и стал лицом ко мне, скрестив руки и наблюдая за мной из–под козырька.
Мне безумно понравилось его возмущение, и я стукнула его по фуражке.
– Внимание! – крикнул он и встал в боксерскую позицию. – Руки вниз!
Но в этот момент тип–стена сделал шаг назад и спроецировал его на меня.
– Эй! – крикнул сорванец, – здесь есть и другие, ты что, окосел?
– Послушай, Личинка, – сказала я, – хочешь, я куплю тебе билет? Этот тип тебя раздавит.
– Да что ты, тетенька? – сказал он и скривился.
Затем, повернувшись ко мне спиной, он снова оказался лицом к человеку–стене и продолжал стоять так, пока мы не дошли до кассы.
– Последний ряд! – крикнул он громко, поднялся на цыпочки и протянул скомканные деньги.
– Для детей у нас места впереди, – объявила кассирша.
– Последний ряд, черт подери, – снова крикнул сорванец и наподдал башмаком по дощатой перегородке кассы.
– Эй, ты там! – запротестовала кассирша, – вот я тебя, бездельник! – И угрожающе высунула руку в окно, но сорванец находился намного ниже и спокойно постоял под ее рукой, пока не проверил, какой ему дали ряд, а потом еще раз наподдал башмаком.
Я тоже попросила последний ряд и вошла в зал. Народу было мало. И все же, чтобы занять место, пришлось побеспокоить одну из тех парочек, что ждут не дождутся, когда в зале станет темно. Их можно сразу узнать по тому, как они сидят, – прямые, добропорядочные и уж до того нравственные… Я всегда не переносила ханжества, в особенности у зрителей, которые ходят на детские фильмы. Речь идет здесь не об извращении. Просто фильмы для детей демонстрируются без перерыва, можно смотреть их по два и по шесть раз, не выходя из зала, свет зажигается только в конце, когда уже все позади, так что, если ты купишь билеты в последний ряд, валяй хоть с самого начала целуйся, как сумасшедший, и нечего прикидываться дурачком.
Центр зала был почти пуст. В общем–то, он был совсем пуст, только посередине, как раз в самой середине, сидел старик. Со спины он был похож на пенсионера. У него были голова и пиджак пенсионера. Понимаете, из тех домашних пиджаков, которые быстро снимаешь с гвоздя, если нужно пойти за хлебом, или купить керосину, или уйти из дому от шести до восьми. Не знаю, какая из этих ситуаций годилась для старика в центре зала, но, во всяком случае, он лихорадочно ждал, когда фильм начнется и когда он кончится. Он сидел съежившись, втянув голову в плечи, и от того, как он наслаждался жизнью, хотелось плакать.
Зато в первых рядах веселье было в самом разгаре. Мелкая ребятня сновала взад–вперед, перелезала через спинки стульев, мяукала и лаяла. Вначале я подумала, что ребята пришли одни, и как раз собиралась найти поближе к ним место, когда вдруг увидела сорванца в клетчатой кепке, с которым брала билеты; смешавшись с остальными, он смеялся и, кажется, вопил громче тех, но вот в одном из входов появилась женщина, и моментально в зале воцарилась гробовая тишина… Та тишина, которая предшествует всем началам и всегда наступает после конца. Женщина была ростом метр девяносто, и мне показалось, что ребята испугались такой высоты. Но она прошла вперед и произнесла речь, после которой два мальчика и две девочки начали раздавать мятные леденцы. А потом она увидела моего постреленка.
– Was ist mit dir?[64]64
Что с тобой? (нем.).
[Закрыть] – спросила она. – Ты кто? Уходи отсюда, там свободных мест много.
И она показала рукой на зал.
Я не поверила, но паренек прошел до конца ряда и, притворившись сперва, будто он остается там, на крайнем месте, подошел ко мне.
– А ну ее к черту, эту их тетеньку, – заявил он, – если хочешь знать, они даже меня не интересуют.
– Да нет, интересуют, только делать тебе нечего, Личинка, – сказала я.
– Личинка – это от какого слова? – осведомился он.
– Личинка – от личности.
– Жаль, – сказал он. – Я думал, что от острова «Личинкоко». Слышала про такой?
– Нет.
– Жаль. Мировой остров. Я там император.
– Да? А я и не знала. Ну, тогда скажем, что это от острова.
– Теперь уже нельзя сказать, – заявил сорванец. – Раз сказала, Личинка – личность, тогда все, дело кончено.
Как только погас свет, публика, сидевшая в конце зала, провалилась в небытие. Она даже не читала титры, хотя мультипликационный фильм, к которому они были, заслуживал всяческого внимания, даром что в нем действовала лишь стая утят, вылуплявшихся из яйца. Вначале они проклевывали скорлупу и выходили наружу. Потом отправлялись все па прогулку к озеру, и в этом заключалось содержание фильма. Но то, как шагали эти маленькие дурачки – в одну сторону и в другую, то, как они смотрели одним глазом и потом ударяли хвостом, похожим на крючок, делало всю погоду. Ребятня в первых рядах бредила от восторга, издавала короткие пронзительные крики, и они летали по залу, как шары одуванчика. Но хотя многие из них пролетали уже над нами и я их видела и сидевший со мной пострел тоже, никто, кроме нас двоих, не поднял глаз. А Личинка в конце концов вытащил из кармана рогатку и принялся расстреливать шары, он расстреливал их жевательной резинкой, булавками с раздвоенными головками, которыми можно стрелять и в икры девочек по воскресеньям, когда они выходят на прогулку в новых шелковых чулках. Однако в следующую минуту в передних рядах установилась такая тишина, когда дети сидят затаив дыхание и кажется, им нужно немедленно сделать пипи. В это время, как раз когда утята плавали по озеру вместе со своей мамой, появилась лиса. Она была невероятно рыжая, с зелеными глазами, глазами из ляпис–лазури. И было ясно, что она явилась схватить утят. Шаг, еще один, высокая женщина из первого ряда распростерла руки, и все ребята в передних рядах, дрожа, спрятались под ними, в то время как Личинка надвинул кепку на нос. Но вот – бух! – лиса покатилась в воду, и тогда я громко закричала: «Все в порядке, можете дальше смотреть!» Первый ряд разразился «ура!», и ребята влезли на стулья, а Личинка отбивал по стулу ногами барабанную дробь. Только старик в середине зала оставался безучастным. И задние ряды тоже. Старик сидел, как и вначале, неподвижный, сухой, сжавшись под домашним пиджаком. Что происходило сзади, нельзя было различить, ибо нельзя было различить очертания людей на стульях, все принимало неожиданный оборот, время от времени отделяющаяся от общей массы голова или рука ничего не объясняли. Но вот утки окончили прогулку по озеру и снова поглядели на нас, вид у них был дурацкий: толстые, желтые, глаза сбоку. А потом показывали «Мечту о славе», фильм с лошадьми и девочкой, которая хотела быть мальчиком, но потом увидели, что у нее груди, и ей не дали премии за верховую езду, хотя она была победительницей на бегах с Пи номер 28, черно–белым арабским скакуном, который бежал как сумасшедший. Эта девочка и все девочки в фильме были очень красивые, а Микки Руни, изображавший жокея, был невероятно веснушчатый и повторял молитву шесть раз на день: до и после каждой еды. Я могла бы выучить в конце концов «Отче наш» по–английски и как раз начала запоминать эту молитву, но тут мне пришло в голову, что ем я нерегулярно и зачем мне тогда это надо?
Лошадиные бега были так прекрасны, что я едва удержалась, чтобы не влезть на стул. Мне хотелось ехать верхом на воображаемом коне и вопить, как эта банда в передних рядах. И как мой Личинка. Но иногда все–таки у меня проявляется сознание. Оно работает, как часы с кукушкой; хотя никто никогда там у нас горах но говорил мне, что нельзя этого делать, а то, что было потом в Каменном доме, совсем не шло в счет, и все–таки я не знаю, как такое случалось – я хочу, хочу всей душой что–то сделать и даже мысленно делаю, но ни руки, ни ноги не двигаются, и возникает настоящее диалектическое несоответствие. И это ужасно – быть мысленно летчиком, а на деле черепахой.
– Как ты думаешь, он спит? – спросил сорванец.
– Кто?
– Старик, – сказал он. – Я думаю, что нет. Пойду посмотрю.
Он прошел несколько рядов, шагая прямо по ручкам кресел, потом спустился в проход, подошел и сел перед стариком. Сперва он притворился, что смотрит фильм, потом обернулся, изучил как следует старика и через минуту был уже рядом со мной.
– Не спит, – заявил он.
– Нет?
– Не спит. И почему тогда он не кричит, как все? Почему сидит молча? Ну, тех я еще понимаю. – И он с презрением махнул рукой назад, точно небрежно перекрестил их. – Тут все ясно. Но он?
– Ш-ш! Помолчи, – сказала я. – Смотри внимательно, они ее поймали. Они подвергают ее медицинскому обследованию и раздевают. Они тут же поймут, что она не мальчик.
Но в момент, когда врач начал расстегивать первые две пуговицы желтой сатеновой блузки, в которую Лиз оделась, чтобы участвовать в бегах на Пи номер 28, та высокая тетенька из первого ряда встала и принялась дирижировать двухголосой походной песней. Озорники начали повизгивать в темноте под крыльями этой ветряной мельницы, а она вращалась перед экраном все время, пока длилось выяснение, что у девушки две маленькие груди и посему она не может быть мальчиком и не может победить в конце концов на бегах. Но только спустя много времени, когда она пришла домой и снова оказалась в школьной форме, застегнутой до самого горла, тетенька уселась и походная песня смолкла.
– Разве я не говорил тебе, что она идиотка? – спросил Личинка. – Зачем она поет как раз в самых интересных местах? Ну как эти замухрышки теперь поймут до конца фильм?
– А ты скажи им, как было дело, – посоветовала я.
– Эй! – закричал пострел. – У нее оказались сиськи. Поняли?
Из первого ряда не донеслось ни единого движения, никто там не знал этого слова, думаю, даже эта тетя не знала – она была плоская, как коробка с пирожными, – но сзади долетел неясный шепот – первый признак жизни, донесшийся из небытия.
– Э, – сказал пострел, – так, значит, они еще живы, а я думал, умерли. Знаешь, уж больно они неподвижные, ну никто даже пальцем не пошевелит.
Но вот какая–то рука, принадлежащая узкой спине, стремясь обхватить другую спину, в два раза шире шкафа, стала расти прямо на моих глазах. Она росла медленно, но верно, в направлении края стула, где тут же забрала бы налево и потом вниз, не вмешайся Личинка, который переложил руку дальше, в направлении другого стула, где сидели другая дама с широкой спиной и только за ней – господин. Но Личинка на этом не успокоился, он постоянно наращивал у руки отводки, покуда она не достигла конца ряда. Только там рука остановилась и стала забирать влево, на территорию уже занятую, где тем не менее еще одной руке были очень рады.
– Летом мы соберем стручки, – сказал пострел и стер пот под козырьком. – Я выращивал его, как горох.
– Твой отец садовник? – спросила я.
– Да, – сказал он, – выпалывает Райский Сад.
– А мать?
– Она тоже. Не могла же она оставить его одного? Они женились по любви. Как эти. – И он снова перекрестил сидящих сзади. – Они все там будут. Бог не побит злоупотреблений.
– Ты прочел это в книге? – спросила я.
– Еще чего! Думаешь, я умею читать?
– Тогда откуда ты знаешь?
– Что? Слово?
– Ага.
– Из трибунала, – сказал он. – Я слышу его каждый четверг.
– Ты там работаешь, подметаешь или что–нибудь в этом роде?
– Я сужусь, старуха, ты что, спятила? – сказал он, а потом: – Ш-ш! Обрати внимание, какая гадюка эта ее сестра. А тоже, с маникюром!
Хозяйка Пи плакала, сестра на нее кричала, и ногти у нее были наманикюрены. Она была красивая, но очень неприятная. Она ходила взад–вперед по всему фильму и целовалась с каждым встречным, ну просто со всеми она чмокалась, и тетенька из первого ряда раза два вскакивала и давала тон для новой песни, но поцелуи быстро кончались, они длились меньше, чем сцена расстегивания пуговиц, так что тетенька в конце концов отказалась от этой мысли и единственно, что она делала – кричала: «Kinder, Kinder!»[65]65
Дети! Дети! (нем.).
[Закрыть], чтобы покрыть непристойные звуки фильма.
– Она совсем спятила, – сказал Личинка. – Ее пугают злоупотребления.
– А еще кого? – спросила я.
– Ведь я же сказал тебе, что сужусь! – закричал он. – Другую тетку. Мою Полоумную. Она не хочет меня брать.








