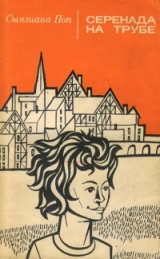
Текст книги "Серенада на трубе"
Автор книги: Сынзиана Поп
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Перемена взрывалась петардами. Открылось окно – первый крик разорвался над землей. Потом второй. Школа с сухим треском отстегивала пуговицы.
Два воспитателя караулили у двери. Вышли первоклассники. Ряды девочек и мальчиков быстро двигались вдоль двора к указанному месту. Больше никто не переступал порога. Одни только малыши вздымали пыль своими комариными ногами. Они держали шаг и – на месте, стой! – последний поднятый в воздух ботинок опустился на землю. Наступила великая тишина. Столпившиеся у окон учителя являли собой семейные фотографии, снятые по случаю какого–нибудь события. Улыбки завязаны бантами, от головы к голове лента свивалась в локоны, всеобщая радость расплылась под носами. Во дворе первоклассники ждали. Волны нежности изливались из окон. Волны нежности, пахнущие карамелью. Но вот другая команда отмечала появление из–за спин коробки с семью гномами, в которой хранились продукты. Крышка отскакивала, белые салфетки на мгновение взвивались в воздух. Но за этим последовал такой силы вой, что шесть окон разлетелись вдребезги. Это ученики четвертого класса, обезумевшие от ожидания, сплющенные в дверях, хлынули вдруг, как из пожарного шланга. Они пылали, точно ошпаренные и, вздымая пыль, возбужденные до предела и взмокшие, носились по двору, словно на корриде, а потом попробуйте отличить девочек от мальчиков, они могли бы вздернуть свою голую кожу, как стяг. «Tores у Toreros»[43]43
«Быки и тореадоры» (исп.).
[Закрыть] повторялось без конца, и только очень сильно ударившись, девочки вопили немного громче. Немного громче и на более высоких нотах.
Над седьмым классом пронесся дождь прыщей, Не на ком было остановить взгляд. Застенчивые юнцы горели на медленном огне, путались в собственных длинных руках, забивались в углы и от смущения выказывали такую ненависть, что от них шарахались, как от бандитов. А если по временам они менялись углами, крадясь по стенам, то все равно все игры со двора перемещались в паутину этих углов.
Девочки – прямые тени. Прямые–препрямые и невероятно тощие, четыре параллельных класса вороньих пугал. Но настоящая перемена начиналась лишь только тогда, когда из дверей школы выходили ученицы последнего класса. Вы видели когда–нибудь, как весной белых коней выводят на ипподром? Ах, эти белые жеребчики, сразу расщепляющие свет и яркую зелень, их танцующий шаг и вибрация мышц и вместе с тем лень, ветер, мягко играющий в их опаловых гривах!
Мне бы духовой оркестр и безумного дирижера! Дирижера в парике, руки – у пояса. А потом руки взметнулись вверх и волосы развеваются по воздуху. Но вот уже руки по локоть в инструментах. А в горнах – и по плечо. Порывшись, извлекают наружу ноту за нотой, бросают ее в воздух, а потом жонглируют ими. Да. И финал – пиццикато, весь оркестр как на цыпочках.
Первые две девочки переплывают через порог. И остальные тоже. Это шествие в черных формах с воротничками, сверкающими белизной. Они пересекают двор, точно монахини, легкие и призрачные, и только их взоры путешествуют по земле. Шум умирал, уступая место молчанию, – так население школы по ту сторону и по эту приняло тишину и неподвижность как безусловный пароль. И первоклассники, еще пахнущие маслом, и красные, взмыленные четвероклассники, и поколение, существующее под знаком прыщей, – все, совершенно все на каждой перемене с волнением принимали это шествие девочек–женщин. А девочки проходили – о боже, великий и неизвестный! – девочки проходили прекрасно, пара за парой, а иногда даже по три, но были там и они; пропахшие табаком, они появлялись незримо, перепрыгнув через забор, старшие ученики, повелители в кепках, руки – в карманах брюк. Они ждали. Черная процессия приближалась. Все замерло, и вдруг: головы – вверх, взгляды рвутся вперед, настороженность скрылась в зрачках ягуаров. Так что потом огонь вспыхнул в великих саваннах, выжженных воздухом летнего дня. И красные быки, и малышата, и сонные балбесы, болтающиеся между собственных рук, балбесы с прыщами, пламенеющими огнем, и старые зонтики, запутавшиеся юбками в проволоке ног, – все, все вдруг бросились врассыпную, прыгая и воя; шум взорвался миллиардом осколков, и только у ограды они, ученицы и ученики последнего класса, ждали. Барабанщик барабанил в забытьи.
15
Я следила за школой с кладбища. Трава выросла высокая, она скрывала меня, да и без этого лицей Таты Хортеруса стоял много ниже церкви – церковь была на холме.
Я видела все. Опершись на крест, я повисла на его руках. Мы с Христом, голова к голове, следили за школой, ее суетня ткалась у наших ног, внизу, под раем. Вихри криков буравили воздух, рокотали и грохотали до тех пор, пока дирижабль не взорвался, и парашюты, балансируя, спасали отдельные звуки – какое–нибудь «о» или едва дышащее «а». Их грибы мотались то справа, то слева, и от этого однообразного раскачивания клонило ко сну.
Было жарко. На длинных волнах солнце поставляло жидкое топливо. Сперва у меня зажглись волосы. Под расплавленной красной магмой загорелось дерево. Целая армия муравьев бросилась в пропасть; когда сломался крест, я дымилась, точно костер, и я рухнула, трава пронзила меня железными иголками.
Старый звонарь на колокольне пересчитывал усопших: кладбищенских лодырей, распростерших руки, приникших виском к жестяным Христам. Решетка на окне была опущена. Два тонких лезвия ее перерезали светотень и край маленького колокола. В плесени поблескивала часть надписи и сверкали серебряным кружевом волосы старика. Он пересчитывал усопших. Усопших на кладбище, укрытых травой забвения. Один, и два, и так далее, четыре и пять. Кто–то выстрелил в воздух стрелами птиц, и они ударялись о землю. И трава росла, росла и стонала, трава осени, веревочная, с узелками трава.
…В следующую минуту нечто вроде землетрясения сотрясло кладбище до самого основания, и мне стоило больших усилий сохранить равновесие. Глухой гул наступил на меня с одной стороны, и, только увидев перед самым носом гигантский ботинок, я поняла, что это Шустер. Он соскучился в клозете и пришел за мной на кладбище.
– Тихо, – сказала я, – мертвые стали выходить из земли. Ты годишься для Страшного суда. Клянусь. Тебе не нужна даже профессионализация. Как, черт возьми, тебе удается так топать?
– Ладно, – сказал он и плюхнулся рядом со мной, и – тут словно взорвался пушечный снаряд. С церкви посыпалась черепица.
– Намочит теперь дождь святых отцов, тебе не жалко их, а, Шустер?
– Ничего, пономарь подержит над ними зонтик, все равно ему нечего больше делать.
– Как это нечего, он спит. Тише.
– Четыре часа прогуливаешь, – сказал Шустер. – Ты что, с ума сошла? Хочешь, чтобы директор устроил тебе концерт?
– Ага. Мне нравится, как он играет Kleine Nachtmusik[44]44
«Маленькая ночная серенада» Моцарта.
[Закрыть].
– Ого! – засмеялся Шустер и звучно хрюкнул.
– Умереть мне на месте, если ты не животное, – сказала я. – Издаешь потрясающие звуки. Ты хряк?
– Что? – спросил он и скосил на меня глаза.
– Хряк.
– Sag mir auf deutsch[45]45
Скажи по–немецки (нем.).
[Закрыть], – попросил он, – я не так уж хорошо понимаю румынский.
– Нет, понимаешь. Ты все ругательства знаешь наизусть.
– Но этого не знаю.
– Это не ругательство. Это слово.
– Ну черт знает что это за слово, я никогда такого не слышал.
– Зато теперь слышишь: хряк. Что, не нравится?
– Нравится. Как будто поет скатофаг. Я разинула рот.
– Что ты сказал?
– Скатофаг. Это я. Я говорю животом.
– Повтори еще раз, – попросила я.
– Пожалуйста. Скатофаг, – сказал он, и наступила тишина.
Слово одеревенело и повисло у нас перед носом, Шустер лежал на спине и улыбался, он проглотил целое стадо ослов и воображал, что вышел на первое место со своим словом. И вышел.
– Смотри, как бы ослиный хвост не застрял у тебя в горле, – сказала я. – Он не усваивается. Как бы не было у тебя неприятностей с твоим скатофагическим животом. Как бы не было у тебя колита. Как бы тебе не спровоцировать рвоту. Как бы не…
Но какие бы сложные слова я ни говорила, «скатофаг» Шустера продолжал висеть на том же месте, у меня перед носом. Он перешиб меня, ясно как день. Достаточно было посмотреть, как он улыбается своими свинскими толстыми губами, чтобы это понять. Но он приоткрыл глаз и спросил меня очень участливо:
– А почему ты прогуливаешь мат.? У тебя ведь с фрау Ашт все шло гладко? Фрау Ашт не давала тебе задач?
– Потому, чтобы ты меня спросил.
– Так ведь я тебя спросил, – сказал он. – Я тебя спросил.
– Ух, Шустер, до чего ж ты сегодня умный, что с тобой? Керосину напился? Не иначе как мамочка подлила тебе в молоко керосину, чтобы смазать твой мозжечок.
– Нет, – сказал он. – Нет. Я завил себе мозги на бигуди.
– А, значит, ты был у парикмахера? Ну, так бы и сказал… Вот почему ты выражаешься перманентно, с завитушками.
– Холодная, – крикнул он. – Холодная завивка. Перманент Велла. Я хочу говорить с начесом, иногда с пробором сбоку или даже с пучком.
– А с конским хвостом не хочешь?
– Если ты уж непременно настаиваешь, могу доставить тебе такое удовольствие, хотя полагаю, что ты предпочитаешь мизампли[46]46
Укладка (франц.).
[Закрыть].
– Что ты сказал? – спросила я и тут же пожалела. «Мизампли» одеревенело и повисло у меня перед носом рядом со «скатофагом».
– Тебе полезно сидеть в уборной, Шустер, каждый раз, спуская воду, ты умнеешь.
– Да? – сказал он и засвистел жутко фальшиво.
А потом:
– Ты не ответила мне на вопрос, почему ты прогуливаешь математику. У тебя ведь здорово шло. Что–нибудь случилось?
Не было никакой охоты именно ему давать отчет, так что я набрехала.
– Да. У меня умерла прабабушка. Я ищу ей место на кладбище.
– О! – сказал он и сел на свой широкий зад. – Мне очень жаль, правда, жаль.
И он действительно жалел. Это было ясно по тому, как размокла вся его прическа.
– Послушай, Шустер, – сказала я, – убирайся отсюда. Если ты так разнюнился из–за этой вещи, то мне уж просто надо бросаться вниз головой. Какая муха тебя укусила, ты что, спятил?
– Мне жаль, мне очень жаль, – твердил он и еще больше размок.
– Слушай, я наврала, понимаешь?
– Нет, не наврала, – сказал он. – Это за километр видно. И мне жаль.
– Что, тебе? Тебе меня жаль? И ты думаешь, я дошла до того, что такой, как ты, может меня жалеть?!
– Я очень жалею, – сказал он и уткнулся головой в колени.
Никогда я не была в более тяжком положении. Видеть, как тот, кого ты считала свиньей, плачет.
– Послушай, Шустер, честное слово. Я наврала. Так и есть, моя бабушка умерла, но эту историю с кладбищем я выдумала. Честное слово. Я удрала из дому. Вот что.
– Что? – спросил он и испугался так, что вся его прическа тут же пришла в порядок. – Как так удрала?
– Ладно, очень просто. – И я ткнула правой ногой рюкзак. – Хочу быть свободной. С меня хватит.
– Bist du verruckt? – спросил он. – Ты окончательно спятила? Как это свободной?
– Ладно. Frei. Фернандо Пала, свободный человек. Ты про это дело никогда не слышал?
– А, ты хочешь снять фильм! – сказал он и успокоился. – Это идея. У тебя ноги – блеск.
– Убирайся, – погнала я его и почувствовала себя очень хорошо, наконец–то Шустер стал похож на дурака. Я очень испугалась, не слишком–то я люблю сюрпризы такого сорта, я ни за кого не могу взять на себя моральную ответственность. А Шустер всегда был только дураком. Дураком и ничем больше.
– Ну, видишь, – сказала я, – наконец–то и ты наш. Я серьезно хочу сделать фильм, вот честное слово. Я очень фотогенична. Эти рыжие волосы выходят невероятно синими, а что может быть прекраснее синего, ослепительно сияющего чуба, а?
Он разинул рот. Настала моя очередь пересчитывать его зубы: его слова, заброшенные, треснули, разбились, как елочные игрушки.
– У тебя фантастические зубы, – удивилась я. – Все до одного. Может, я найду и для тебя роль статиста для Смайл[47]47
Улыбка (англ.).
[Закрыть].
– О'кей, – сказал он и стал вдруг говорлив, как голубь. – Непременно сообщи мне, я буду тебе невероятно признателен.
И он удовлетворенно заворковал себе под нос. Но в этот момент снова раздался звонок, и Шустер встал.
– Я пошел, – сказал он. – Химию я не прогуливаю. Я себе этого не позволю. Я не снимаю фильм. Но желаю тебе успеха. Салют.
– Шустер, – попросила я. – Скажи мне, пожалуйста, еще раз эту фразу.
– Нет, – сказал он. – Лучше я буду дураком, так лучше. Не можешь же ты все потерять. Это несправедливо. Честное слово.
– Шустер!..
– Все, – сказал он, – auf Wiedersehen. Надеюсь, что ты будешь иметь успех со своими апельсиновыми волосами. И если хочешь знать, у тебя ноги – блеск, это уж точно, ты добьешься свободы.
– Ты свинья, настоящая свинья.
– Конечно, – сказал он, – и прощай! До приятной встречи.
– И еще ты слон, тише, как бы мертвецы не встали из могил.
– И слон, и все что хочешь, – сказал он.
– Шустер! – крикнула я. – Шустер!
Но он исчез, а я ужасно хотела, чтоб он еще немного побыл.
16
Дорога в город начиналась у моих ног. Дорога с бесчисленными поворотами, она обрывалась и начиналась вновь, шла полого, змеилась по склону холма, разветвлялась на тропки, потому что склон был отвесный, петляла и пробивалась сквозь заросли кустарника. Это был лабиринт. На одном конце – город, на другом – я. Сидя на стульчике, я царила над этим пейзажем. И он разворачивался передо мной все дальше и дальше, город отбрасывал на меня свой свет и манящие шумы, я так рвалась к ним, живя во дворе из камня, а теперь они были подвластны мне. Я была свободна. В запасе был день, но один день может стать иногда целой жизнью, и должен был быть целой жизнью день перед отъездом в горы. Ничего не хотелось, только встать со стула и свернуть в комок эту спутанную ленту дороги, измерить ногами расстояние до того места, где мечта до конца ее дней превратится в реальность. Мысли мне надоели, нужны были люди, там, на кладбище, мне снова стало ясно, что без них я не могу существовать. Они были мне так нужны, но я их не находила и потому теперь была полна решимости отыскать их за тот короткий срок, что оставался до моего отъезда. Мне нужны были воспоминания, чтобы унести их с собой, хотя осени у моих ног, осени, тронутой плесенью и тяжелым золотом, казалось, хватило бы до конца моей жизни. По дню на каждый цвет и один–единственный – на солнце, которое тащили через всю декорацию, как паяца, за веревку. Стоять и смотреть, расщепляя над городом свет, разделяя его рукою, радоваться на все способы, которыми ноги помогают поддерживать землю, на все средства, которыми зрение помогает вылепливать формы, на то, как слух помогает возникнуть движениям. Мой указательный палец нацелен на город.
Город тоже грелся на солнце и как будто дышал или будто смотрел на меня со всех сторон. Шумы носились над ним и вдруг резко меняли направление, рассыпая искры. И только запах людской стоял неизменно, он клубился паром – этой ранней осенью улица потела, и ее не прикрыли крышкой.
Я встала и двинулась вниз. И не смотрела назад, и только много позднее, когда дорога кончалась, крепость, и школа, и старое кладбище засияли, как в сказке, а город, к которому я направлялась, стал гаснуть.
17
Я шла вдоль стен по горло в тени. Только голова моя, отрезанная светом, плавала взад–вперед сама по себе, как мяч, упущенный в реку. Рыжий резиновый мяч, очень рыжий и совершенно потрясающий. Из тех, что забивают цветные голы, когда вратарь лежит на земле.
Мне хотелось с кем–нибудь поговорить. С кем угодно. Но все имена, приходившие в голову, отскакивали назад – я не знаю куда, в какую–то гостиницу для знакомых, ты звонишь туда, спрашиваешь господина Попеску, а вместо него выходит дама с серебряными зубами.
Мутер была в нашем доме. А дом наш в горах, и горы очень далеко. Но безумие уносило ее еще дальше, а у меня было в кармане всего тридцать четыре лея. Первый рейс в горы был в пять утра, и я не знала, довезет ли меня автобус до самого места.
Манана умерла. Эржи спала или мыла уборные хлоркой. Я хотела бы с ней попрощаться, но никогда не знаешь, что найдешь в комнате незамужней сорокалетней особы: ночного демона в брюках или брюки старого Командора, аккуратно разложенные на стуле. Старик ведь так любил порядок!
С кем же тогда говорить? Я могла зайти в булочную, булочник был единственным известным мне порядочным господином, но «дайте мне четвертинку белого хлеба с картошкой» не слишком–то интересная реплика для диалога. И потом, нужно было найти приют на ночь, не могла же я бродить по улицам до пяти утра.
И все–таки я прошла мимо булочной. Магазин был закрыт. Все лавки оказались закрыты и улицы пусты. Но были открыты окна – в два часа город ел. Весь город. Волны, волны влекущих запахов изливались сквозь занавешенные окна кухонь; целые обеды, я плавала в соусах – белых и чесночных, проходила сквозь горы битков и наконец остановилась: из окна вытекал суп с помидорами и скользили макароны с маслом. Этого было достаточно для моего желудка, и я уселась на край тротуара; запахи прекрасно концентрировались во мне, и, так как ветра не было, я истребила все до конца на этой безлюдной улице. Страшная отрыжка, ударившая меня сзади, и другая, которая вырвалась из окна дома напротив, показали, что обед окончен; я двинулась дальше, хотя идти было очень трудно. Вся улица содрогалась, рыгая нутром. Стены домов заметно выгнулись, окна вылезли из орбит, двери были слишком узки для этих животов, нависших над тротуаром. И если бы какая–то женщина в сандалиях из бычьей кожи не потянула бы меня за руку, меня раздавили бы два последних раздувшихся дома, которые расплющили друг другу бока.
– Господи, что такое, на этой улице никто не соблюдает диету? – крикнула я. – Вы только посмотрите!
Дома до того раздались, что выпятились на середину улицы – живот к животу. Вытаращенные глаза окон готовы были лопнуть и глядели устрашающе, точно лягушки перед атакой. Дымовые трубы грозно трубили, ниточка воздуха, просачивавшаяся сквозь них, была так тонка и так горяча, что вырывалась с воем.
– Вы из интерната? – спросила я женщину.
– Да, – сказала она и взяла корзинку в другую руку.
На ней была одежда урсулинок – белый фартук поверх черной рясы, разлетающийся капюшон и сандалии из бычьей кожи.
– Нельзя ли мне где–нибудь переночевать? – обратилась я к ней. – Денег у меня нет, но я могу работать.
– У нас на кухне. Ночуй у нас. Можешь спать спокойно. У нас ничего такого не бывает, – сказала она и презрительно показала на улицу.
– Вы соблюдаете диету? – спросила я.
– Нет. Но у нас пансион. Сама понимаешь!
И она пошла и шла очень быстро в своих больших сандалиях.
Пансион святой Урсулы – это самое прекрасное здание, какое только можно себе представить. Подойдя ближе, я увидела воспитанниц – они парами ходили по лужайке и читали. Двор был окружен решеткой, мощеная дорога, ведшая к парадному входу, упиралась в кованые ворота. Дом был двухэтажный, но выходившие во двор двери и окна с деревянными ставнями были так велики, что за ними, казалось, должны были непременно скрываться бальные залы, отделанные сверкающим, как зеркало, мрамором. Но мы миновали двор и через черный ход попали в большой старый дом, облицованный цементом, окна его выходили на внутренний двор, такой темный, что из него не видно было даже неба. Вдоль выбеленных стен стояли железные кровати, и у каждой кровати – распятие из черного камня.
– Здесь спят воспитанницы, – объяснила женщина и прошла дальше; мы оставили позади внутренний двор и вошли в анфиладу комнат, более низких и мрачных, чем те, что мы видели прежде.
– Вот здесь, – произнесла она и указала мне на незанятую постель в глубине комнаты. – Можешь ночевать здесь, – повторила она и исчезла за железной дверью. Я оказалась одна между двумя рядами выстроившихся у стен кроватей, над которыми висели каменные распятия, прибитые большими гвоздями.
Я положила рюкзак в ногах кровати и огляделась. Но кроме кроватей у стен, в комнате ничего не было, так что я подошла к окну и стала изучать дворик, через который мы прошли, чтобы попасть сюда. Это был серый кирпичный четырехугольник, и как раз напротив окна, у которого я стояла, находились другие окна. Вначале я ничего не заметила, но, когда глаза мои привыкли к плохому освещению, я различила движение и пламя и поняла, что там, очевидно, кухня. Так оно и было. Между тем кто–то открыл окно, и теперь я могла хорошо разглядеть огромную печь, занимавшую середину помещения, и женщин, которые сновали вокруг нее взад–вперед в сандалиях из бычьей кожи. Однако делали они что–то непонятное. У каждой из них был на попечении горшок, они шарили в нем деревянной ложкой и, время от времени извлекая кусок мяса, быстро прятали под широкой юбкой в особый мешочек, привязанный к ноге.
Но вдруг появилась мать–настоятельница – она была постарше, – и тут монахини–служанки преклонили колена. Но лишь на мгновение, как при входе в католическую церковь – полуприседание, – потому что следом за этим они направились во двор. Впереди – мать–настоятельница, за ней – сестры–кухарки. Потом настоятельница остановилась, а монахини, прихрамывая, прошли вперед, и все они хромали на правую ногу, но мать–настоятельница ничуть не удивилась. Она встала перед ними на колени и, воздев глаза к окнам дома, решительно принялась за молитву. Она произносила молитву громко на вульгарной латыни, а монахини бормотали вслед за ней Dominus nostris[48]48
Отче наш (лат.).
[Закрыть]. То, что мне удалось заметить в их глазах, когда они подняли головы, повергло меня в изумление. У матери–настоятельницы ресницы были опущены, и потому прелат в клобуке и с белой бородой, появившийся в ее синем зрачке, был весь заштрихован черными полосами, и я как следует не разглядела его выражения лица. Но у женщины в первом ряду глаза были широко открыты, и я увидела в них солдата, он сидел на краю кровати и весело натягивал парусиновые штаны. Солдат был маленький, фуражка лихо заломлена на затылок, очень веселый и очень довольный.
– Хелло! – крикнула я ему. – Ты очень симпатичный. Что ты делаешь на кровати?
Он улыбнулся и помахал мне рукой, но, думаю, он очень спешил, потому что мундир надел удивительно быстро, и едва он застегнул китель, как протрубил горн. Только тут я заметила смятение в глазах монахинь – множество солдат глядело на меня со всех сторон, они торопливо одевались, резко запахло сапогами, и, пока произносились молитвы, целая рота пехотинцев проследовала через зрачки, приняв благословение неба, заглядывавшего во внутренний двор.
Но вот затихла последняя строчка молитвы. Мать–настоятельница склонила голову, все монахини последовали ее примеру, свет на мгновение задержался на белых крыльях их капюшонов, крыльях ветряных мельниц. А потом строй гигантских белых капюшонов снова восстановился, и монахини, хромая, продефилировали через внутренний двор. И только тут я заметила женщину, которая привела меня, она была в самом центре процессии и очень сильно хромала. Она так ужасно хромала, что была принуждена держаться за стену. А когда они снова принялись за работу, я увидела, что она трудится у двух котлов, и тогда совсем перестала удивляться. Но только я пожалела, что не видела ее во время молитвы: думаю, в ее зрачках было на что посмотреть.
Кто–то закрыл окна кухни. Некоторое время мой взгляд блуждал по стене внутреннего двора. Этот каменный колодец мог быть и двором тюрьмы, впрочем, весь пансион святой Урсулы был тюрьмой, фасад, газон и кованая железная решетка оказались самым наглым обманом. Но то, что я увидела в глазах сестер–стряпух, превзошло любые фантазии, и потому я, сидя на постели, тоже подумала о пехотинцах, а потом – о сыне сасского пастора, который наворовал для меня полный карман пирожных в день рождения этой идиотки Эллы. Все сведения о любви, книги на эти темы, попадавшие мне в руки, постоянно подталкивали меня к Ули, хотя в тот раз ничего не случилось. Клянусь. Так что я не знаю, почему Манана выдумала всю эту ерунду. И несмотря на это, я думала об Ули и о том, что могло бы тогда случиться в туннеле, не удери я, как красная коза. Да. Я сидела на кровати в холодной, низкой комнате, и мне было бы гораздо приятнее, если бы и Ули сидел рядом со мною, было бы с кем поговорить. Но он как раз в это время ушел из школы; наверное, спускаясь в туннель, он уже прилип к кому–нибудь другому. Люди так быстро забывают, даже если речь идет о серьезном случае, вроде того – с карманом, набитым пирожными.
Кроме Ули, ни один мальчик не приходил мне на ум, хотя в эту минуту было бы очень приятно еще кого–нибудь вспомнить. Но вдруг я сообразила, что в рюкзаке у меня есть сигареты. Я стащила их перед уходом, теперь было самое время покурить, я совсем плохо себя чувствовала в интернате для девочек. Это было не по мне, но у меня не было ни копейки на гостиницу. И не знаю, было бы там лучше, и вообще не знаю, что мне следовало делать.
Я поставила рюкзак у изголовья и растянулась на спине. Дым от сигареты поднимался прямо к потолку. Я немного задерживала его во рту, а потом выдувала что было силы. Примерно после пяти таких затяжек голова у меня так закружилась, что мне казалось, будто вся комната и я вместе с нею кружимся, как карусель. А потом меня осенила идея. Навязчивая идея, которая приостановила движение дыма и заставила меня собраться. «А что, если разыскать Якоба – Эниуса-Диоклециана?» – сказала я себе. Он жил в нижней части города, и я знала наверняка, что у него был телефон. Я могла бы передать ему привет от К. М. Д. и так далее.
Я встала с постели, но плохо соображала из–за выкуренной сигареты и потому не сразу вышла из комнаты, а немного постояла у окна, хотя на кухне ничего не было видно. А потом я открыла дверь, прошла через серую веранду, через спальню воспитанниц и наконец оказалась на улице. Я никого не встретила, возможно, все были заняты едой. Ели суп с мясом, пожертвованным батальону городской пехоты.
Я снова обогнула двор пансиона, прошла мимо железной решетки. Зеленый газон был пуст, только вырванная страница из книги металась взад–вперед, подхваченная ветром, но я теперь знала, как выглядит пансион с черного хода, и вид газона не произвел на меня особого впечатления.
Ближайший телефон–автомат был в конце улицы на маленькой площади. Я вошла в стеклянную кабинку и стала изучать телефонную книгу. Трудно сказать, сколько это длилось, но стоило мне набрать номер, как некий субъект – он вырос точно из–под земли – прилип к прозрачной стенке кабины и стал подслушивать.
– Эй! – крикнула я. – Что ты там делаешь? Человек совершенно невозмутимо вытащил из кармана стетоскоп и приложил его к дверце кабины.
– Что ты там делаешь? – спросила я. – Ты с ума сошел? Это частный разговор.
– Мне за это платят, – сказал он и всунул другой конец стетоскопа в ухо.
Вначале я запротестовала, но потом привыкла к мысли, что кто–то слушает, как я говорю, и этот тип даже показался мне симпатичным. Я хотела позвать его в кабину – какой смысл ему мучиться у дверей, – но в этот момент на другом конце провода крикнули «алло!».
– Попросите, пожалуйста, Якоба – Эниуса-Диоклециана.
– Кто его спрашивает?
Женский голос был необыкновенно писклявый и агрессивный, казалось, женщина сейчас разобьет телефон.
– Это из Крепости, – сказала я. – Я хотела бы поговорить с вашим сыном.
– Каким сыном?
– Якобом – Диоклецианом.
– Ошибка! – сказала она и бросила трубку.
Я снова набрала номер и терпеливо подождала.
– Алло!
– Попросите, пожалуйста, Якоба – Диоклециана.
– Кто его спрашивает?
Голос был такой пронзительный, что моя барабанная перепонка лопнула с сухим треском.
– Это из Крепости. Я хотела бы поговорить с вашим внуком.
– Каким внуком?
– Якобом – Диоклецианом.
– Ошибка! – сказала она и бросила трубку.
Я снова набрала номер и терпеливо стала ждать, но личность со стетоскопом была явно рассержена. Она принялась грызть свой правый ус, ибо это была усатая личность.
– Алло!
– Попросите, пожалуйста, Якоба – Диоклециана.
– Кто его спрашивает?
Голос был чудовищно пронзительный, но моя лопнувшая барабанная перепонка развевалась по ветру, так что теперь мне было все равно.
– Это из Крепости, – сказала я. – Я хотела бы поговорить с вашим братом.
– Каким братом?
– Якобом – Эниусом-Диоклецианом.
– Якобом – Эниусом-Диоклецианом?
– Да.
– Ах вот что. Хорошо, сейчас.
Я прождала четверть часа. Личность со стетоскопом покончила с правым усом и принялась за левый.
Я снова набрала номер, но на другом конце провода раздались частые гудки. Там еще лежала трубка, и, даже если за это время подошел Якоб – Эниус-Диоклециан, связь была прервана. Я вышла из кабинки и печально развела руками.
– Мне очень жаль, что не могла быть вам полезна. Вы были прекрасны с усами.
От усов осталась еще четвертинка. Он не догрыз их до конца. Он вытащил из кармана пиджака блокнот и карандаш и приготовился спрашивать меня, при этом лицо у него, как у профессионального репортера, ничего не выражало.
– О чем вы собирались говорить?
– Я хотела знать, как он поживает. Это важно, не правда ли? Каждый человек живет по–своему. Вы когда–нибудь задумывались, как поживают в один и тот же миг все люди нашего континента?
– Здесь спрашиваю я, – сказала личность. – Как давно вы его знаете?
– Со вчерашнего дня.
– При каких обстоятельствах познакомились?
– Он был у К. М. Д.
– К. М. Д?
– К. М. Д.
– Тайная организация?
– Нет. Дура кузина.
– Мне не до шуток, – сказала личность и пронзила меня взглядом.
– Почему вы так печальны? – спросила я. – Могу ли я вам чем–нибудь помочь? Я не люблю печальных людей.
– Мы вызовем вас позже для дачи показаний, – сказал он и важно удалился, важная личность с четвертинкой усов.








