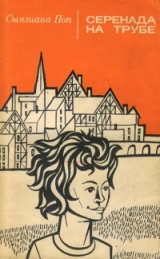
Текст книги "Серенада на трубе"
Автор книги: Сынзиана Поп
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Ворота Крепости были закрыты. Привратник спал. Я подождала, пока Шустер отделит лозу дикого винограда от дерева. За стенами Крепости взошла луна. Большая и красная, покрытая турецким золотом. Она взошла и зацепилась за решетку ограды тополей. Так что Шустер, лежа на спине, размахнулся и ударил ногами эту круглую монету, а когда я вывела коня на дорогу, луна перевернулась и вышла из Крепости. Она перебралась через стену и направилась за мною вслед. Но я свернула налево. Там проходил прямой путь к городу. Я двинулась налево и вниз, а луна осталась надо мною в листьях. Она осталась в листьях, и только искры от нее просыпались на тропинку. Я наклонилась к гриве и попросила коня остерегаться пламени. Я просила его несколько раз, но он не остерегся, и в конце концов у него занялись копыта. Тогда я спешилась. Я вошла в лес и влезла на дерево. Конь стоял на тропинке. Я оглядела его внимательно, это был очень красивый конь. Вороной, с рубиновыми копытами. Я приказала ему, И он пошел по дороге, и в движении он был очень красив, маслянистая чернота стекала с гривы на стволы деревьев, а копыта ослепительно сверкали. Я позвала его назад, и прыгнула ему прямо на спину. Он приподнялся на дыбы, а потом побежал рысью, и, когда я наклонилась к гриве, чтобы отдать ему приказ, мы уже въезжали в город.
Фасад пансиона святой Урсулы казался при луне белым. От больших, не закрытых ставнями окон потоками струился отраженный свет, заставлявший сверкать зелень газона. Кто–то обильно полил траву из шланга, И капли воды скользили по стеблям круглыми пуговицами. Я заехала за решетку, изображавшую птиц, задние ворота были открыты, так что трудностей я не встретила. Я спешилась, привязала коня за щеколду и вошла в дом. Все было неподвижно. В комнате кровати были постелены, но непорочная белизна простынь не сохранила ни следа их хозяек. Мой рюкзак лежал там же, где я его оставила, и, взяв его, я вышла на цыпочках. В квадратном дворе мне никто не встретился и во внутренних коридорах тоже, но, когда я вернулась к двери, конь исчез. Я тихонько засвистела. Потом громче. Конь не откликнулся и не пришел. Я немного подождала, и, когда слух мой привык к окружающей тишине, я различила, как жует конь и как сухо потрескивает сено. Было ясно, что он нашел себе еду где–то поблизости, но где, я не знала, шум проникал откуда–то снизу, с земли, он крался отовсюду, как ящерицы. Потом мне в нос ударил запах отавы, мятое сено всегда пахнет свежей травой, но тут запах буквально ударил меня, не может быть, чтобы здесь была только одна лошадь. Запах привел меня к сеновалу, помещавшемуся позади пансиона. Я сразу его не заметила. Дверь была открыта, прислонена к стене и подперта колом. Конь стоял у ясель слева, зарывшись мордой в теплое сено. Я тоже взяла пригоршню сена и принялась сосать сладкие травинки. Усевшись у порога на рюкзак, я внимательно разглядывала копну травы, сухих подсолнухов, наваленную под крышу. Пахло одуряюще. Луна проникла сквозь доски и вошла сюда, и там, где она высвечивала, копны сена оказались как бы снятыми крупным планом на киноленту, были ясно видны цветы и листья, и только было непонятно, откуда брался этот треск, ведь луна есть луна, а не вентилятор. Итак, сено вздымалось и падало целыми копнами, будто подхваченное воздушными вилами, оно пребывало в постоянном движении, словно дышало. Мне стало страшно. И удивительно. Над ним что–то зажглось – снизу настороженно смотрели глаза. Я почувствовала, что кто–то наблюдает за мной, но не знала, кто, потому что глаз было несколько и все они выглядывали из–под сена. Я видела их то там, то тут, а потом они скрылись. И вдруг появились в таком множестве, что, казалось, заполнили все сено. Они уставились на меня со всех сторон и ждали. Ждала и я. Лошадь, пожевав сено, обнюхала мне уши. Я отодвинула ее морду, и в этот момент где–то очень далеко раздался бой крепостных часов – они били двенадцать раз, и у меня не было больше ни терпения, ни времени, я встала и, подошла к сену, откуда смотрели глаза.
– Эй, чего ты на меня уставился? – крикнула я солдату, выглянувшему из сена, он оказался в фуражке. – Что ты на меня уставился, не видел никогда девушки? Людей вообще не видел?
В эту минуту я поняла, что это был тот самый симпатичный служивый, который тогда в пансионе с такой поспешностью надевал штаны.
– Э, да мы знакомы, мосье, ты в полдень очень спешил, а теперь не торопишься?
– Немного, – сказал солдат и показал туда, откуда доносился бой часов, – немного есть грех. Всего хорошего.
Он встал из сена и подошел ко мне, но в этот момент из–за его спины так поспешно выскочила монахиня и с такой силой схватила его за ворот, что в последующие секунды оба они снова исчезли под ворохом сухой травы.
Я перекрестилась и вышла с сеновала. Я закрыла зонт удивления и спрятала его на место в футляр, а потом, растянувшись на животе, уткнулась носом в землю. Выйдя, я не сразу заметила горшки, сваленные в кучу, и множество ботинок, выстроившихся но номерам, я просто упала на живот, но с таким шумом, что, испугавшись, не стала даже прислушиваться к боли, а, вскочив, бросилась бежать, с разбегу прыгнула на коня, хотя колени у меня были в ссадинах и кровь ручьями лилась по ногам.
Прежде чем въехать в Крепость, я остановилась у источника. Взятый в трубу где–то у стены, он протекал в густой тени и изливался здесь тоненькой, холодной как лед струйкой. Вначале я напоила коня. Потом попила сама и помылась. Сперва я обмыла холодной водой раны и приложила к ним подорожник. Там, в тени, были целые заросли. Несколько листьев я взяла про запас и положила в рюкзак, привязанный к седлу, потом я подошла к воротам. Как и прежде, стояла тишина. Привратник спал, ворота были отперты. Луна переместилась, тонкие тополя у стены брали пошлину только со звезд. Они брали с них пошлину по очереди, а потом пропускали их, и постепенно все звезды перепрыгнули через стену, а когда я помчалась в Крепость, то на мгновение звезды вспыхнули в конской гриве, хотели зацепиться за нее, но грива была блестящая, черная, и они не удержались, соскользнув вниз. Я видела, как они пылали в траве, когда я пролетала через стену среди восковых свечек тополей. Не знаю уж, как переместился свет, но стволы были теплые. Я прикоснулась к ним ладонью, и ладонь нагрелась.
Конь благополучно приземлился. Ни одна нога не была вывихнута. Я проверила все копыта, и рубины на них не повредились. Драгоценные камни прочно держались в подковах. Я снова вскочила на коня и, проезжая, видела голову привратника, уснувшего в своей комнате у ворот. Потом я пустилась галопом, потому что галопом скакало и время.
29
От ворот Крепости до Каменного дома недалеко. Я быстро проехала этот путь верхом. Улицы были пустынны, ни в одном окне не горел свет, темнота между стенами спрессовалась в компактную массу. Луне остались крыши, колокольни церквей и черепица оград, с них стекало белое серебро. Белое и звонкое, в ночной тишине можно было ясно слышать, как текла луна. И цокот лошадиных копыт, и мое дыхание. И будь у меня желание, я, может, услышала б и зеленых петухов на башенках – они вертелись и сверкали там, в вышине, как изумрудные блестки. Но желание мое было далеко, я отправила его разведчиком в высоких сапогах с зубчатыми шпорами. Оно ожидало меня у ворот Каменного дома, указывая пикой на красное окно, единственное окно, светившееся в темноте. То было окно столовой, красным светом горели свечи, и запах воска доносился и туда, где стояла я. Я подошла и подождала секунду, раздавался звон приборов, звон хрустальных бокалов, искры от их столкновения вылетали из окон. Голосов совсем не было слышно, возможно, что люди ели, конечно, ели, я знаю, как они едят. Я подошла к окну кухни, на счастье, окно было широко открыто, его открыла Эржи и оставила так, может, предчувствуя, что я приду, или это было случайно, но я долго не раздумывала, я пришпорила коня, никогда не забуду стук копыт по каменным плиткам, уложенным в виде мозаики. Конь с легкостью взял препятствие – и вот мы в доме, расстояние от земли было небольшое, приземление в кухне было подобно соло на ударных, соло без аккомпанемента. Я спешилась и привязала коня к дымоходу; на печи стояло столько горшков, и горшочков, и сковородок, и такие исходили от нее призывные запахи, что мне прежде всего захотелось поднять все крышки и наесться досыта. Я бы и сделала это, будь у меня желание. Но желание мое вело меня в дом, я слышала, как шпоры звенят наверху, на площадке деревянной лестницы. Я взобралась туда и потом вошла в комнату, где умерла Манана. Дверь была открыта. Там ничто не изменилось, старая кровать и шкаф были на месте, и тележка дли покупок стояла у стены. Только ее не было. Не было – и все. Она не лежала, приподнявшись на локтях, с отрешенным взглядом, с косичкой – мышиным хвостиком, – виднеющейся из–за уха. Ее не было, и я с трудом подходила к пустой кровати, ее не было, и все–таки она была там, я даже, может быть, отодвинула кровать, чтобы поднять матрац и заглянуть вниз. Все было пусто. Я посмотрела в шкафу, и там тоже было пусто, и под кроватью пусто, и на шкафу, и в тележке для покупок я ничего не нашла. И тогда я перестала ходить на цыпочках. Я перестала ходить на цыпочках и забыла, что это значит – украдкой. Я презрела пресмыкающихся, и я приказала им не двигаться до тех пор, пока они не научатся стоять. Да подохнут улитки под листьями, и змеи, и холодные пиявки на коже земли. Потом я спустилась на кухню, села на лошадь, поднялась по парадной деревянной лестнице, ведущей в столовую. Тяжелые дубовые двери были закрыты, из комнаты не доносилось ни звука. Эржи у двери спала стоя. Она заснула, ожидая приказаний, а их все не было, и вот ее сморил сон. И Эржи похрапывала – голова набок, руки по швам, старый часовой в ночном дозоре. Я потрясла ее за плечо и закрыла рукою ей рот, чтоб она не вскрикнула, увидев меня. Эржи вздрогнула и так испугалась, что схватилась за сердце. Потом закрыла глаза, и снова открыла, и снова закрыла и так далее, пока она не поняла, что перед ней я.
– Они ее похоронили? – спросила я, и Эржи закивала головой.
– Они заявили обо мне в полицию?
– Нет, – замотала головой Эржи, не открывая глаз.
– Почему? – удивилась я. – Побоялись? Побоялись, что ты скажешь?
– Да, – закивала Эржи.
– А ты бы сказала? Ты бы все сказала? Правда?
– Да, – кивнула Эржи.
– Что они мучили Манану, что она мыла и чистила у них уборные? Что они не давали ей есть и что Манана убежала?
– Да, – кивнула Эржи.
– Что он с тобой спал против твоей воли?
Эржи не ответила и опустила глаза.
– Или ты хотела, Эржи?
Она опять не ответила, и я, почувствовав, что она волнуется, спросила:
– Ты хочешь что–то сказать? – И сняла руку с ее рта.
– Jaj, istenem! – крикнула Эржи. – Откуда конь?
– Ш-ш! Не кричи, – сказала я, – и не переводи разговор. Хотела ты или нет, вот что я должна знать.
– Вначале нет, – сказала Эржи.
– А потом?
– Потом я привыкла.
– Ты любишь Командора? – спросила я, и мелкие капли пота выступили у меня из нор.
– Нет. Нет–нет, – быстро повторила Эржи. – Нет. Я его ненавижу. Но я привыкла.
– Ты сказала бы все, если б они позвали полицию?
– Все, – решительно произнесла Эржи и посмотрела мне в глаза.
– А где письма? – спросила я.
– Какие письма? – удивилась она.
Тогда я не стала терять времени и крикнула:
– Открой дверь!
И Эржи широко распахнула обе створки, а я остановилась на пороге столовой и сказала:
– Дамы и господа, добрый вечер! – Сказала, не слезая с коня.
За длинным столом по обе стороны в креслах с высокими, спинками сидели члены клана. Четыре подсвечника со стеариновыми свечами горели на комоде, красный свет омыл все лица, повернутые ко мне, кровавой полутенью, пощадив только блеск глаз. Я узнала глаза Командора по полуопущенным векам. Он все время был начеку, он внимательно следил и быстро направил дуло ружья на меня, как охотник на добычу. И пристально посмотрел на меня. И я увидела глаза тети Алис, фаянсовые чашки, голубые плошки с безупречной поливой, совсем близорукие. И глаза моей доброй К. М. Д., вылезшие из орбит, водянистые, слабо отражавшие мерцание света, всплески пламени, больных птиц с размякшими крыльями. И так далее. Кузен Октавиан был тоже там, все были. Я узнала бы их, будь у меня желание, но желание было далеко, оно вытащило лук и стрелы из колчана; стрела пригвоздила к столу руку Командора. Но кровь не потекла. То была рука мертвеца. Кровь не потекла, а под рукой зашелестели оранжевые письма. Очки для чтения и позы внимательных слушателей в креслах доказывали, что я не зря появилась на пороге.
– Вы уже открыли хоть одно? – спросила я.
– Мы все их раскроем, – сказал он. – Надеюсь, что это письмо из изгнания.
– Это любовные письма. Они вам неинтересны. В этом доме такое не растет.
– Мы их раскроем, – сказал он, – надеюсь, это увлекательно.
– Очень, я все их читала, но вам их не придется раскрыть.
– Ты опять? – сказал Командор.
– Опять. Я приехала на коне. Разве ты не видишь? – спросила я.
– Вижу. Так что ж?
– Ты посмотри, – сказала я. – Это вороной конь.
– Так что ж?
– А у меня рыжие волосы.
– Рыжеволосая девушка не ворует коней, – сказал кузен Октавиан ломающимся голосом и испугался. – Я пошел домой, – добавил он. Но и только, потому что мой конь вскочил на стол, и кузен Октавиан окаменел.
– Прогуливаюсь среди стаи ворон, справляющих праздник, – сказала я. – Вы проглотили маленького мышонка, но я не дам вам проглотить легенду. Если бы у меня было желание, я произнесла бы пояснительную речь, но желание мое сейчас далеко, я послала его на борьбу с паразитами. Я послала его на борьбу с войной. Оно ушло и теперь забросит свою пику и стальные шпоры. Они нужны были для вас. Теперь оно будет ходить в штатском. Оно будет гражданином демократической республики. Как в легенде – свободная воля. Мутер сделала свой выбор. И Манана. Осталась я. Отдайте мне письма. Вот почему я прошу отдать мне письма, не читая. Ни в коем случае не читая. Мне гадок ваш диктат. Меня тошнит.
– Какой они сделали выбор? – спросил Командор.
– Они?
– Да. Какой они сделали выбор?
– Хороший выбор, и я тоже его сделаю. Гораздо лучше так, чем когда тебя заставляют. Честное слово. Отдайте мне письма.
– Вначале я прочту их, а потом отдам, – сказал Командор. – Должно быть, это увлекательно.
– Да. Я сказала тебе. Очень. Но ты не должен их читать. Отдай.
– Нет, – сказал Командор.
– Да, рыжеволосая девушка не ворует коней, – сказала я и вздыбила арабского скакуна. – Я хочу жить, как мои мать и бабушка, только и всего, – крикнула я, и конь ударил Командора по лбу. Копыта коня сверкнули. Вначале рубином, потом – кровью. Но когда я выскочила на улицу и пустила его галопом, никто бы не понял, что случилось, потому что ведь кто же не знает: красного на красном не различишь. И все.
30
Я летела галопом, и мне казалось, будто это во сне. Будто я девушка за окошком, заснувшая на белых простынях. Спать, и видеть сны, и чтобы во сне появился конь. Стук копыт сперва доносится издали, затем все ближе, на грани твоего слуха. Ты властвуешь над ним вначале, но потом он тебя покоряет. Ты сопротивляешься его власти до тех пор, пока знаешь, что это конский топот, а потом, потом, когда он уже очень близко и очень ясно различим в царящей вокруг тебя огромной осенней ночи, тебе вдруг становится страшно. Ты не можешь сказать: «Это только конский топот, больше ничего»; он надвигается на тебя, и ты становишься его пленницей. Ты плаваешь в округлом синем мире, где любое прикосновение рождает эхо, и даже дыхание, струйка воздуха изо рта, извлекает самую высокую ноту на скрипичной струне. Да. Я девушка за окошком, заснувшая на белых простынях. Девушка, которая ожидает коня и слышит его топот на мостовой однажды весенней ночи. Слышит звуки и властвует над ними, а потом они ее покоряют и уводят в синюю музыкальную сферу абсолютного слуха.
Я прильнула лицом к горячей конской гриве, и мне было так хорошо, что хотелось умереть – ведь такое повториться не могло. Конь летел, и я вытягивалась от движения, точно во сне; надо мной тишина, подо мной топот, и ни один звук не вырывался наружу, тишина и шум не могли слиться, как масло с водой.
На лестницу деревянного туннеля я поднялась верхом. Я прислушивалась к глухому стуку копыт по доскам, пропитанным керосином, а потом открыла глаза, потому что справа и слева от меня проплывали рисунки мелом, они сверкали белизной при луне, фильтровавшейся сквозь просветы в перекрытии. Я остановила коня и спешилась. В этот час ночи все ковбои на свете выхватили пистолеты и прицелились в невидимого врага. Нарисованные в профиль, все они двигались в одном направлении – правая рука вытянута вперед, левая в кармане. Это были снайперы, вроде тех, которые, дважды обернув пистолет вокруг пальца, с легкостью сбивают нагар со свечи. Нарисованные в фас билли–бои выглядели косоглазыми. Они были коротко стрижены, а носы их, заостренные углом, летели вдоль лестницы косяком перелетных журавлей. Но ремни от пистолетов, старательно выписанные, и патроны на поясах явно обнаруживали, что их владельцы принадлежат земле. В сентиментальном углу, там, где, обогнув десять досок, переходишь от вендетт к сердцам и именам, соединенным знаком плюс, я нашла мел во всем нам известном тайнике и написала совсем высоко большими буквами, я написала сперва мое имя, потом имя Ули и соединила их таким толстым крестом, что даже мел сломала. Сердца я не стала рисовать, их вокруг было много, так много, что при необходимости можно было призанять и для других. Всякий, кто приходил сюда, мог легко себе представить, что одно из них бьется и для нас. Нет, сердца я не стала рисовать. Ради себя и Ули я отошла на три шага и постояла молча, присутствуя при этой помолвке, где конь был свидетелем, а наши имена написаны на деревянной стене.
В конце туннеля не стояла фрау Мюллер. И не встретила меня своим «rasch!». Она спала в постели где–то в Крепости, спала, размякнув, даже без козырька, но сапоги были рядом – старый, усталый, но верный рыцарь. Я вряд ли ее увижу, и я даже тосковала по этому воину. Перед деревянной коробкой, там, где на следующий день утром она снова займет свое место, я сделала знак рукой, похожий на нежное «прости». Потом, галопом проскочив школу, я направилась к кладбищу. Еще не пробило полночь, и я надеялась спасти Шустера от кулаков Шефа. Но не успела я миновать первые могилы, заросшие травой, как колокола на церкви протяжным звоном отметили полночь, и тогда я поняла, что все напрасно. Шеф, конечно, выполнил свою миссию, и Шустер тоже, я затормозила коня и пустила его шагом по аллеям, усыпанным мелким гравием, по узким аллеям с толченой галькой. Я пустила его шагом по высокой траве, мимо холодных крестов, мимо рощиц берез и белых акаций, мимо кустов шиповника Я пустила его шагом, но ненадолго, потому что кто же мог еще гореть где–то там, на огромном кладбище, кто же мог еще гореть, как не Белокурый Ули? Кто же мог еще зажечь столь прекрасную лампаду для Мананы и сторожить ее могилу, облачившись в чистое золото? Они все были в сборе, но Шустер лежал на обеих лопатках. Я подъехала верхом.
– Дело сделано, – объявил Шеф и указал на могилу, и могила Мананы была усыпана цветами. Четверо оболтусов стояли на четырех ее углах, стояли навытяжку, как в почетном карауле.
– Вольно! – скомандовала я, спешилась и подошла к Шустеру.
– Вы здорово его избили?
– Я один его избил, – сказал Шеф. – Я избил его одной рукой. Для такого не нужны две.
– И для этого тоже? – спросила я и указала на Ули.
– Этот был здесь, когда мы пришли. Если бы ты подоспела раньше, то застала бы меня на лопатках. Во всяком случае, следовало тебе сказать, что ты подрядила другого для этого дела с могилой.
– Я тебя подрядила, Шеф, и никого другого.
– А этот? – спросил Шеф. – Он жутко меня излупцевал. Почему он кинулся на меня, если ты его не подрядила?
– Не знаю почему. Почему, Ули?
– Потому, – спокойно произнес Ули.
– Я разве просила тебя прийти сюда с цветами?
– Ты никогда меня ни о чем не просишь.
– Я не просила тебя, но отныне буду просить. Вот увидишь.
– Проси меня как можно чаще, – сказал он.
– Разумеется, я буду тебя просить. Но покамест гори. Гори, Ули. Прошу тебя.
– Я и горю, – сказал Ули. – Горю. Конечно, горю.
– А ты? – спросила я Шустера и встала на колени. – Шеф, принеси мне рюкзак, у него из носа идет кровь. А ты?
– И я, – сказал Шустер.
– Было плохо?
– Это было жутко. Он сбил меня одним ударом. Я надеялся всем сердцем, что потребуются обе руки. Но они не потребовались.
– Не говори, у тебя так и хлещет кровь. Он разбил тебе нос в лепешку, auf mein Ehrenwort, честное слово, он расплющил твой помидор, этот подонок Шеф.
– Но одной рукой, сказал Шустер. – Всего одним ударом.
– Откуда я знал, что ты из наших? – крикнул Шеф. – Я наподдал бы тебе пару раз, честное слово.
– Дай мне подорожник, Шеф, – попросила я. – Он сверху, в рюкзаке. Я положила листок подорожника на нос Шустеру и стала его массировать.
– Теперь ты уже бывший, Шустер. С Шустером – Дон-Жуаном покончено.
– Пусть кончено, если узнаю все до конца.
– Что узнаешь?
– Почему ты позвала меня? – сказал он. – Ведь ты не случайно меня позвала. Не дави так, Zum Teufel[78]78
Черт возьми (нем.).
[Закрыть], мне больно.
– Я сказала тебе, почему.
– Ты сказала, почему не позвала других, но почему я? Почему?
– История с могилой Мананы входит в то, что ты хочешь знать?
– К черту, – сказал он. – Ведь не для мебели же ты меня позвала. Могила – просто предлог, и ты это хорошо знаешь.
– Ты очень умен, Шустер, честное слово. И у тебя такой большой зад, Трудно предположить, что одно с другим уживается. И ты выглядел настоящим свиньей. Честное слово.
– А я кем выглядел? – сказал Ули.
– Ты давай гори, Ули. Я же тебя просила.
– Я и горю, – сказал Ули, – конечно, горю. Но сколько?
– Сколько не сколько.
– Сколько не сколько горю, – сказал он. – Ладно. Это еще понятно.
– Вот видишь? – сказала я и вскочила на ноги. – Ладно, ребята, свистать всех наверх! – крикнула я и села на могилу у креста.
– Внимание, Мутер сбежала с лесником.
Они уселись рядышком и навострили уши. Шустер с раздутым носом больше, чем обычно, был похож на свинью, но я уже не могла ему этого сказать. Шеф и другие подняли воротники, а Ули был желтым. Трава вокруг него окрасилась в цвет воска, и, так как сзади находился ствол березы, он мог быть и фонарем. Дул ветер, и фонарь качался.
– Она убежала с лесником, и они ее ликвидировали. Они убили все вести о ней и замыли следы щелоком. И Манана тоже убежала, а когда вернулась, они заставили ее чистить уборные. Ей было семьдесят пять лет, и она сбежала с полицейским. С Леонардом.
– У него были усы? – спросил Шустер.
– Нет, не было. Усов, к сожалению, не было.
– Я знаю одного полицейского с усами, который вздыхает так часто, что во дворе у него всегда дует ветерок. Словно настоящий ветер, ей–богу. Сидит себе в доме, вздыхает, и можно натянуть веревку и сушить белье.
– Это не тот, – сказала я, – у Леонарда не было усов.
– Да, но если бы были, это был бы тот, которого я знаю. Точно, – сказал он и пощупал нос.
– Сказать вам, почему они убежали? – спросила я, а они замотали головами, мол, не нужно. – Если хотите, я скажу вам, что Манана ездила на велосипеде, а у Мутер были невероятные волосы. Думаю, это достаточные причины. Если ты можешь держаться на двух колесах или у тебя несметное количество волос, стоит делать что хочется. Не думаю, что нужно иметь слишком много аргументов, чтобы сбежать в один прекрасный момент. Собрался и до свидания.
– До свидания, – сказал Шустер и кивнул головой.
– Они делали что хотели, а это главное, – сказал Шеф и встал. – Это сенсационно. Из ста людей девяносто девять делают лишь то, что могут. Один–единственный делает то, что хочет, но для этого надо обязательно сбежать.
– Ты тоже сбежал, Шеф, – сказала я. – Вот почему я позвала тебя. Ты сбежал фантастически. И ты уцелел.
– Пресноводная форель, – сказал Шустер. – Ш–ш–ш, фьють, сквозь хрусталь.
– Довольно, – сказал Шеф. – Больше не пойдет. Я возвращаюсь. Красный фонарь у ворот матери надо как–то оплатить. Только оттуда начинается настоящая свобода. Я так думаю.
– А я убрала Командора. Ей–богу. Передними копытами коня. У него были письма Мананы, и он не хотел мне их отдать, а если бы я их там оставила, пришлось бы мне вернуться назад. Я поступала бы, как ты, не будь у меня этого великолепного скакуна.
– Ты порвешь их?
– Сожгу, – сказала я, направляясь к Ули. Я вынула письма из–за пазухи, протянула руку, и горячее золото молниеносно испепелило их. – Это были ее любовные письма, – сказала я и повернулась к могиле. – Теперь ты понимаешь, Шустер? Ты до конца понимаешь?
– Да, – сказал Шустер. – Но я хотел бы, чтоб ты мне еще сказала. Чтобы ты и мне сказала, почему я сбежал и как я спасся. Я свободен, но хочу узнать это от тебя, с самого начала.
– Потому что ты казался настоящей свиньей, и все люди в это верили. И черт знает, где ты бродил в это время. Понимаешь? Ты сделал мне нокаут сегодня на кладбище. Ты преподнес мне самый большой сюрприз, вот ей–богу, ты, с твоим задом, казался настоящей свиньей, а тут вдруг… Теперь понимаешь?
– Да, – сказал Шустер, и он был очень счастлив.
– Так что мы все одного поля ягоды, и потому я вас всех позвала на кладбище. Нельзя надругаться над смертью Мананы, а вы все чисты. Вы сдвинулись с моста, а кто ходит по ветру, тот становится чист.
– Даже он? – спросил Шеф и показал на Ули. О нем ты не сказала. Разреши ему погасить фитиль и скажи. Он горел уже, с него хватит.
– Мутер сбежала с лесником, – сказала я громко и заложила волосы за уши.
– Ну и что? – спросил Шустер.
– Манана – с Леонардом.
– А ты? – спросил Шустер из темноты и посмотрел мне прямо в глаза.
– И я, – сказала я. – Со мной обязательно должно случиться то же самое. Я очень люблю делать, как мне хочется. Я очень его люблю. Я тебя люблю, Ули, – сказала я, обращаясь к нему. – Я очень сильно тебя люблю. Ты уж немного потерпи, мы непременно сбежим. Понимаешь, Шеф? – спросила я. – Мне ничего не остается делать. Они обе поступили так. Эту историю надо довести до конца, тут вопрос в характере.
– Ну да, – сказал Шеф, – в конце концов, в этом вопрос.
– Это точно, – сказал Шустер, – ты не сомневайся.
– Я оставила Манану у окна, чтобы к ней вернулся ее Леонард. И Мутер я тоже оставлю. Отцу. Если Ули со мной это сделает, я тоже уберусь. Мне очень важно, чтобы механизм нашего семейства работал исправно до конца. А потом приходите искать наши души в лесах и знайте: я никогда ничего не сделала против чистых намерений.
Я ненавидела насилие и фальшь, вот почему наши души будут светиться белизной. Агнцы божии в одном загоне. Наконец без перегородок. Без стен. А теперь – всё, – сказала я и привела коня. Я привязала его к деревянному кресту могилы и похлопала по спине.
– За ним придет кучер, потому что иначе он умрет с голоду, этот голубоглазый кучер.
– Привет, детишки, – сказала я потом и пожала руки оболтусам Шефа, всем по очереди. – Привет, Шустер. Это крупное надувательство, – сказала я и показала на город, – никогда нас не доконает.
– Привет, – сказал Шеф и пожал мне руку, – ты все–таки иногда спускайся с гор. Я чертовски буду скучать по людям после твоего отъезда, – добавил он.
– Ты остаешься с Шустером, – сказала я. – Он прекрасное утешение. Честное слово.
– Да, но вначале мне нужно побить его обеими руками, – сказал он. – Иначе возникнет большое недоразумение.
– Бей его, – сказала я. – Бей его, и хватит. Будьте счастливы.
– Счастье и мир, – сказал Шустер и опять стал очень сентиментальным. Не говоря уж о том, что по лицу его катились слезы.
– Плачешь? – спросила я грозно. – Опять тебе жаль?
– Я от счастья плачу, – сказал он. А потом громко крикнул: – Вся эта история – это счастье, счастье без конца! Прощай.
– Прощай, – сказала я и взяла Ули за руку. Я взяла Ули за руку и пошла по измельченному гравию аллеи, и я пела, а Ули продолжал гореть.








