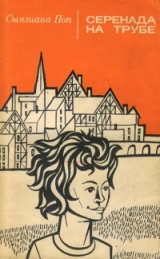
Текст книги "Серенада на трубе"
Автор книги: Сынзиана Поп
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Я тоже двинулась по аллее, вначале как все люди, левой, правой… Потом я обратилась в лошадь, хотя не знаю, как у них ведется счет. Это очень трудно сообразить. Вначале они поднимают задние ноги, но не обе сразу, а по очереди, я бы дорого отдала, чтоб увидеть лошадь, идущую на двух только передних ногах, лошадь, которая стояла бы на «руках» пятнадцать минут. Но лошади поднимают ноги по очереди, вначале задние, потом передние, правда, не знаю точно, все ли они начинают с правой или это неважно. Во всяком случае, можно бежать рысью и на двух ногах – цок–цок, цок–цок, очень здорово можно бежать, в особенности если в этот момент думать об осенней охоте, такой, как в английских фильмах.
Вначале идет сцена в конюшне, жокей с засученными рукавами, теплый пар, потом он работает щеткой, и наконец рыжий круп сияет, как фитиль газовой лампы.
Потом все собираются во дворе замка. Замок точно из песка, дикий виноград засох на стенах, и тут появляется его владелица с пепельными волосами. Великолепную гамму цветов умеют создать англичане в своих фильмах об охоте! Единственное синее пятно – глаза бронзового мужчины. Он первый выходит к воротам, и, всякий раз когда он поворачивает голову, синий свет вспыхивает на широком экране.
Потом сняты поля с выжженной травою, колючие побеги и обуглившиеся леса. Покамест лошадиный галоп доносится издали, сквозь изъеденный осенью камыш долетает чья–то грустная песня, и, когда белокурая женщина появляется на опаловой лошади, перелетающей через засохшие на ветру колосья, ты сразу наверняка знаешь, что она и есть главная героиня. Она приезжает с какими–то мужчинами из соседнего имения, и даже если тебе нравится владелица замка с пепельными волосами, все равно блондинка завоюет сердце бронзового мужчины, потому что «джентльмены предпочитают блондинок»[60]60
Название книги американской писательницы А. Лус.
[Закрыть].
В сцене охоты я всегда закрывала глаза руками, жутко видеть, как ловят оленя, бронзовый мужчина его закалывает, четверо кретинов держат, чтоб не убежал, и потом животное умирает стоя, и последнее его украшение – это высунутый розовый язык и выпученные глаза.
Такие фильмы мы смотрели с Мананой; раз в месяц мы спускались с гор в город, по воскресеньям шли на утренники, и во время этой жуткой сцены я закрывала глаза и пряталась за Мананину спину.
– Смотри ты и потом мне расскажешь, – говорила я, и она отвечала:
– Ладно, давай быстро прячь голову. – И потом рассказывала вещи совсем не страшные, и мне даже жаль было, что я не досмотрела до конца.
– Они его не добили? – спрашивала я, и она говорила:
– Нет, как его убить, он кинулся в лес и оставил их с носом.
И только в тот день, когда, набравшись храбрости, я посмотрела до конца и сама увидела, как все происходит на экране, я поняла, что и Манана тоже сидела с закрытыми глазами, а потом порола мне всякую чепуху.
– Твоим бы языком кружева плести, – сказала я ей.
– Лучше так, чем орудовать ножом, упаси боже, – прошептала она, крестясь в темноте. – Я б их всех отправила на каторгу.
– Тише! – закричал кто–то сзади.
– Тише, мыши, – ответила Манана и потом зевнула.
– Я соскучилась, пойдем, пожалуй, в другое кино. Может, там идет ковбойский фильм.
И мы шли на ковбойский фильм, а потом на другой, с Дональдом, и, возвращаясь в горы последним автобусом, от канатной дороги до самого дома насвистывали веселые мелодии последнего фильма. Нам было страшно ночью в лесу, но Манана свистела невероятно. Невероятно громко и с большой пользой для нас. А потом мы обе ложились спать. Мутер и отец по воскресеньям всегда исчезали, запирались в своей комнате или до рассвета бродили по горам, так что мы допоздна друг другу рассказывали, что нам понравилось больше. Манана изображала Дональда, ходила но дому в ночной рубашке, ходила, раскачиваясь, и была похожа на маленькую утку, а я продолжала английские охоты, где играла роль владелицы замка с пепельными волосами, надеясь победить неотразимую блондинку. Я появлялась на коне, и все немели от изумления, и бронзовый мужчина падал к моим ногам.
– Поклянись в верности, несчастный, – произносила я, и бронзовый мужчина поднимал синие глаза, и из них катились большие слезы.
– Застегни пижаму! – кричала из постели Манана. – Ты простудишься, сегодня ведь в доме не топлено.
Я быстро забиралась к ней под одеяло и продолжала грезить об охоте десятки раз с начала до конца. И я была так хороша верхом на лошади и так бесконечно было восхищение моего кортежа, что я, уткнувшись и подушку, плакала.
По гальке аллеи приятно было бежать рысью, камешки чуть похрустывали под ногами, и я пустилась еще шибче, хотя так безумно бежится лишь поздней осенью, осенью, когда холод и воздух настолько прозрачен, что табун лошадей вдруг заскользит, как за стеклянной ширмой. Тем не менее я чувствовала себя превосходно, мне было чрезвычайно весело, я нашла четырех настоящих друзей, и, хотя мне всегда очень правилось слушать, как Якоб – Диоклециан играет на рояле, я никогда, ни за что на свете не отказалась бы от Шефа. Я была уверена, что он отнесет цветы на могилу Мананы, мне казалось даже святотатством идти сейчас на кладбище. Если Шеф меня увидит, он, конечно, подумает, что я его проверяю, а за такое обвинение я покончила бы с собой у его ног. Так что я решила не ходить, хотя начала уже скучать по Манане, я очень по ней скучала, и единственным животным, которое я поймала на этой одинокой охоте в парке, был Командор. Его–то я схватила и убила недрогнувшей рукой точно так, как это делали в английских фильмах.
И у него так же высунулся язык и выкатились глаза, но на траву я бросила не испускавшее дух тело, а старый скелет, который астма превратила в твердый кокон. Я слышала, как он катался, точно стеклянный глаз в голове у куклы. Вторая смерть старого Командора. Вторая смерть.
В конце аллеи было несколько цементных ступеней, потом шла улица, соседствующая с парком. Спокойная улица, без машин, одни тихие пешеходы. Я пронеслась по ней из конца в конец рысью, с охоты всегда возвращаются верхом, но за первым же углом город обрушился на меня с такой силой, что фильм оборвался на середине и в зале кинематографа зажегся подслеповатый свет.
Мне очень захотелось есть. Нужно было обязательно куда–нибудь пойти поесть, воспоминание о макаронах с маслом и земляничном креме отодвинулось уже в прошлое десятилетие. Казалось, целая вечность прошла с тех пор, как я вылезла из окна Каменного дома, и вот теперь часы на крепостной башне били всего пять раз. Было пять часов пополудни, а автобус в горы уходил в пять утра. Впереди были вечер и ночь в городе. Так еще много оставалось времени!
У первого светофора я простояла четверть часа. Я собиралась пройти весь бульвар, светофоры отняли бы у меня достаточно много времени, но в эту минуту близнецы Порелли выросли рядом со мной как из–под земли, так что я едва успела повернуться налево кругом и войти на переговорный пункт, потому что это было ближайшее место, где можно укрыться. Мне совсем не улыбалось, если эти пострелы спросят меня, что случилось. Ну какой интерес давать кому–либо объяснения? Поэтому я села на деревянную скамью, которая шла вокруг всего помещения, и стала ждать – вдруг красный свет отделит меня от любопытства коллег.
Все телефонистки говорили в нос. Они говорили таким манером всегда, когда просили тот или иной город, и потом «Первая кабина», «Вторая кабина» – точно таким же тоном, как «Пройдите в вагоны», или «Стекла, стекла», «Старые бутылки покупаем», тоном, который держится, как шляпа на голове умершего господина; никто об этом ничего не знает, он стоит, и можно подумать, что жив, хотя он умер, и только шляпа держится на его макушке. Господин, составленный из деревянных органов, сработанных в столярных мастерских больницы, и в новехонькой фетровой шляпе–котелке, к которой полагается трость. И башмаки с гетрами. Он тебе подмигивает и дает два лея на мороженое.
Когда телефонистки снимали наушники, были слышны все далекие города, десятки голосов скрещивались в помещении, я ясно различала обрывки фраз, говорили женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, но еще чаще низкий голос произносил «алло», а на другом конце провода кто–то тонким голосом кричал: «Господи боже мой, Джордже, это ты?» Удивляюсь, как это у телефонисток хватало духу снимать наушники – кто, как не они, слушали ежедневно десятки любовных объяснений. Да разве дело только в романах, ведь эти низкие и высокие голоса, взволнованные или очень веселые, неизбежно наводили на мысль о комнате с цветными шторами или о другой комнате, куда не проникает солнце, где в углу стоит рояль и пахнет мужчиной, который курит и употребляет одеколон «Arden for men»[61]61
«Арден для мужчин» (англ.).
[Закрыть], или о женщине, которая носит капот из эпонжа поверх шелковой пижамы. А перед окнами как раз проезжает красная беговая машина, или двое мальчишек на роликах, или зеленщик кричит: «Свежие трюфели!» Так что жизнь вырывается из черных эмалированных наушников телефонисток, и я не понимаю, как можно от такого отказаться даже на секунду и тем более как можно вставлять эти невыносимые «алло!». «Алло», произнесенное в нос, – точно проверка для операции но поводу полипов. Пустое, засохшее, в высшей степени безразличное «алло!», как шляпа на голове господина с деревянными органами. Соломенная шляпа. Так гораздо лучше. Засохшая шляпа, которую в любую минуту может унести ветер. Как и эти «алло». Воздух, насыщенный соломенными панамами и «алло», сухими, как американский табак.
Какие–то люди, сидевшие рядом со мной, поднимались и входили в кабину, другие ждали, и я в конце концов так к этому привыкла, что могла бы поклясться – рано или поздно телефонистка вызовет и меня. Но окликнула меня не телефонистка, а мать Эллы, мадам Реус, собственной персоной выросшая передо мной.
– Как поживаешь, моя дорогая? – сказала она, и энтузиазм ее был так велик, что, если бы употребить его с толком, можно было бы построить на нем собор. – Как поживаешь?
Она была блондинка, держалась прямо, и, хотя, в общем, хорошо сохранилась, шея у нее под небрежно завязанным платком в горохи выглядела довольно старой.
Я бы с удовольствием сбежала, но улизнуть оказалось невозможно. В тысячу раз лучше было бы столкнуться с двумя Порелли, чем с этой старой козлихой, бывшей учительницей в балетной школе. Она постоянно держала ступни носками врозь, и это было похоже на современные вешалки о двух ногах. Так и хотелось ей сказать: «Вторая, третья позиция», – и думаю, она все это проделала бы, расставив руки в стороны.
– Как ты поживаешь? – снова спросила она и протянула мне руку с ногтями, выкрашенными в цвет красного дерева.
Я подала ей руку, и, само собой разумеется, она основательно ее потрясла. Она принадлежала к числу людей, усвоивших спортивные манеры – как будто таким образом они принимают грудью жизнь. Она носила всегда мужские туфли без каблуков и короткие юбки, не доходившие до ее стальных колен.
Реус уселась рядом со мной на скамейку и сказала:
– У меня разговор в половине шестого. Надеюсь, что телефонистки вызовут меня вовремя. Алло! – крикнула она, обращаясь к деревянной загородке, где все сидели в наушниках. – Алло! Я здесь! Я – Реус! У меня разговор в половине шестого.
Конечно, никто не обратил на нее внимания, хотя она проговорила все это басом и потом помахала в воздухе рукой, рукой с ногтями цвета красного дерева.
– Как ты поживаешь, моя дорогая? – спросила она в третий раз и вынула из сумочки пачку сигарет. – Надеюсь, ты хорошо себя у нас чувствовала. Вы так прекрасно танцевали тогда в саду.
– О, я чувствовала себя на самом деле превосходно, – сказала я. – Элла очень хорошо играет на аккордеоне.
– Не правда ли, не правда ли! – произнесла она и ударила меня двумя пальцами, которыми вынула из пачки сигарету.
– Ты куришь? – спросила она затем, протягивая мне пачку.
– Нет, не курю. Спасибо.
И мне действительно не хотелось курить перед ее носом, просто не хотелось доставлять ей этого удовольствия. Слишком часто уж она таскала в школу подарки учителям. И думаю, капала на нас будь здоров! Все, что болтала дома эта кретинка Элла, превращалось в советы по воспитанию детей. «Я не хочу вмешиваться, господин директор, но…» Дорис Эсигманн как–то вызвали в канцелярию за ее ноги, и она слышала все, от начала и до конца. Госпожа Реус информировала, как настоящий шпион. Да и рожа у нее была – темные очки подняты на лоб, настоящий старый парашютист.
– Ты не куришь? – удивилась она. – О, почему ж иногда не затянуться? Элла и то иногда балуется. Мы обе курим, когда господина Реуса нет дома. У моего супруга очень устаревшие взгляды. А Элла мне говорила, что вы все курите там, в школе, на больших переменах.
– Ну конечно, курим, курим все как сумасшедшие, только у меня с недавнего времени от табака кашель, вот я и бросила ненадолго.
– Да что ты, – испугалась госпожа Реус, – как бы не было чего серьезного!
– Нет. Не думаю, что это рак легких, – сказала я и скромно потупила глаза, хотя хотелось крикнуть ей в лицо, что Элла врет и что она настоящая вдова убитого под Ватерлоо. Кроме меня, ни одна девочка в классе не курила, и вот сейчас как раз я‑то и должна была притворяться. Но если уж все равно деваться некуда, тогда, Пинелла, – на коня!
– А что еще нового там, наверху? – спросила госпожа Реус и подняла к небу килограммы туши для ресниц. «Там, наверху», – значит в школе, но ей хотелось придать разговору сердечность, и потому она выражалась, как мы в классе.
– Что нового? О боже мой, да там миллионы новостей. Каждый день случается примерно двести пятьдесят тысяч разных штук.
– Что? Что? – подтолкнула меня госпожа Реус, вспыхнув, как витрина, и стряхивая пепел с сигареты себе на туфли.
– Нет никакого смысла вам их рассказывать, – извинялась я. – Вы сразу все забудете. Голова просто так не может удержать двести пятьдесят тысяч новостей.
– О господи, но я постараюсь! – закричала госпожа Реус и выкинула руки вперед.
– Нет. Я попросила бы вас записать, – сказала я. – Я очень боюсь путаницы, а то потом эти типы меня линчуют.
– Ох! – застонала госпожа Реус, и было видно, что она насилу дождалась этого предложения. – Одну минуту!
Она вынула из сумочки приготовленный блокнот, который всегда носила с собой на всякий случай. Потом закинула ногу на ногу и посмотрела на меня очень внимательно, слегка разинув рот. Губы она красила розовато–лиловой помадой, которая лежала комками и кое–где прилипла к сигарете.
– Во–первых, по вечерам, – сказала я, – выйдя из школы, мы все идем в туннель и там предаемся свальному греху. И никто оттуда не уходит целых два часа.
– Не может быть! – сказала госпожа Реус, строча с бешеной скоростью.
– Нет, правда. Очень даже правда. Ступени достаточно широкие, а все умирают по таким вещам.
– Господи, да как же вы это делаете? – закричала она и торопливо погасила сигарету о каблук. – Как вы делаете это все вместе?
– Да очень просто. Там совершенно темно. Все молчат и занимаются своим делом. Совсем не сложно.
– И ты? – спросила она и посмотрела на меня в упор.
– Само собой разумеется. Все.
– Что ты хочешь сказать? – спросила она и зажгла другую сигарету большой мужской зажигалкой.
– Пожалуй, дайте мне тоже, – попросила я, – глядя на вас, жутко захотелось курить.
– Пожалуйста, – сказала она и протянула мне пачку в целлофане. – Они очень хорошие. Крепкие. Кажется, в них есть опиум.
– Это неважно, я привыкла, приходилось уже курить и марихуану. О господи, она дает кое–какие ощущения. Знаете, там, наверху, мы курим исключительно импортные сигареты. Элла не говорила вам? Удивляюсь. То есть контрабандные сигареты. Жутко дорого стоят.
– Ну хорошо, а откуда деньги? – удивилась госпожа Реус, с невероятным любопытством ожидая моего ответа.
– Деньги? Что значат деньги? – произнесла я с презрением. – Они у нас в избытке! Мы там, наверху, работаем на обмен. Вначале все по очереди воруем дома. Потом выходим из Крепости, спускаемся в город, и эта история с туннелем идет на деньги. Перед тем как с вами встретиться, я как раз разделалась с двумя такими партиями. На сегодняшний вечер мне нужна была круглая сумма. Хочу пойти в бар.
– В бар? – удивилась она, и ее правая рука, которой она держала карандаш, явно задрожала. – Вам разрешают ходить в бар?
– Ах, как будто кто–нибудь что–нибудь разрешает на этом свете! Я просто иду в бар. Всегда, когда мне грустно, хочется выпить спиртного.
– Что–то случилось? – спросила госпожа Реус необыкновенно участливо.
Возможно, она надеялась на вознаграждение золотом: круглые десятки по всем предметам для этой идиотки Эллы, несмотря ни на что.
– Я убила Манану, – сказала я и глубоко затянулась сигаретой.
– Что–что? – спросила госпожа Реус, испытующе глядя на меня.
– Я убила ее сегодня утром. Потом я посадила ее у окна, чтобы Леонард ее нашел. И он нашел ее. Клянусь, я видела своими глазами.
– Не понимаю, – сказала госпожа Реус и поставила ноги рядом. – Не понимаю.
Но в эту минуту мир начал вертеться, и я с ним вместе, так что я закрыла глаза и на некоторое время задержала дыхание.
– Тебе дурно? Боже мой! – завопила госпожа Реус – Ты пожелтела.
– Прошу вас, не волнуйтесь, – прошептала я, сделав при этом огромное усилие. – Мне не дурно. Я прихожу в себя. Не так–то просто совершить преступление, хотя там, наверху, все принимают участие в подобных делах. Знаете, младший брат, мачеха, ну, одним словом, тот, кто сидит в печенках. Мы у себя снимаем скальп только с предателей. Было два таких случая. Еще мы кое–кого подозреваем, но пока нет доказательств.
– Кого? – сказала госпожа Реус и опустила глаза.
– Со временем это выяснится, – сказала я, и пепел от сигареты упал мне на подол.
Длинный пепел, как червь.
– Я смотрю, ты совсем не затягиваешься, – удивилась госпожа Реус, – и вообще ты не очень–то куришь сигарету.
– Это особая техника, – улыбнулась я. – Вначале полоскаешь рот, а потом глотаешь дым.
– Глотаешь? Как так?
– А так. Это совсем не трудно сделать.
– Пожалуйста, покажи мне, – попросила она, – я большая охотница до всяких новшеств.
– Непременно покажу, – сказала я, – но я забыла сообщить вам очень важную вещь. Перед тем как последний раз затянуться, хочу вам кое–что сказать. Но вы должны дать честное слово, что будете держать это в строжайшем секрете.
– Я – человек чести, моя дорогая, – произнесла она и снова протянула мне руку с ногтями цвета красного дерева. – Даю тебе слово.
– Хорошо, – сказала я, – так знайте, что Элла – самый главный организатор всего, что творится там, наверху. Вы не поверите мне, если я скажу вам, что она остается в туннеле два с половиной часа и даже после этого могла бы начать все сначала.
– Что–что? – переспросила госпожа Реус и молниеносно начала желтеть.
– У нее очень подходящие для этого ноги. Толстенькие и белые и довольно привлекательные. Все ребята просто дерутся из–за таких прелестей. А она кричит: noch ein mal, noch ein mal[62]62
Еще раз, еще раз (нем.).
[Закрыть], – и этому, думаю, она от вас научилась, потому что вы именно так нам кричали из окна, когда мы как сумасшедшие танцевали польку, а потом пили прекрасный сироп. А теперь посмотрите, как я глотаю дым.
Госпожа Реус давно уже пожелтела и теперь стала постепенно зеленеть, она сидела, упершись руками в свои мощные колени, а ноги ее повернулись как–то внутрь. Это была новая позиция, я до тех пор ее не знала, но не успела подробно разглядеть, потому что на самом деле проглотила дым, и теперь он лез у меня из ушей, из глаз и из носа, а госпожа Реус вдруг закричала «караул». «Караул!» Хотя до самого конца было ясно, что на меня она не обращала внимания, а кинулась бежать на улицу, несмотря на то, что телефонистка как раз установила связь с провинцией. И никто не ответил па вызов, хотя «алло!», оставшееся без ответа, – самая печальная на свете вещь.
А я потихоньку пьянела от опиума.
23
– Не уходи, ты больше не вернешься. Не–у–хо–ди–ты–боль-ше–не–вер–нешь-ся.
– Будь благоразумен, Малыш, сумасшедшая тебя убьет! Будь–бла–го-ра–зу–мен–ма–лыш–су-ма–сшед–шая–те–бя–у-бьет.
– Я его убью. Я–е–го-у-бью.
Я встала с травы и направилась к Командору, но не шла, а летела – просто потому, что дул ветер. Я поднялась над землей и немного покружилась в воздухе, как лист. Не близко и не далеко от того места, где они сидели по–турецки на зеленой лужайке, держа в руках рупоры. Мальчик Пипэл следовал за мной на близком расстоянии, я летела, а он шел по земле, и потом, когда я спустилась, он взял меня за руку и привел назад в круг.
– Ты кто? – спросила я.
– Ты кто, ты кто, ты кто, – пропел он и показал мне язык.
– Может, ты не знаешь, что мне пятнадцать лет? – сказала я.
– Может, ты не знаешь, что мне двадцать? – сказал он.
– Как бы не так, ты в сто раз меня меньше. Ты, верно, и не знаешь, как смотришь?
– Как смотрю?
– Прямо вперед. Но я все равно убью Командора, потому что он подлец, он не пойдет к Мутер. Если она его схватит, ему не поздоровится. Но он не идет. Он едва дотаскивается до комнаты Эржи. А потом я чувствую омерзение… Но почему же не пришла Эржи?
Я приложила рупор ко рту и закричала:
– Эржи! Эржи!
Вначале никто не ответил, но вот у конца слаломной трассы появилась запыхавшаяся Эржи. Я смотрела на нее сверху, с плато, и она была маленькая, как жучок. Она размахивала руками и ногами, но кто разберет ее сигналы? Потом она побежала вверх по холму, хотя трасса была очень крутая, но она все продолжала бежать и скоро добралась до нас и тут же уселась на траву по–турецки, с рупором в руках.
– Что теперь будем делать? – спросила я.
– Опусти голову мне на колени, – сказал мальчик Пипэл, – я тебя не трону.
– Сейчас не могу, надо говорить в рупор.
– Кому ты собираешься кричать? – спросил Пипэл. – Дай мне адрес или телефон.
– Погоди, этот проклятый горбун не хочет идти, и потому я его убью. Кто–то должен же его когда–нибудь ликвидировать.
Я снова поднялась из круга и хотя и парила в воздухе, но все же вцепилась в Командора.
– Нет! – закричала тетя Алис. – Нет! Он не виноват.
– Пусть она скажет, виноват или нет, – проговорила я и указала на К. М. Д.
Но она пожала плечами и сказала, что это совсем ее не касается.
– Это у тебя пройдет, – сказал мальчик Пипэл и засмеялся, нагнувшись надо мной.
– Пошли, – сказала в эту минуту Манана. – Пошли, ну его к черту.
Я вскинула на спину рюкзак, Манана схватила чемоданы, и мы вышли из нашего дома. Мутер нельзя было найти. Мы искали ее все утро, облазили все закутки, но лес был огромен, и ее не было ни на одной горе. Мы кликали ее, и я, и Манана, но она не отвечала, хотя, думаю, была поблизости. Некоторое время мы ждали ее у могилы отца, она сама, собственными руками ее вырыла, но и туда она не пришла; впрочем, после того, как мы втроем его там похоронили, без всякой церковной службы, Мутер уже не оставалась поблизости, она бродила взад–вперед и пела, но как она пела, господи боже мой, вам никогда не узнать! Два дня мы сидели с Мананой на деревянных ступенях нашего дома и слушали, как говорила она эту песню, больше слова, чем мелодию, этот рассказ о любви, в тайны которой и никогда не смогу проникнуть, потому что на единственное возможное объяснение обрушилось безумие Мутер. Два дня мы сидели там, и багаж стоял рядом, и только в четверг утром Манана сказала: «Давай уйдем, больше ничего нельзя сделать».
– Цимбалы ты не берешь? И велосипед не берешь?
– Нет, – сказала Манана, – мы еще вернемся, я заперла их на чердаке. Если я не вернусь, то ты вернешься, девочка, понимаешь? Ты вернешься, предашь огню все, что здесь осталось. Она до того времени умрет.
– Умрет? Почему? – спросила я.
– Для нее так лучше, – сказала Манана и стала быстрее спускаться по тропинке.
Мальчик Пипэл состроил страшную рожу.
– Господи, что ты там увидел? – закричала я.
– Посмотри, посмотри, – сказал он, – посмотри быстрее.
Я посмотрела назад и тут же закричала:
– Манана, смотри, она пришла.
В конце тропинки, наверху, неподалеку от входа в дом стояла Мутер. Она оперлась на дерево и, хотя май был очень теплый, подняла воротник отцовского пиджака и поверх него в упор смотрела на нас.
– Не кричи, – сказала Манана, – она убежит. Пускай посмотрит нам вслед. Это единственно возможное расставание.
– О господи, – обратилась я к мальчику Пипэлу, – она, бедняжка, не знает, куда мы уезжаем, и не понадобится ли ей еще что–нибудь… Послушай, Манана, я думаю остаться здесь.
– Крикни ей, – сказала Манана. – Крикни ей тогда.
И я крикнула:
– Мутер, дорогая моя, я очень тебя люблю.
И она кинулась бежать, как испуганная коза от охотника, и только мелькнули ее рыжие волосы между стволов сосен.
– Пошли, – сказала Манана, – надо идти, пропустим рейс. Мы даже не заметили, что перед домом зацвели сосны, ты видела?
– Да, видела… Так всегда случается. Когда появляется Мутер, я сразу замечаю все вокруг до малейших подробностей. Почему Мутер такая красивая, Манана?
– Я тоже была красивая, – сказала Манана, – и я была молода, но я никогда не была такой, как она. Думаю, твой отец – человек особенный. Я так думаю.
– Манана, я хочу теперь немного поплакать, потом пойдем дальше, – сказала я.
– Хорошо, – сказала Манана, – давай. – И поставила чемоданы прямо на тропинку и, пока я плакала, делала гимнастические упражнения, чтобы размять руки.
– Не плачь, – сказал мальчик Пипэл, – это пройдет, это не очень страшно. Со мной тоже такое случилось в первый раз.
– Оставь меня, оставь меня! – крикнула я.
– Ш-ш, – сказал он, – не скандаль, а то кто–нибудь вызовет Скорую помощь. Лучше дай мне номер телефона.
– Там нет электричества, – сказала я. – А этого старого дурака я ликвидировала. Это должно было когда–нибудь случиться. А вспорола его по–английски, кинжалом.
– У тебя никого нет? – сказал он и погладил меня по лицу.
– Это ты, мальчик Пипэл? – спросила я.
– Да, – сказал он, – это я.
– Ну, тогда… – И потом я крикнула: – Манана, Манана, подожди, я тоже иду, не оставляй меня одну. – И я бросилась бежать по дорожке, хотя рюкзак был очень тяжелый и каждый раз наподдавал мне по почкам.
У канатной дороги никого не было, весной люди не слишком–то часто отправляются в горы, а если и приезжают, никто не возвращается утром вниз, в город. Утром всегда солнце освещает каменные вершины, освещает леса, и можно сойти с ума, гуляя по дорожкам, где солнце стекает полосами, если ему преграждают путь ели, или просеивается сквозь сито, если уже зазеленели дубы. Здесь мрак и свет, и красный муравей вдруг вспыхивает, как рубин, а потом под ногами оказывается маленький уголек. Солнце раздувает всякие приключения, а тень их убивает. И единственная постоянная вещь – это звяканье колокольчиков на овцах, оно доносится издалека, но постоянно, и очень успокаивает, когда знаешь, что кто–то пасет овец над тобой на поляне, а если он еще время от времени кричит какое–нибудь слово, то хочется просто от радости делать кульбит. Потому что потом можно целый час сидеть, прижав колени к груди, и смотреть на гриб, выглядывающий из–под старых листьев, подберезовик, подосиновик или боровик на подкладке из пуха. Так что я каждый день уходила в лес и знала – со мной кто–то есть; даже если этого пастуха я никогда не видела в лицо и он был на двадцать километров надо мною. Но тем не менее со мной был еще один человек, а это чего–нибудь да стоит.
– Я уйду на минуту, Манана, познакомиться с пастухом, я встречалась с ним каждый день. Не годится уехать, даже не сказав ему «до свидания».
– Дело твое, – сказала Манана, – но знаешь, немец–механик запустил канатную дорогу специально для нас, и я не могу просить его еще раз запускать мотор.
– Я тоже не могу, – сказала я, – и мне очень жаль, поезжай одна.
И я вернулась на свое обычное место в лесу и потом по колокольчикам отыскала пастуха. Он лежал на меховой бурке и спал.
– Добрый день, – сказала я. – Добрый день в первый и последний раз. Я очень вам благодарна.
– Не стоит, – сказал пастух, и, хотя он был старый человек, тем не менее он поцеловал мне руку.
– Зови, пожалуйста, иногда своих овец, – попросила я его. – Мутер очень одинока.
– Как же, как же, – сказал он и снова заснул.
– Спи, спи, – сказал мальчик Пипэл. – Поспи еще немного. Сон тебе поможет.
Я вернулась к канатной дороге, но Манана уже уехала, люлька, в которую она забралась со своими двумя чемоданами, миновала первый металлический столб и теперь слегка покачивалась влево–вправо. Я очень попросила механика отправить и меня, и, хотя он поворчал, мол, слишком уж это жирно, пускать канатную дорогу для двух пассажиров, у которых к тому же нет денег на билеты, я уселась в люльку и понеслась над пропастью; она начиналась сразу за площадкой.
– Между прочим, вы можете взять на чердаке цимбалы, – закричала я, – и велосипед, я не думаю, что мы вернемся, господин Ваннер.
– Возьму, возьму, не песпокойсь! – крикнул господин Ваннер и приветствовал меня, приложив руку к козырьку немецкой фуражки.
– Господи боже мой, у этой канатной дороги скорость, что у погребальной процессии, – сказала я Пипэлу, потому что он массировал мне виски. – Можно, я посплю здесь, на твоих коленях?
– Спи, – сказал он, – мне нравится с тобой сидеть. Да у меня и нет лучшего занятия.
– Ладно, как хочешь, но мы опоздаем в школу.
– Какая там школа, – сказал он, – уже без четверти шесть, ха–ха, все давным–давно кончилось.
– Меня укачивает, когда я еду вниз, – сказала я. – А пейзаж отсюда очень красивый. Видишь, вон деревни, и поле, и голубое озеро?
– Ага, – сказал он, – очень красиво.
На поляне Руйя я увидела всех остальных, они сидели по–турецки, с рупорами в руках. Меня они вначале не заметили, но потом именно я ухватила Командора.
– Манана, что делать, оставим их в покое! – крикнула я, но Манана не ответила, теперь, сидя в одиночестве, она, думаю, плакала вволю, все–таки она была мать Мутер.
– Я тебя убью, – сказала я Командору, – ты вел себя с нами как собака. Со мной наплевать, но с Мананой… Она же твоя мать, подлец… Посмотри, как она плачет, ты видишь?
И я показала ему на Манану, которая как раз в тот момент скользила по стальному тросу в люльке канатной дороги над поляной.
– Если бы не твой омерзительный нос, я плюнула бы тебе прямо в лицо. Но мне страшно взглянуть на тебя, я вижу только твои тонкие ноги, всунутые в тапочки, и каждый раз холодею, вспоминая, как ты таскаешься по Каменному дому.
– Не беспокойся, – сказал мальчик Пипэл, – я здесь, все в порядке.
– Еще долго? – спросила я.
– Нет, пять столбов, и все.
Манана со своими чемоданами сидела в камере хранения. Мы примерно с час прождали машину, и за все это время она никак себя не проявила, а когда приехал гусеничный трактор, который доставил нас потом в город, она потеряла себя окончательно, и с того момента, как я поставила чемоданы и свой рюкзак перед воротами Каменного дома, она онемела, и мне самой потом пришлось говорить с Командором и рассказывать ему, что случилось.








